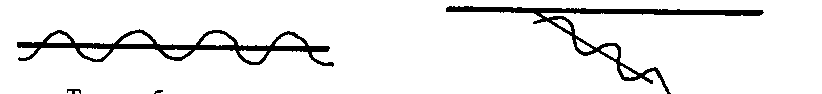
|
Узнать, как научиться водить машину, и получить практические навыки новичок сможет.. Они состоят из двух видов: освоение теории с изучением ПДД и обучение вождению. Теория изучается на занятиях в группе, а вождению обучают индивидуально. За дополнительную плату можно изучать теорию тет-а-тет с преподавателем.
|
| «Истина освободит вас» http://Istina-Osvobodit-Vas.narod.ru MarsExX Адрес (с 24 мая 2006): /tolstoy/otec.html |
|
| Бизнесмен, бросай бизнес! | Работник, бросай работу! |
Студент, бросай учёбу! | Безработный, бросай поиски! | Философ, бросай думать! | ||
|
А. Л. Толстая. Отец. Жизнь Льва Толстого. — М.: Книга, 1989. — 503 с. — Тираж 100 000 экз. Книга написана младшей дочерью Толстого — Александрой Львовной. Она широко использует документы, письма, тексты Толстого. Однако книга ценна и личными впечатлениями Александры Львовны. С большим тактом, глубиной и пониманием пишет она о семейной драме Толстых. А. Л. Толстая сумела показать на довольно небольшом пространстве, выбрав самое главное из необозримого количества материала и фактов жизни Льва Толстого, невероятную цельность, страстный поиск истины, непрерывное движение духа писателя-творца в самом высоком смысле этого слова. Печатается по изданию: Издательство имени Чехова, Нью-Йорк, 1953 год Данное издание полностью его повторяет, сохраняя особенности орфографии и синтаксиса автора.
|
| Ещё книги о Толстом (в т.ч. Александра Толстая «Дочь») и писания Льва Толстого берите в библиотеке Марселя из Казани «Из книг» и в «Толстовском листке» Вл. Мороза. |
ГЛАВА I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОЛСТОГО
ГЛАВА VIII. ПЕРВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ГЛАВА IX. ЛЕНЬ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ И БЕСХАРАКТЕРНОСТЬ. ДУНАЙ
ГЛАВА ХШ. ЛИТЕРАТОРЫ, ЗАГРАНИЦА, СМЕРТНАЯ КАЗНЬ
ГЛАВА XVI. «ПУСТЬ ПЛЮЮТ НА АЛТАРЬ»
ГЛАВА XVII. «У КАЖДОЙ ДУШИ СВОЙ ПУТЬ»
ГЛАВА XVIII. ОБЩИНА, СОЕДИНЕННАЯ СВЯЗЬЮ ЛЮБВИ
ГЛАВА XIX. СМЕРТЬ ЛЮБИМОГО БРАТА
ГЛАВА XX. «ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ»
ГЛАВА XXI. ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГЛАВА ХХIII. «НАС ТЫСЯЧИ, А ИХ МИЛЛИОНЫ»
ГЛАВА XXV. «ЕСЛИ БЫ Я КОГДА-НИБУДЬ ЖЕНИЛСЯ...»
ГЛАВА XXVI. «ЖЕНАТ И СЧАСТЛИВ»
ГЛАВА XXVII. КАК РОДИЛАСЬ «ВОЙНА И МИР»
ГЛАВА XXXI. «НАЧИНАЕТ НАХОДИТЬ ЭТА ДУРЬ»
ГЛАВА ХХХП. ХУДОЖНИК ИЛИ МОРАЛИСТ?
ГЛАВА XXXV. НАЧАЛО ОТХОДА ОТ ПРАВОСЛАВИЯ. ДОСТОЕВСКИЙ. УБИЙСТВО АЛЕКСАНДРА II
ГЛАВА XXXVI. ЖИЗНЬ НАША ПОШЛА ВРОЗЬ
ГЛАВА XXXVII. ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?
ГЛАВА ХХХVIII. «В КАКУЮ СТОРОНУ ИДТИ»
ГЛАВА XXXIX. «УМСТВЕННАЯ ПИЩА» ДЛЯ НАРОДА
ГЛАВА XL. «КАЙСЯ БОГУ, НЕ БОЙСЯ ЛЮДЕЙ»
ГЛАВА XLII. ПОПУЛЯРНОСТЬ ТОЛСТОГО РОСЛА
ГЛАВА ХLIII. «НЕ ВСЕ ВМЕЩАЮТ СЛОВО СИЕ, НО КОМУ ДАНО» (Матф. XIX, 10/11)
ГЛАВА XLIV. ОТРЕЧЕНИЕ ОТ СОБСТВЕННОСТИ
ГЛАВА XLVI. ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС
ГЛАВА LI. «НАГРАДА» И ДЕЛО СОВЕСТИ
ГЛАВА LIII. ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОЛСТОГО. «ВОСКРЕСЕНИЕ» — ДЛЯ ДУХОБОРОВ
ГЛАВА LV. ЗАХОТЕЛОСЬ НАПИСАТЬ ДРАМУ
ГЛАВА LVII. «ЗАЧАЛ СТАРИНУШКА ПОКРЯХТЫВАТЬ»
ГЛАВА LVIII. «НУЖНО УГОДИТЬ ТОЛЬКО БОГУ»
ГЛАВА LX. РЕВОЛЮЦИЯ 1905 ГОДА.
ГЛАВА LXIV. «ВСЕ ТЯЖЕЛЕЕ И ТЯЖЕЛЕЕ...»
ГЛАВА LXVII. РАДОСТЬ СОВЕРШЕННАЯ
ГЛАВА LXVIII. ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ
ГЛАВА LXIX. «НА СВЕТЕ МНОГО ЛЮДЕЙ...»
Я знаю, что эта книга моя имеет много недостатков.
Я была очень молода, когда умер мой отец: мне было двадцать шесть лет, сознательный период моей жизни с отцом был очень короткий. Поэтому мне приходилось пользоваться не только моими личными воспоминаниями, но и различными печатными источниками: книгами о Толстом, его биографиями, напечатанными дневниками и письмами. Рукописи же отца, главным образом его неизданные дневники и письма, находящиеся в Москве, были мне, разумеется, недоступны.
Кроме того, я была занята вопросами помощи беженцам. Приходилось писать только по субботам и воскресеньям и было трудно из настоящей, подчас жестокой действительности переноситься в давно минувшие счастливые годы прошлого.
Я рада, что, плохо ли, хорошо ли, я окончила свой труд, «завещанный от Бога мне грешному». Я чувствовала, что была обязана написать об отце все, что я знаю и как я понимаю его, так как всем, что во мне есть хорошего, я обязана только ему, и даже в деле создания организации, носящей его имя — Толстовского Фонда, я также ему обязана. Мне хотелось поделиться с вами, читателями, моей любовью к этому необыкновенному, милому, чуткому, веселому и привлекательному, великому в простоте своей человеку, подвести его ближе к вам...
И человек этот, мой отец, был велик тем, что всю свою жизнь, с детства, стремился к добру, и, когда ошибался, заблуждался и падал, он никогда не оправдывался, не лгал ни себе, ни людям, а подымался и шел дальше. Эти основные черты его- — смирение и скромность, недовольство собой — и побуждали его всегда подыматься выше и выше.
Я не смогла бы никогда написать этой книги без помощи старшего друга моего, выдающейся и образованнейшей женщины из наших последних могикан, графини Софии Владимировны Паниной, которая подбирала для меня материалы, давала бесценные советы, составляла библиографию и даже терпеливо и помногу раз переписывала мои рукописи.
Приношу ей мою глубокую, сердечную благодарность.
Александра Толстая
Нам трудно перенестись в далекие времена начала 19-го столетия, представить себе жизнь русских дворян-помещиков, которая дала нам Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева и Толстого. Несомненно, что жизнь того времени располагала людей этого класса к творчеству. Жили спокойно, не торопились, ездили на перекладных сотни верст, думали, читали, жгли свечи, утопали в грязи во время распутицы, рожали детей, воспитывали их в известных традициях рыцарства, храбрости, любви к родине, учили языкам, твердо верили в незыблемость государства, в свое неоспоримое право господства над крестьянами, соблюдали праздники, ходили в церковь, болели, редко обращались к докторам и спокойно, безропотно умирали, подчиняясь воле Бога. В имениях все было: коровы, овцы, свиньи, куры, индюшки, утки, густые, невпроворот, сливки, свежее масло, сдобные булки — полная чаша. Громадную роль в жизни помещиков играли лошади и собаки. Резвыми лошадьми, охотничьими собаками гордились, друг перед другом хвастались, менялись, щеголяли красивыми выездами и лихими кучерами. Никто не страдал от медленности передвижения, снежных сугробов, метелей, отсутствия ванн, оторванности от городской цивилизации. Другой жизни не знали...
Крепостные рождались и умирали в имениях, служили поколениями своим господам, часто передавая свое ремесло повара или кучера от отца к сыну. Подчас люди эти жестоко наказывались на конюшнях, но все же многие из дворовых людей врастали в семью помещика, забывали, что они крепостные, ворчали на своих господ, опекали молодых, командовали, одним словом, интересы господ сливались с их собственными и они, больше, чем сами хозяева, огорчались непорядками, болезнями лошадей и коров, неурожаем и всякими неудачами в доме и в хозяйстве.
В помещичьих усадьбах вечно толпились странники, юродивые, богомольцы, суетились приживалки, под праздники в красных углах теплились лампады, родители почитались, вообще жилось хорошо и спокойно.
В такой среде родился Лев Толстой.
Дом, где произошло это событие, уже не существует, и место, где он стоял, заросло высокими деревьями.
— Вы видите эту лиственницу, — говорил Толстой, — вот там, где эти ветки, была комната, в которой я родился...
Родился он на кожаной кушетке, которая до конца его жизни стояла в его кабинете. На этой же кушетке родились и все его дети.
Случилось это 28 августа 1828 года, в Ясной Поляне, ранее принадлежавшей деду Толстого, князю Николаю Сергеевичу Волконскому. «Строгий был человек, — говорил про него Толстой, — но я никогда не слышал, чтобы он был несправедлив к крестьянам, они ценили и любили его за его прямоту и справедливость»*. Это был один из тех гордых, независимых помещиков-
* Пересказ из воспоминаний Толстого: «Дед мой считался очень строгим хозяином, но я никогда не слыхал рассказов о его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я думаю, что они были, но восторженное уважение к важности и разумности было так велико в дворовых и крестьянах его времени, которых я часто расспрашивал про него, что, хотя я и слышал осуждения моего отца, я слышал только похвалы уму, хозяйственности и заботе о крестьянах и, в особенности, огромной дворне моего деда».
аристократов, которые никогда не склоняли голову перед сильными мира сего; умный, суровый, сдержанный в своих чувствах. Свою единственную дочь — мать Льва Николаевича — он нежно и глубоко любил и одновременно сам на себя возмущался за свои чувства к ней, к которым примешивалась и гордость, и ревность, и горечь за то, что она была дурна собой и робка. Достаточно было взглянуть на лицо этого человека, его орлиные глаза, прямой породистый нос, густые брови, изогнутый, саркастический рот, властный, выдающийся подбородок, гордый постав головы, чтобы понять, что крепостной художник, написавший его портрет, в точности передал характер князя Николая Сергеевича Волконского*.
Некоторые черты старого князя нравились его внуку. Толстой не без удовольствия рассказывал некоторые случаи, свидетельствовавшие о гордости и неподкупной честности старого князя. Случилось так, что правительству нужно было обмерить смежный с Ясной Поляной казенный лес. Землемер, которому поручена была эта работа, предложил Волконскому прирезать в его пользу большой кусок казенного леса и просил князя подарить ему за это тройку лошадей. Волконский разгневался и выгнал землемера из дома.
Портрет рыжей толстой дамы с кудельками, висевший на площадке, рядом со столовой — Вареньки Энгельгард, бывшей любовницы всемогущего Потемкина, впоследствии вышедшей замуж за князя Голицына, — много раз перевешивался с места на место и в конце концов попал на чердак. Толстой очень любил рассказывать историю о том, как князь разгневался, когда Потемкин предложил ему жениться на Вареньке. «С чего он взял, чтобы я женился на его б...», — сказал он.
Совершенно несомненно, что в описаниях старого князя Болконского в «Войне и мире» Толстой воспроизвел своего деда, князя Николая Сергеевича.
По обычаю того времени, Николай Волконский был зачислен в военную службу еще ребенком. В 1780 году он был назначен в свиту Екатерины II и присутствовал при ее свидании с Иосифом П. Затем он сопровождал императрицу в ее знаменитом путешествии в Тавриду и по возвращении был назначен послом в Берлин.
Когда, после царствования Екатерины, вступил на престол Павел, он стал проявлять исключительную строгость к военному делу. Он потребовал от Волконского особый военный рапорт и отчет по полку. Волконский принял это приказание за выражение недоверия. Как, его, боевого генерала, бывшего в свите Великой Екатерины, в чем-то подозревают и ревизуют!
Волконский сказался больным и на смотр не явился. Павел, не допускавший неповиновения, исключил его из «службы». Вся карьера Волконского была этой отставкой нарушена. Но опала Волконского длилась недолго. Через полгода он снова был призван на службу, произведен в генерал-лейтенанты, а затем назначен военным губернатором в Архангельск, с чином ген.-аншефа.
Выйдя в отставку уже стариком, Волконский поселился в своем имении, Ясной Поляне. Хозяин он был хороший и большой любитель строить, сажать деревья, всячески улучшать свое владение. Все дома Ясной Поляны, построенные
* Портрет князя Волконского находится в Ясной Поляне.
князем, отражают собой эпоху Александра I. В то время выписывались из Италии знаменитые архитекторы, создававшие свой, особый стиль построек с итальянскими полукруглыми окнами, стенами двухаршинной толщины, рустами и цоколевыми фундаментами.
В большом деревянном доме жили господа, в двух каменных флигелях — челядь. В длинном одноэтажном здании с мезонином, в стороне, Волконский устроил прядильную мастерскую, где работали крепостные женщины. Это самое красивое здание в Ясной Поляне. С годами оно вросло в землю, облезло и было обращено в скотный двор. Тем не менее пассажиры, путешествовавшие между Крымом и Москвой по Московско-Курской жел. дороге, глядя на Ясную Поляну из окон поезда, часто принимали скотный двор за дом Толстого, настолько это здание, на фоне густых лесных зарослей, выделялось красотой и гармонией архитектуры. Только крыша главного дома видна с железной дороги. Он скрыт вековыми деревьями парка. Безмолвные свидетели многих поколений, великих исторических событий, густые, толстые липы, образуя правильный квадрат в верхней части парка, стоят и до сего времени, то одеваясь в мягкие, пушистые покровы снега, то блестя тончайшими узорами седого инея... Летом солнечные лучи едва пробиваются через густую листву; воздух порой пропитан сладким ароматом липового цвета и где-то, высоко над головой, не прекращается до позднего вечера гул бесчисленного множества пчел.
По рассказам, в то время как князь гулял по аллеям, крепостной оркестр услаждал его слух духовой музыкой. В мае месяце воздух насыщен запахом сирени и, точно силясь перещеголять друг друга, все ночи напролет заливаются, цокают, изнемогают в песнях соловьи на фоне резкого, наглого, трескучего лягушачьего концерта. А у ворот круглые кирпичные башни и каменная сторожка
переносят наше воображение в те времена, когда верный часовой стоял на посту, денно и нощно охраняя княжеское имение от нежелательных посетителей.
Невольно здесь вспоминается сцена из «Войны и мира», дающая такую яркую характеристику своенравному князю Волконскому.
«Старый князь Николай Андреич Болконский в декабре 1805 года получил письмо от князя Василия, извещавшего его о своем приезде вместе с сыном...
Старик Болконский всегда был невысокого мнения о характере князя Василья, и тем более в последнее время, когда князь Василий в новые царствования при Павле и Александре далеко пошел в чинах и почестях... Он постоянно фыркал, говоря про него. В тот день, как приехать князю Василью, князь Николай Андреич был особенно недоволен и не в духе...
Однако, как обыкновенно, в 9-ом часу князь вышел гулять в своей бархатной шубке с собольим воротником и такой же шапке. Накануне выпал снег. Дорожка, по которой хаживал князь Николай Андреич к оранжерее, была расчищена, следы метлы виднелись на разметанном снегу, и лопата была воткнута в рыхлую насыпь снега, шедшую с обеих сторон дорожки. Князь прошел по оранжереям, по дворне и постройкам, нахмуренный и молчаливый.
— А проехать в санях можно? — спросил он провожавшего его до дома почтенного, похожего лицом и манерами на хозяина, управляющего.
— Глубок снег, ваше сиятельство. Я уже по прешпекту разметать велел. Князь наклонил голову и подошел к крыльцу. «Слава тебе, Господи, — подумал управляющий, — пронеслась туча!»
— Проехать трудно было, ваше сиятельство, — прибавил управляющий. — Как слышно было, ваше сиятельство, что министр пожалует к вашему сиятельству?
Князь повернулся к управляющему и нахмуренными глазами уставился на него.
— Что? Министр? Какой министр? Кто велел? — заговорил он своим пронзительным, жестким голосом, — Для княжны, моей дочери, не расчистили, а для министра! У меня нет министров!
— Ваше сиятельство, я полагал...
— Ты полагал! — закричал князь, все поспешнее и несвязнее выговаривая слова. — Ты полагал... Разбойники! Прохвосты!.. Я тебя научу полагать! — и, подняв палку, он замахнулся ею на Алпатыча и ударил бы, ежели бы управляющий невольно не отклонился от удара. — Полагал!.. Прохвосты!.. — торопливо кричал он.
Но, несмотря на то, что Алпатыч, сам испугавшийся своей дерзости — отклониться от удара, приблизился к князю, опустив перед ним покорно свою плешивую голову, или, может быть, именно от этого, князь, продолжая кричать: «прохвосты!., закидать дорогу!...» — не поднял другой раз палки и вбежал в комнаты».
Была ли эта сцена взята Толстым из жизни его деда, или же была им вымышлена, что более вероятно, но она несомненно дает чрезвычайно яркое представление о независимости и гордости князя Волконского, — старого князя Болконского по «Войне и миру».
Если князь Волконский тяжело переживал некрасивость своей дочери Марии, то он не допускал и мысли о том, чтобы его дочь была одной из рядовых, пустых, обыкновенных «барышень» аристократического круга того времени. Его дочь должна была быть образованной, и он сам учил ее. Княжна Мария знала четыре
языка, и кроме того отец заставлял ее изучать сельское хозяйство, как-то «познание хлебопашества в сельце Ясная Поляна», давал ей познания по «Математической и Политической Географии, Астрономии», изучал с ней различные управления государствами, одним словом, всесторонне развивал ее1.
Как происходили эти уроки?
Вероятно, княжна робея входила в рабочую комнату своего сурового отца, робко своими прекрасными, лучистыми глазами взглядывая на него в надежде, что сегодня она, наконец, угодит ему и все пойдет хорошо.
«Он никогда не благословлял своих детей и только, подставив ей щетинистую, еще не бритую нынче щеку, сказал, строго и вместе с тем внимательно-нежно оглядев ее: «Здорова?., ну, так садись!» Он взял тетрадь геометрии, писанную его рукой, и подвинул ногой свое кресло.
— На завтра! — сказал он, быстро отыскивая страницу и от параграфа до другого отмечая жестким ногтем.
Княжна пригнулась к столу над тетрадью...
— Ну, сударыня, — начал старик, пригнувшись близко к дочери над тетрадью и положив одну руку на спинку кресла, на котором сидела княжна, так что княжна чувствовала себя со всех сторон окруженною тем табачным и старчески-едким запахом отца, который она так давно знала.
— Ну, сударыня, треугольники эти подобны; изволишь видеть, угол abc... Княжна испуганно взглядывала на близко от нее блестящие глаза отца; красные пятна переливались по ее лицу, и видно было, что она ничего не понимает и так боится, что страх помешает ей понять все дальнейшие толкования отца, как бы ясны они ни были. Виноват ли был учитель или виновата была ученица, но каждый день повторялось одно и то же: у княжны мутилось в глазах, она ничего не видела, не слышала, только чувствовала близко подле себя сухое лицо строгого отца, чувствовала его дыхание и запах и только думала о том, как бы ей уйти поскорее из кабинета и у себя на просторе понять задачу. Старик выходил из себя; с грохотом отодвигал и придвигал кресло, на котором сам сидел, делал усилия над собой, чтобы не разгорячиться, и почти всякий раз горячился, бранился, а иногда швырял тетрадью.
Княжна ошиблась ответом.
— Ну, как же не дура! — крикнул князь, оттолкнув тетрадь и быстро отвернувшись, но тотчас же встал, прошелся, дотронулся руками до волос княжны и снова сел.
Он придвинулся и продолжал толкование.
— Нельзя, княжна, нельзя, — сказал он, когда княжна, взяв и закрыв тетрадь с заданными уроками, уже готовилась уходить, — математика великое дело, моя сударыня. А чтобы ты была похожа на наших глупых барынь, я не хочу. Стерпится — слюбится. — Он потрепал ее рукой по щеке.™ Дурь из головы выскочит».
Была ли княжна Мария счастлива в ранней молодости?
Вряд ли. Даже поездка ее с отцом в Петербург, где он водил ее по галереям и музеям с целью образования, не давала простора беззаботной жизнерадостности и веселью, столь свойственным молодости. С отцом княжна всегда робела, в обществе же она не пользовалась успехом, не привлекала внимания блестящих молодых людей. Она была одной из тех девушек, которые с затаенной горечью, грустными глазами следят за блестящими кавалерами, которые, сверкая серебром
и золотом мундиров, белыми, туго натянутыми рейтузами, лихо скользя по паркету и звеня шпорами, подлетали к хорошеньким барышням, приглашая их на вальс или мазурку, не обращая никакого внимания на умную, гордую и одинокую княжну.
Княжна была весела только со своими подругами, с m-lle Henissienne и ее приятельницей, жившими в доме Волконских, и с другими девушками. С ними она чувствовала себя легко и свободно: «Je fais de la musique, je ris et je folatre avec Tune et je parle sentiment, je medis du monde frivole avec l'autre, je suis aimee a la folie par toutes les deux»,* — пишет она про свои отношения с этими девушками. Она, несомненно, выделялась своим умом, образованием и остроумием в их среде. Иногда, собравшись в укромном уголке, княжна рассказывала своим сверстницам всевозможные истории, сочиняя их по мере рассказа, и слушательницы увлекались не меньше самой рассказчицы.
Какие же черты унаследовал Лев Толстой от своего деда Волконского и своей матери Марии Николаевны?
Он несомненно унаследовал от деда подлинный аристократизм духа, здоровую гордость, выражающуюся в пренебрежении к сильным мира. От матери Толстой унаследовал художественный талант, способность к образному повествованию, поэтическую мечтательность, необычайную скромность, презрение к мнению людскому и застенчивость.
В характере его воплотилось множество самых разнообразных черт его предков и родителей. Его многогранное, разностороннее существо выткано из тончайших нитей не только этих наследственных черт, но и быта, и воспитания, и даже той русской природы и русских простых людей, особенно крестьян, среди которых он вырос.
Толстой кажется нам простым, а вместе с тем в своей простоте он необычайно сложен. Он кажется нам твердым, а вместе с тем он мягок, как воск; он вспыльчив, резок, требователен, как дед его Волконский, и в то же время он нежен и всепрощающ. Он горд, в нем сильно сознание человеческого достоинства, но вместе с тем он полон истинного смирения, доходящего до полного самобичевания и даже самоуничижения. Но главная его черта, которая красной нитью проходит через всю его жизнь, это — «любовь к любви» — любовь всепоглощающая, озаряющая всю его жизнь, любовь благодарная, любовь к природе, к людям, к животным, и вытекающая из этой любви мягкость и доброта.
Откуда у Толстого эта доброта? От матери? Несомненно.
Но возможно, что Толстой унаследовал одну из ярких черт своего деда со стороны отца — графа Ильи Андреевича Толстого. Про старого графа говорили, что он никогда не мог никому ни в чем отказывать. Этим свойством в полной мере обладал и его внук. Отказывать просящему Толстому было очень трудно.
Толстой всегда ласково говорил о своем деде, и в семье Толстого к Илье Андреевичу питали особую симпатию. Было что-то необычайно ласковое, добродушно-милое в этом толстом, розовом, блинообразном лице, отражающем в себе всю его несложную натуру. Толстой, смеясь, любил рассказывать, как, по преданию, дед его устраивал необыкновенные пиры, выписывая для этих событий осетрину прямо из Астрахани, как он посылал обоз с крепостными людьми по
* «Я занимаюсь музыкой, смеюсь и дурю с одной, говорю о чувствах, пересуживаю легкомысленный свет с другой, любима до безумия обеими».
первопутку в Голландию, которая, как известно, славится своей необыкновенной стиркой и крахмаленьем белья, и как обоз едва успевал возвращаться в Москву по последнему снегу.
Безалаберный, добрый, хлебосольный граф Илья Андреевич не умел считать денег, любил угощать, принимать гостей. В 1815 году его назначили губернатором в Казань, но по мягкости своей он распустил всю администрацию, так как выговоров делать не мог. Администрация пользовалась его мягкостью и добротой, пошли злоупотребления. О положении вещей в Казани сделали донос в Петербург. Сенат назначил специальную комиссию для расследования дела. Графа Толстого уволили, но до конца расследования обязали остаться в Казани. Добрый, легкомысленный старик не выдержал позора. Умер ли он от глубокого потрясения или покончил с собой, так и осталось неизвестным.
Отцу Льва Николаевича Толстого, Николаю Ильичу, было в то время 25 лет. Как снег на голову, навалились заботы на жизнерадостного, красивого молодого человека.
Может быть, сын в то время ясно и не сознавая всей безвыходности материяльного положения своего отца. С родителями он подолгу не живал. Ему не было еще и 18 лет, когда он, увлеченный войной с французами, против воли своих родителей пошел на военную службу.
Как это часто бывает с очень молодыми людьми, Николай искал подвигов, геройских поступков в войне, но он быстро разочаровался, увидав, как он писал родителям, «...места верст на десять засеянные телами...».2 Он почувствовал к войне такое отвращение, что, несомненно, отказался бы от военной карьеры, если бы не традиции чести, столь характерные для людей его круга и времени.
Когда, после смерти отца, Николаю Ильичу пришлось принять дела, он был уже подполковником в отставке и служил в московском военно-сиротском отделении.
Все состояние старого графа ушло на уплату его долгов. На руках у Николая оказалась его старушка-мать, рожденная княжна Горчакова, избалованная, привыкшая с детства к большой роскоши, и сестра его Aline Остен-Сакен; младшая сестра, Пелагея Ильинична, уже была замужем за Юшковым и жила в Казани.
Тетушка Алин — Александра Ильинична — молоденькой девушкой вышла замуж за графа Остен-Сакен. Казалось, что партия эта была блестящей, но вскоре после свадьбы граф стал проявлять признаки ненормальности. По-видимому это была мания преследования.
Как-то, «вставши рано утром, он объявил жене, что единственное средство спасения состоит в том, чтобы бежать, что он велел закладывать коляску, и они сейчас едут, чтобы она готовилась...
На пути он достал из ящика два пистолета, взвел курок и, дав один тетушке, сказал ей, что если только враги узнают про его побег, они догонят его, и тогда они погибли, и единственное, что им остается сделать, это убить друг друга... На беду, на проселочной дороге, выходившей на большую, показался экипаж, и он вскрикнул, что все погибло, и велел ей стрелять в себя, и сам выстрелил в упор в грудь тетушки. Должно быть, увидав, что он сделал, и то, что напугавший его экипаж проехал в другую сторону, он остановился, вынес раненую, окровавленную тетушку из экипажа, положил на дорогу и ускакал. На счастье тетки, скоро на нее наехали крестьяне, подняли ее и свезли к пастору, который, как умел,
перевязал ей рану и послал за доктором... В то время, как она, выздоравливая, все еще беременная, лежала у пастора, муж ее, опомнившийся, приезжал к ней и, рассказав пастору историю о том, как она нечаянно была ранена, попросил свидания с ней. Свидание это было ужасно; он, хитрый, как все душевнобольные, притворился раскаивающимся в своем поступке и только озабоченным ее здоровьем. Посидев с ней довольно долго, совершенно разумно обо всем разговаривая, он воспользовался той минутой, когда они остались одни, чтобы попытаться исполнить свое намерение. Как бы заботясь о ее здоровье, он попросил ее показать ему язык, и, когда она высунула его, схватился одной рукой за язык, а другой выхватил приготовленную бритву с намерением отрезать его. Произошла борьба, она вырвалась от него, закричала, вбежали люди, остановили и увели его».
Граф Остен-Сакен попал в сумасшедший дом, а Алин поселилась у матери и брата.
Николай Ильич оказался в тяжелом положении. В доме, в имении Никольском-Вяземском, был заведен известный train жизни со старыми, вросшими в жизнь слугами, с родственниками, приживалками, которых надо было содержать. А между тем он не мог взять на себя имущество отца, так как долги превышали его состояние. Молодому графу пришлось отказаться от всего. Он оставил себе только родовое имение Никольское-Вяземское, которое со временем очистил от долгов.
Услужливые родные стали искать Николаю богатую невесту. Выбор их пал на княжну Марию Николаевну Волконскую.
Княжна Мария была старше Николая на четыре года. Она была богата, одинока, суровый отец ее умер, женихов не было, и по понятиям того времени, в 34 года девушка уже считалась засидевшейся старой девой.
Брак графа Николая Ильича Толстого с княжной Марией Волконской был, что называется, браком по расчету. Лев Толстой, будучи стариком, говорил, что очень часто браки, при которых, как было принято в старину, особенно в крестьянских семьях, заочно сватали жениха и невесту, бывали счастливее браков по увлечению. Бурная страсть и увлечение проходят. Важно, чтобы оставалось уважение друг к другу, главным же связующим звеном являются дети, составляющие смысл и интерес супружеской жизни. И Толстые были счастливы в продолжение того короткого времени, что они прожили вместе. Мария Николаевна была глубоко привязана к своему мужу как отцу своих детей, он же питал к ней уважение и был искренно ей предан.
Толстые поселились в Ясной Поляне, в имении Волконских. Николай Ильич достроил большой дом, начатый старым князем, в котором родился Лев Толстой, хозяйничал, держал охоту, но часто уезжал из дома, ведя процессы по запутанным делам своего отца и постепенно приводя их в порядок. Зато, когда он бывал дома, — все оживало. Он шутил с домашними, смешил всех своими остротами, добродушно подсмеивался над приживалками и старыми служащими, возился с детьми, был почтительно ласков с обожавшей его старушкой-матерью.
«Отец был среднего роста, хорошо сложенный, живой сангвиник с приятным лицом и с всегда грустными глазами, — пишет Толстой в своих воспоминаниях. — ...Но более всего я помню его в связи с псовой охотой. Помню его выезды на охоту. Мне всегда потом казалось, что Пушкин списал с них свой выезд на охоту мужа в «Графе Нулине».
Образ прекрасно сложенного, ловкого отца, легко и свободно, по-кавалерийски сидящего на доброй лошади, ярко запечатлелся в памяти мальчика. Он — отец — высшее существо в центре всеобщего внимания. Чувствуется общее напряженное волнение, как всегда пред охотой, нервно повизгивают собаки, крутятся, покрикивая на собак, лихие наездники-молодцы, любимцы Николая Ильича, Петруша и Матюша, с узкомордыми, с выгнутыми спинами и поджарыми животами борзыми, с любимицей графа черноглазой, резвой Милкой в первой своре.
Может быть, маленький Левочка, наблюдая всю эту картину, жалел, что он еще не вырос и не может поспевать за отцом, ездить часами по золотым, шелестящим под копытами лошадей, залитым косым, холодным осенним солнцем, опустошенным жнивьям, выискивая затаившегося под межой русака...
Не от отца ли унаследовал Лев Толстой приветливость, ласковое обращение с людьми, веселое остроумие, любовь к природе, охоте, физическую силу, ловкость, граничащую с молодечеством.
Николай Ильич часто уезжал, а Мария Николаевна тихо вила свое домашнее гнездо в Ясной Поляне. Окруженная верными слугами, поглощенная заботой о детях, домашним хозяйством, она оставалась той же романтически-художественной, несколько сентиментальной натурой, как и раньше. Она занималась музыкой, много читала, даже сочиняла стихи:
О, amour conjugal! Doux lien de nos ames!
Source, aliment de nos plus doux plaisirs!
Remplis toujours nos coeurs de ta celeste flamme
Et аи sein de la paix couronne nos desirs.
Je ne demande au ciel ni grandeur, ni richesse,
Mon sort tranquille suffit a mes vceux;
Pourvu que mon epoux me gardant sa tendresse
Autant qu'il est cheri soit toujours heureux.
Que notre vie s'ecoule comme un ruisseau paisible,
Que ne laisse de traces que parmi les fleurs,
Qu'au plaisir d'aimer toujours plus sensibles
Nous fixions pres de nous le fuqitif bonheur;
Oui, mon cceur me le dit, ce destin qu'on envie,
Le ciel, dans sa bonte, Га garde pour nous deux,
Et ces noms reunis, Nicolas et Marie,
Designeront toujours deux mortels heureux,* —
писала она, тоскуя по муже в один из его отъездов.
Со всей страстью матери она отдалась воспитанию своих детей. Их было пятеро: Николай, Сергей, Дмитрий, Лев и Мария.
* О, супружеская любовь! Нежная связь наших душ!
Источник, питающий наши сладчайшие наслаждения!
Согревай всегда наши сердца твоим небесным пламенем!
И в лоне тишины венчай наши желания!
Я не прошу у неба ни знатности, ни богатства,
Мой спокойный жребий удовлетворяет мои желания.
Только бы мой супруг сохранил свою нежность ко мне!
И был всегда столь же счастлив, сколь он любим!
Пусть наша жизнь течет, как тихий ручеек,
Струящийся только среди цветов,
Чтобы радостями любви, все более и более осязаемой,
Мы закрепили за собой преходящее счастье!
Да, мое сердце говорит мне, что ату завидную долю
Небо сохранило для нас по своей благости.
И эти соединенные имена — Николай и Мария —
Всегда будут обозначать двух счастливых смертных!
Мать! Какое великое значение Толстой придавал этому слову. В нем видел он главное, святое назначение женщины, в нем воплощал он всю ту нежность, заботу и ласку, которых он так жаждал в детстве и которых никогда не имел. Трудно поверить, что матери своей он не помнил, но он создал в душе своей чудный образ ее, который не только всю жизнь чтил и любил, но и отображал в своих художественных произведениях.
«Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне. и эта молитва всегда помогала мне».
Ему было только полтора года, когда она умерла, и он ее не помнил, и вместе с тем он представлял себе ее как живую: «из больших глаз ее светились лучи доброго и робкого света. Глаза эти освещали все болезненное худое лицо и делали его прекрасным».
Из журнала о поведении старшего сына Николеньки видно, сколько мыслей и сил Мария Николаевна посвящала воспитанию своих детей:
«14 мая, 1828 года: Николенька был целый день очень умен и послушен... Жаль только, что он трусоват; к вечеру, гуляя со мной, он испугался жука...»3
«Николенька с утра был умен, — пишет она 16 мая, — читал очень хорошо; но читая о птичке, которую застрелили, и которая умерла, ему так стало ее жаль, что он заплакал...»
Год спустя она записывает в тот же журнал: «Если он (Николенька) будет привыкать преодолевать свой страх, то он сделается со временем храбр, как должен быть сын отца, который хорошо служил отечеству» .
Из этих и других ее записей видно, что уже с этого возраста Мария Николаевна внимательно анализирует особенности характера своего старшего сына и старается выравнивать те или иные его недостатки, привить ему храбрость, религиозность, чувство долга, прилежание, доброту — все те качества, которыми она сама обладала.
В большом деревянном трехэтажном доме, с его 40 комнатами, шла особая жизнь. Дети воспитывались старой няней Аннушкой, которой было 100 лет, когда родился Левочка. Старушка эта помнила Пугачева. «У ней были очень черные глаза и один зуб. Она была той старости, которая страшна детям».
Ее сменила няня Татьяна Филипповна, небольшая, «смуглая, с пухлыми маленькими руками... Это было одно из тех трогательных существ из народа, которые так сживаются с семьями своих питомцев, что все свои интересы переносят в них», — писал Толстой в своих воспоминаниях.
В особых покоях, пользуясь почетом и уважением всей семьи, жила графиня Пелагея Николаевна — бабушка, со своими слугами, приживалками, даже со своим слепым сказочником, купленным графом Ильей Андреевичем из-за его мастерства рассказывать сказки.
Странникам, юродивым, дурачкам, Божьим людям никогда не отказывали в приюте. Мария Николаевна любила слушать их незамысловатые рассказы. Их принимали ласково, кормили, поили, даже снабжали деньгами на дальнейший путь. Когда один за другим у Толстых родились четыре сына и им хотелось иметь хоть одну девочку, то Мария Николаевна дала обещание, что если родится у нее дочь, то она вызовет к ней в крестные матери первую встречную на большой дороге женщину, кто бы она ни была. Когда действительно родилась девочка, Мария Николаевна исполнила свое обещание. Она послала человека на большую дорогу с тем, чтобы привести в графский дом первую встречную женщину. Этой женщиной оказалась полоумная юродивая странница Мария Герасимовна, одетая мужчиной. Она окрестила маленькую Толстую, которой дали имя ее крестной матери — Мария.
В общем укладе жизни Толстых важное значение имела старая экономка Волконских, глубоко преданная Марии Николаевне, религиозная и, наверное, как все эти старые, вжившиеся в уклад помещичьего дома крепостные, — уютная старушка Прасковья Исаевна, со своими рассказами о генерал-аншефе Волконском, ласковым ворчаньем, коваными сундуками и курением душистой смолы в комнатах для очищения воздуха (открытых окон в то время боялись).
По-видимому, все в доме любили и уважали Марию Николаевну. И после ее смерти дом осиротел.
«Самое же дорогое качество ее, — писал Лев Толстой в своих воспоминаниях, — было то, что она, по рассказам прислуги, была хоть и вспыльчива, но сдержанна. "Вся покраснеет, — рассказывала мне ее горничная, — даже заплачет, но никогда не скажет грубого слова"».
Смерть Марии Николаевны была первым горем, потрясшим семью Толстых. Дети потеряли разумную, нежную, заботливую мать, все они были еще совсем маленькие, старшему, Николеньке, было только шесть лет.
Умерла Мария Николаевна от какой-то непонятной болезни через несколько месяцев после рождения своей единственной дочки. Кто говорил, что она умерла от «горячки», а кто называл ее болезнь воспалением мозга. Старая ее служанка рассказывала, что смерть ее произошла от ушиба. Она любила качаться на качелях. Раз она качалась со своими девушками и они старались раскачать ее как можно выше. Кончилось это тем, что доска сорвалась и ударила ее так сильно, что она ухватилась руками за голову и долго так стояла не в состоянии произнести ни слова. Крепостные девушки испугались, боясь, что их накажут за их неосторожность, но Мария Николаевна их успокоила:
— Ничего, ничего, — сказала она наконец, — не бойтесь, я никому не скажу. После ее смерти пятеро сирот остались на попечении Николая Ильича и тетушек.
Как сложилась бы жизнь Льва Толстого, если бы он получил свое первое воспитание от своей матери и она дала бы своему маленькому «Веньямину», как она называла его, всю ту нежность и ласку, которой он так жаждал? В своем народном рассказе «Чем люди живы», который он, так же как и рассказ «Где любовь, там и Бог», считал лучшими произведениями, которые он когда-либо написал, мы встречаем мысль о том, что «пути Господни неисповедимы». Ангел смерти вынул душу из матери, родившей двух девочек-близнецов. И смерть эта послужила на пользу и девочкам и той женщине, которая их подобрала и воспитала.
Может быть, мать удержала бы своих детей от многого дурного, и в жизни Толстого не было бы бездны тех падений, которые впоследствии так его мучали... Может быть, не было бы мук раскаяния и тех могучих взлетов кверху, которые мы наблюдаем в продолжение всей его жизни.
Дети Толстые остались на попечении старой бабушки, глубоко религиозной, доброй тетушки Александры Ильиничны, но главную заботу и воспитание детей взяла на себя тетенька Татьяна Александровна Ергольская, третье, по словам Толстого, после отца и матери лицо в смысле влияния на его жизнь. Она была очень дальняя родственница бабушки по Горчаковым. Она и сестра ее Лиза остались маленькими девочками, бедными сиротками, от умерших родителей. Было еще несколько братьев, которых родные как-то пристроили. Девочек же порешили взять на воспитание знаменитая в своем кругу, властная и важная Татьяна Семеновна Скуратова и Пелагея Николаевна Толстая; свернули билетики, положили их под образа и, помолившись, вынули. Лизонька досталась Скуратовой, а черненькая Танечка — бабушке.
Танечка была одних лет с Николаем Ильичей, воспитывалась наравне с Пелагеей и Александрой Ильиничной и была всеми нежно любима, да и нельзя было не любить ее за твердый, решительный и энергичный характер. Она была очень привлекательна со своей жесткой, черной, курчавой, огромной косой и агатово-черными глазами с оживленным, энергическим выражением.
«Когда я стал помнить ее, ей было уже за сорок, — пишет Толстой в своих воспоминаниях, — и я никогда не думал о том, красива или некрасива она. Я просто любил ее, любил ее глаза, улыбку, смуглую, широкую маленькую руку с энергической поперечной жилкой».
Тетенька Татьяна Александровна была одной из тех цельных, сильных, самоотверженных натур, которые умеют любить, жертвуя собой, с огромным чувством долга и самоотречения, в которых она видела цель и смысл и, может быть, радость своего существования.
«Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери; впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами...».
Никто не подозревал об истинных отношениях ее к Николаю Ильичу. Никто до ее смерти не знал и о записочке Ергольской от 16 августа 1836 г., где она пишет: «Николай сделал мне сегодня странное предложение — выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их не покидать. В первом предложении я отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива» .
А на другом обрывочке почтовой бумажки, найденном после ее смерти, оказалась следующая запись: Il у a des blessures qui ne se ferment jamais, je ne parle pas des chagrins qui dans ma jeunesse vinrent m'assaillir. Le plus vif, le plus cuisant, le plus sensible fut la perte de N. Elle me dechira le cceur et je ne connais bien que de ce moment que je I'avais tendrement aime».
(«Бывают раны, которые никогда не заживают. Я не говорю о тех печалях, которыми было полно мое детство. Самым живым, жгучим, болезненным горем была утрата Н. Она мне растерзала сердце, и только с этого момента поняла я по-настоящему, как нежно я его любила».)
«Главная черта ее была любовь, но как бы я ни хотел, чтобы это было иначе — любовь к одному человеку — к моему отцу. Только уже исходя из этого
центра, любовь ее разливалась и на всех людей. Чувствовалось, что она и нас любила за него, через него и всех любила, потому что вся жизнь ее была любовь», — пишет Толстой. В другом месте он продолжает: «...Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью.
Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни».
«Вот первые мои воспоминания:... я связан; мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать, и я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мною стоят нагнувшись кто-то, я не помню кто, и все это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них; они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то-есть, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собой. Я не знаю и никогда не узнаю, что такое это было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руки, или это пеленали меня уже, когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи; собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятны мне не крик мой, не страдания, но сложность, противоречивость впечатлений. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня, и я, кому все нужно, я слаб, а они сильны.
Другое впечатление — радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает новый не неприятный запах какого-то вещества, которым трут мое маленькое тельце. Вероятно, это было отруби, и вероятно, в воде и корыте, но новизна впечатлений отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил свое тельце, с видными мне ребрами на груди, и гладкое, темное корыто, засученные руки няни, и теплую парную стращенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками.
Странно и страшно подумать, что от рождения моего и до трех, четырех лет, в то время, когда я кормился грудью, меня отняли от груди, я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти ни одного воспоминания, кроме этих двух. Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда, а бывало страшно; как и теперь страшно многим, представлять себя тогда, когда я опять вступлю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выразимых словами. Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, когда спал, сосал грудь и целовал грудь и смеялся и радовал мою мать? Я жил, и блаженно жил. Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того». Сознание проснулось в Толстом очень рано. В самом раннем детстве обнаружились некоторые черты его характера, которые остались в нем на всю жизнь.
«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! — пишет он в своей повести «Детство». — Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней! Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений...»
«...Все окружавшие мое детство лица — от отца до кучеров — представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чистое, детское любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства, и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо больше правда, чем то, когда я видел одни их недостатки».
Маленький Левочка не хотел видеть этих недостатков. Мир был для него прекрасен, и он любил этот мир и всех живущих в нем. Человеческой жестокости, несправедливости, раздражения понять и воспринять он не мог, зло было для него бессмыслицей, ненужным осквернением и извращением бесподобного чуда жизни.
Зачем секли слугу на конюшне? Он был в отчаянии, когда узнал об этом, и отчаяние его увеличилось, когда он понял, что это было сделано без ведома его отца, и что, если бы он во-время сказал об этом тетеньке или отцу, он мог бы предотвратить эту ненужную жестокость. Зачем добрейший учитель Федор Иванович вешал собаку, которой переехали лапу? Зачем Прасковья Исаевна, которую он так любил, ставила ему клистир, который был предназначен его брату, и не поверила Левочке, когда он ее уверял, что клистир ему не нужен?
«Кто из живых людей не знает того блаженного чувства, хоть раз испытанного, и чаще всего только в самом раннем детстве, когда душа не была еще засорена всей той ложью, которая заглушает в нас жизнь, — того блаженного чувства умиления, при котором хочется любить всех: и близких, и отца, и мать, и братьев, и злых людей, и врагов, и собаку, и лошадь, и травку; хочется одного — чтобы всем было хорошо, чтобы все были счастливы, и еще больше
хочется того, чтобы самому сделать так, чтобы всем было хорошо, самому отдать себя, всю свою жизнь на то, чтобы всегда и всем было хорошо и радостно. Это-то и есть, и эта одна есть та любовь, в которой жизнь человека».
И жизнерадостный, широколицый, живой мальчуган, Левка-пузырь, с полным доверием и готовностью любил все и всех, удивлялся и недоумевал, если не встречал того же. Он всех любил, но из братьев и сестер глубже и серьезнее относился к старшему брату Николаю. Николенька. со своей скромностью, низким о себе мнением, презрением к мнению людскому, умом и серьезностью, был более всех похож на мать.
«Николиньку я уважал, с Митенькой я был товарищем, — пишет Толстой, — но Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, хотел быть им. Я восхищался его красивой наружностью, его пением, — он всегда пел, — его рисованием, его веселием и, в особенности, как ни странно сказать, его непосредственностью, его эгоизмом. Я всегда себя помнил, себя сознавал, всегда чуял, ошибочно или нет, то, что думают обо мне и чувствуют ко мне другие, и это портило мне радости жизни. От этого, вероятно, я особенно любил в других противоположное этому — непосредственность, эгоизм. И за это любил особенно Сережу — слово любил неверно. Николиньку я любил, а Сережей восхищался, как чем-то совсем мне чуждым, непонятным. Это была жизнь человеческая, очень красивая, но совершенно непонятная для меня, таинственная, и потому особенно привлекательная.
...С Николенькой мне хотелось быть, говорить, думать, с Сережей мне хотелось только подражать ему».
Жил маленький Левочка до пяти лет в детской с девочками — сестрой Машенькой и приемной девочкой Дунечкой — под присмотром тетушки Татьяны Александровны и няни. Про эту Дунечку Толстой пишет: «Дунечка... была милая, простая, спокойная, но не умная девочка и большая плакса. Помню, как меня, обученного уже французской грамоте, заставили учить ее буквы. Сначала у нас дело шло хорошо (мне и ей было по пяти лет), но потом, вероятно, она устала и перестала называть правильно ту букву, которую я ей показывал. Я настаивал. Она заплакала. Я тоже. И когда на наш рев пришли, мы ничего не могли выговорить от отчаянных слез».
Переселение вниз к старшим братьям, на попечение учителя Федора Ивановича Ресселя, было для Левочки настоящим горем. Вот что он говорит об этом событии в своих воспоминаниях:
«При переводе моем вниз к Федору Ивановичу и мальчикам я испытал в первый раз и потому сильнее, чем когда-либо после, то чувство, которое называют чувством долга, называют чувством креста, который призван нести каждый человек. Мне было жалко покидать привычное (привычное от вечности), грустно было, поэтически грустно, расставаться не столько с людьми, с сестрой, с няней, с теткой, сколько с кроваткой, с положком, с подушкой, и страшна была та новая жизнь, в которую я вступал. Я старался находить веселое в той новой жизни, которая предстояла мне, я старался верить ласковым речам, которыми заманивал меня к себе Федор Иванович; старался не видеть того презрения, с которым мальчики принимали меня, меньшого, к себе, старался думать, что стыдно было жить большому мальчику с девочками и что ничего хорошего не было в этой жизни наверху с няней, но на душе было страшно грустно, и я знал, что я
безвозвратно терял невинность и счастие, и только чувство собственного достоинства, сознание того, что я исполняю свой долг, поддерживало меня».
Немец-учитель Федор Иванович Рессель, к которому перевели маленького Льва, был малокультурный, сентиментальный, но добрейший человек, один из тех, которые сживаются с семьей и горячо привязываются к ней. Дети его любили, но, как это часто бывает в детстве, Левочка осознал свою любовь к Федору Ивановичу только тогда, когда лишился доброго своего воспитателя.
Иногда отец спускался вниз к сыновьям, рисовал им картинки, играл с ними. По вечерам Левочка любил сидеть в гостиной и следить за тем, как важная бабушка «с своим длинным подбородком, в чепце с рюшем и бантом... раскладывает карты, понюхивая изредка из золотой табакерки.» Тут же около круглого стола из красного дерева сидят тетушка Александра Ильинична и Татьяна Александровна и одна из них читает вслух. «...Раз, в середине пасьянса и чтения, отец останавливает читающую тетушку, указывает в зеркало и шепчет что-то... Это официант Тихон, зная, что отец в гостиной, идет к нему в кабинет брать его табак из большой, складывающейся розанчиком, кожаной табачницы. Отец видит его в зеркало и смеется на его на цыпочках осторожно шагающую фигуру. Тетушки смеются. Бабушка долго не понимает, а когда понимает — радостно улыбается». Левочка восхищается отцом, его добротой, радуется и, прощаясь с ним, с особенной нежностью целует его белую жилистую руку.
Бабушка — важная, все уважали и побаивались ее. Но и она принимала иногда участие в общем веселии. Два камердинера отца на руках вывезли бабушку в мелкий Заказ для «сбора орехов, которых в этом году было особенно много, — пишет Толстой в своих воспоминаниях. — Помню чащу частого и густого орешника, в глубь которого, раздвигая и ломая ветки, Петруша и Матюша ввозили желтый кабриолет с бабушкой, и как нагибали ей ветки с гроздями спелых, иногда высыпавшихся орехов, и как бабушка сама рвала их и клала в мешок, и как мы где сами гнули ветки, где Федор Иванович удивлял нас своей силой, нагибая нам толстые орешины, а мы обирали со всех сторон и все-таки видели, что еще оставались не замеченные нами орехи, когда Федор Иванович пускал их и кусты, медленно цепляясь, расправлялись. Помню, как жарко было на полянках, как приятно, прохладно в тени, как дышалось терпким запахом орехового листа...»
Что может быть разнообразнее природы средней полосы России с ее суровыми зимами, снежными заносами, метелями, узкими, наезженными санями дорогами, утыканными редкими вешками, указывающими путь одинокому, укутанному в тулуп путнику, плетущемуся в санях на лохматой лошаденке. В снежные зимы крестьянские дома заносит так, что их приходится откапывать и наезженная по улице дорога проходит почти на уровне крыш. Зима сменяется бурной распутицей, разливаются реки, и люди неделями оторваны от селений и городов. Скрываются под бурным потоком или совсем срываются вырвавшимися из берегов бушующими реками деревянные мосты. Но солнце уже греет. Тяжелые полушубки и тулупы более не нужны, валенки заменяются болотными, густо смазанными салом сапогами, не пропускающими воду, у сараев и заборов робко пробиваются буро-красные ростки крапивы и цикория, постепенно уменьшаются и исчезают в оврагах и канавах крепко слежавшиеся грязноватые полотна снега, просыхают и сравниваются колеи мягких проселочных дорог, и в деревнях слышится радостное мычание коров и блеяние овец, вырвавшихся, после длинного зимнего заключения, на свободу. На пригорках зацветают голубые поля незабудок, леса кишат
душистыми ландышами, лопаются и распускаются почки на могучих дубах...
Нельзя сказать, чтобы Толстой «любил» Яснополянскую природу, он был частью ее, он жил в ней и с нею. Он любил и Заказ, прорезанный глубоким оврагом, на дне которого весной журчал тоненький ручеек, омывая куски причудливой формы железной руды, и около которого он просил себя похоронить; он любил холмы, луга, где капризными изгибами извивалась узкая, но глубокая речка Воронка, кишащая рыбой и раками, которых мальчишки, пасущие на лугу лошадей, руками таскали из нор крутых берегов и тут же пекли на кострах. Толстой любил дремучие леса казенной Засеки, тянущейся до самой Калужской губернии, с ее широкими просеками, размытыми, не просыхающими даже в самую жаркую летнюю пору дорогами, таинственными тропинками, папоротниками и грибами... Любил он и восточную степную часть Ясной Поляны, где глазам открывался широкий простор, где с раннего утра до ночи, то вспахивая, то засевая, то убирая полоски своих наделов, трудились крестьяне. С раннего детства одним из любимых местечек Толстого была деревня Грумонт, находящаяся в трех верстах от Ясной Поляны. Здесь под горой, в овраге, был замечательный ключ, который славился на всю округу. Вода была настолько хороша, что одно время Толстые посылали туда ежедневно бочку за питьевой водой. В воспоминаниях своих Толстой описывает одну из поездок в Грумонт.
«Подъезжает линейка с балдахином и фартуком. Николай Филипыч правит. Запряжены неручинские гнедые, левая светло-гнедая, широкая и правая темная, костлявая, «с крепотцой», как говорил Николай Филипыч. За линейкой большая гнедая в желтом кабриолете.
Тетенька и девочки усаживаются по-своему. Наши же распределены места раз навсегда определенно. Федор Иванович садится с правой стороны и правит, рядом с ним Сережа и Николенька: кабриолет так глубок, что за ними садимся мы — я и Митенька — спинами врозь, к бокам, ногами вместе. Вся дорога мимо гумна по Заказу... — одно наслаждение... Переезжаем мост, едем вдоль реки... и поднимаемся на гору, на деревню, и въезжаем в ворота, в сад и к домику. Лошадей привязывают. Они топчут траву и пахнут потом так, как никогда уже после не пахли лошади. Кучера стоят в тени дерев. Свет и тени бегают по их лицам, добрым, веселым, счастливым лицам. Прибегает Матрена-скотница, в затрапезном платье, говорит, что давно ждала нас, и радуется тому, что мы приехали. И я не только верю, но не могу не верить, что все на свете только и делают, что радуются. Радуется Матрена, тетенька, расспрашивая ее с участием об ее дочерях, радуются собаки..., радуются куры, петухи, крестьянские дети, радуются лошади, телята, рыбы в пруду, птицы в лесу. Матрена и ее дочь приносят большой посоленый кусок черного хлеба, раскрывают удивительный, необыкновенный стол и ставят мягкий сочный творог с отпечатками салфетки, сливки, как сметана, и крынки с свежим цельным молоком. Мы пьем, едим, бегаем к ключу, пьем там воду, бегаем вокруг пруда, где Федор Иванович пускает удочки, и, побыв полчаса, час на Грумонте, возвращаемся таким же путем, такие же счастливые».
В будни работали, в праздники ходили в церковь и веселились. Особенно весело справляли святки. Спокон веков велось на Руси, что святками наряжаются, под новый год гадают. В доме Толстых шло веселье: дворовые все, очень много, человек тридцать,наряжались, приходили в дом и играли в разные игры и плясали под игру старика Григория... Это было очень весело. Ряженые были, как всегда,
медведь с поводырем и козой, турки и турчанки, крестьянки — мужчины и мужики — бабы.
«Помню, — пишет Толстой в своих воспоминаниях, — как казались мне красивы некоторые ряженые и как хороша была особенно Маша-турчанка... И очень я себе казался хорош с усами, наведенными жженой пробкой... Глядя в зеркало на свое с черными усами и бровями лицо, я не мог удержать улыбки удовольствия, а надо было делать величественное лицо турка. Ходили по всем комнатам и угощались разными лакомствами».
«Левочка был всегда жизнерадостный, — рассказывала про него его сестра Мария Николаевна, — Казалось, что от жизни он ждет только хорошего, и, когда было плохое, он огорчался, но не плакал, плакал он больше, когда его что-нибудь трогало. Кто-нибудь приласкает его, он заплачет. Вбежит, бывало, в комнату, сияющий, лучезарный какой-то, точно сделал какое-то важное открытие, которое хочет всем сообщить. Любил выкинуть что-то необыкновенное, всех удивить» .
Так, однажды, когда семья Толстых жила уже в Москве, Левочка вообразил, что он может летать. Кто из нас в детстве не испытал блаженного чувства полетов во сне, когда каким-то усилием воли вдруг чувствуешь, что ты можешь взлететь, поднимаешься, паришь под потолком, и сон этот настолько реален, что кажется действительностью.
Не то ли испытал маленький Лев, когда в ярком воображении своем, граничащем с фантазией, он решил, что постиг тайну полета и что, если только он изо всех сил сожмет ручонками колени и бросится вниз, он будет как птица парить в воздухе. Когда все ушли обедать, он решился осуществить свой план, «взлез на отворенное окно мезонина и выпрыгнул во двор... нашли Левочку лежащим во дворе и потерявшим сознание. К счастью, он ничего себе не сломал, и все ограничилось только легким сотрясением мозга: бессознательное состояние перешло в сон, он проспал подряд 18 часов и проснулся совсем здоровым» .
Легко можно себе представить, с каким восторгом воспринял пятилетний Левочка вымысел старшего брата Николеньки, также обладавшего большой фантазией и способностью рассказывать, очевидно унаследованной им от матери, о Фанфароновой горе и Муравейных братьях.
«Да, Фанфаронова гора, — говорил Лев Николаевич, — это одно из самых далеких и милых, и важных воспоминаний. Старший брат Николенька был на шесть лет старше меня. Ему было, стало быть, 10 — 11, когда мне было 4 или 5, именно когда он водил нас на Фанфаронову гору. Мы в первой молодости, не знаю, как это случилось, говорили ему «вы». Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек. Тургенев говорил про него очень верно, что он не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия, ему совершенно неинтересно было, что о нем думают люди. Качества же писателя, которые у него были, было прежде всего тонкое, художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный, веселый юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивое, высоко-нравственное мировоззрение, и все это без малейшего самодовольства...
Так вот он-то, когда нам с братьями было — мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезни, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга, все сделаются
«муравейными» братьями. (Вероятно, это были «Моравские» братья, о которых он слышал или читал, но на нашем языке это были муравейные братья). И я помню, что слово «муравейные» особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились под стулья, загораживая их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру.
«Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня.
Кроме этой палочки, была еще какая-то Фанфаронова гора, на которую, он говорил, что может ввести нас, если только мы исполним все положенные для того условия. Условия были, во-первых, стать в угол и не думать о белом медведе. Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Второе условие... пройти, не оступившись, по щелке между половицами, и третье легкое: в продолжение года не видать зайца, все равно, живого или мертвого, или жареного. Потом надо поклясться никому не открывать этих тайн...
Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешанными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает».
«Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни, вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? — пишет Толстой в своей повести «Отрочество» по поводу переезда семьи в Москву. — Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества. Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, т. е. наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это; но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал,.. Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило по крайней мере такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это... но не удостаивали нас даже взглядом, мне в первый раз пришел в голову вопрос: что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? И из этого вопроса возникли другие: как и чем они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как наказывают и т. д.»
«Вот коляска, четверкой, на почтовых, быстро несется навстречу. Две секунды, и лица, на расстоянии двух аршин приветливо, любопытно смотревшие на нас, уже промелькнули, и как-то странно кажется, что эти лица не имеют со мною ничего общего, и что их никогда, может быть, не увидишь больше...
Вон далеко за оврагом виднеется на светло-голубом небе деревенская церковь с зеленой крышей; вон село, красная крыша барского дома и зеленый сад. Кто живет в этом доме? Есть ли в нем дети, отец, мать, учитель? Отчего бы нам не поехать в этот дом и не познакомиться с хозяевами?»
Новый мир открылся для маленького Толстого, когда все семейство: отец, бабушка, тетушки, воспитанница тетушки Алин, Паша, дети, слуги — двинулись осенью 1836 года в Москву.
Какое было волнение, суета! Услужливые дворовые бегали взад и вперед, мешая друг другу, выносились последние вещи, упихивались в повозки, у подъезда фыркали и топотали лошади, повизгивали собаки, грустно смотрела своими карими глазами борзая Милка, — ее решили оставить в Ясной Поляне. Наконец, успокоились, все, включая служащих, как полагается, молча сели в гостиной, помолились, перекрестились и тронулись в путь. Впереди, в карете, запряженной шестерней, ехала бабушка, тетушки и девочки. А что это была за карета! Целый дом на громадных тяжелых колесах — поместительная, с широкими, просторными сидениями, под которыми были помещения для вещей. Здесь все было: и ларец с провизией на дорогу, и зеркало, и мягкие подушки для бабушки, и даже уборная — круглая дырка в одном из сидений — для детей. В коляске ехал Николай Ильич и по очереди брал к себе мальчиков. В то время 200 верст от Ясной Поляны до Москвы было большое путешествие. Несколько раз менялись лошади на станциях, куда накануне посылались подставы.
Сейчас же по выезде по «пришпекту» экипажи покатили мимо круглых кирпичных башен и выехали на «большак» — широкую, обсаженную ветлами дорогу, ведущую на Москву, пробитую по всей России еще во времена Екатерины Великой — вдоль речки Ясенки, мимо квадратной, приземистой кирпичной башни, тоже Екатерининских времен, с железным орлом на верхушке, отделяющей Крапивенский уезд от Тульского*.
Москва! Кто из вас, не родившийся в деревне и не проживший всю свою жизнь среди полей и лесов, в кругу семьи и давно знакомых лиц, может ярко себе представить ощущения 8-летнего мальчика, впервые увидевшего Москву, о которой он только слышал и читал, с ее старинными, каменными, с колоннами, особняками, многочисленными церквами с синими и зелеными с золотом куполами и золотыми крестами, вытряхивающими душу булыжными мостовыми, снующими взад и вперед чужими, невиданными прежде людьми. Все это было ново, прекрасно, и Левочка жадно слушал рассказы отца о Москве, когда они въезжали в город.
Толстые поселились в большом, хорошем особняке. Уклад жизни мало изменился. Держали собственных лошадей, те же дворовые-крепостные обслуживали их. Мальчики учились, к ним приходили учителя; Николенька, которому было уже 14 лет, готовился к поступлению в университет. Левочка учился плохо, но по-прежнему живо интересовался всем, что его окружало, гуляя с Федором
* Во время революции 1917 — 19 гг. башня была разрушена и кирпич разобран крестьянами на постройки. — А.Т.
Ивановичем по улицам Москвы. Отец то приезжал, то уезжал, тетенька Татьяна Александровна, как всегда, окружала детей своей лаской и любовью.
Никто толком не знал, как это случилось, кто сообщил бабушке и всей семье ужасную новость. Известие пришло из Тулы, куда Николай Ильич уехал по делам. Он вдруг, на улице, почувствовал себя дурно, упал и, не приходя в сознание, умер. Прошел слух, что братья-камердинеры, Петруша и Матюша, которые всегда были при нем, его отравили. Деньги и бумаги, бывшие при Николае Ильиче, исчезли. Деньги так и не нашлись, а бумаги были доставлены семье, в Москве, некоторое время спустя, какой-то таинственной нищенкой, которая нашла их будто бы на паперти церкви.
Горе потрясло всю семью. Дети Толстые остались круглыми сиротами, бабушка потеряла единственного сына — радость и гордость всей ее жизни, тетушка Алин — горячо любимого ею брата, тетенька Татьяна Александровна — человека, которого она молча и бескорыстно любила всю свою жизнь.
Левочка первое время не верил в смерть отца. Представить себе, что его живой, энергичный, красивый, жизнерадостный отец уже не существует, не смеется, не шутит, что он больше никогда его не увидит, — он не мог. Здесь была какая-то ошибка, недоразумение. Гуляя по улицам, он искал его среди встречающихся ему людей... Он ждал, надеялся, что вот он увидит его... И Левочка тосковал, сознавая сильнее, чем когда-либо, как сильно он любил отца.
Первое время не верила и бабушка. Она бурно переживала свое горе, примириться с ним, утешиться она не могла. Она слегла и меньше чем через год скончалась.
Ближайшей родственницей детей Толстых была тетенька Александра Ильинична Остен-Сакен, тетенька Алин, которая и была назначена их опекуншей.
Состояние Толстых было передано в опекунский совет, надо было сократить расходы, и Толстые переехали в более скромный дом. Никто не страдал от внешней перемены жизни, всем даже нравился новый, маленький домик в пять комнат, который случайно нашел для семьи маленький Левочка в одну из своих прогулок по Москве с Федором Ивановичем. Смерть бабушки, кроме ужаса перед покойником, которого впервые увидел маленький Лев, мало огорчила его. У него было другое горе — отставка добрейшего немца, Федора Ивановича, и передача Левочки, еще при жизни бабушки, в ведение нового гувернера, Сен-Тома — ограниченного, самовлюбленного, молодцеватого француза, весь облик которого, с его неестественной напыщенностью, почти театральной деланностью — отвращал чуткого мальчика. У Сен-Тома была своя теория воспитания и дисциплины, он смотрел сверху вниз на глупые, сентиментальные психологические рассуждения доброго немца, презирая его. У Федора Ивановича не было никакой теории воспитания, очень мало знаний и настоящей дисциплины, он просто любил своих воспитанников, понимал их и чутко разбирался в особенностях их характеров.
И Левочка не взлюбил Сен-Тома и за его презрение к Федору Ивановичу, и за его нежелание понять каждого из них, что для него было особенно важно, и за его самонадеянность.
«Да, это было настоящее чувство ненависти, — пишет Толстой, — той ненависти, которая внушает вам непреодолимое отвращение к человеку, заслуживающему, однако, ваше уважение, делает для вас противными его волосы, шею, походку, звук голоса, все его члены, все его движения и вместе с тем какой-то
непонятной силой притягивает вас к нему и с беспокойным вниманием заставляет следить за малейшими его поступками».
Страшно подумать, как страдал этот чуткий, всегда готовый сторицей отплатить за всякую ласку, внимание и доброту, ребенок. «Никогда не забуду я... — вспоминал Толстой в «Отрочестве», — как Сен-Жером (Сен-Тома), указывая пальцем на пол перед собою, приказывал стать на колени, а я стоял перед ним бледный от злости и говорил себе, что лучше умру на месте, чем стану перед ним на колени, и как он изо всей силы придавил меня за плечи и, повихнув спину, заставил-таки стать на колени...»
Была ли эта сцена вымышлена Толстым — неизвестно, но в своих воспоминаниях он пишет:
«Не помню уже за что, но за что-то, самое незаслуживающее наказания, Сен-Тома, во-первых, запер меня в комнате, а потом угрожал розгой. И я испытал ужасное чувство негодования и возмущения и отвращения не только к Сен-Тома, но к тому насилию, которое он хотел употребить надо мною».
К счастью, со временем отношения несколько сгладились и вспышки ненависти к гувернеру проявлялись все реже и реже в маленьком Льве. Может быть, самодовольный француз, несмотря на всю свою тупость, уловил нечто незаурядное в своем воспитаннике.
«Се petit a une tete. C'est un petit Moliere!»* — говорил он1.
Годы шли. Душа маленького Льва все так же жаждала любви и ласки. Жажда эта проявлялась то в обожании красивого, самоуверенного мальчика, Саши Мусина-Пушкина, смотревшего сверху вниз на вихрастого, застенчивого мальчика с маленькими серыми глазками, то в обожании хорошенькой девочки, Сонечки
* Этот малыш — голова! Это — маленький Мольер (фр.).
Калошиной. Он любил их, не думал о взаимности, наслаждаясь лишь тем чувством любви, которое он сам к ним испытывал. «Я не понимал, — пишет он в «Детстве», — что за чувство любви, наполнявшее мою душу отрадой, можно было бы требовать еще большего счастья и желать чего-нибудь, кроме того, чтобы чувство это никогда не прекращалось. Мне и так было хорошо».
Он был самым маленьким мальчиком в семье, он был некрасив и чувствовал себя одиноким. Он искал привязанностей, — у него их не было, он искал самоутверждения, чего-то такого, что вывело бы его из того заднего плана, на котором он находился, — и не мог найти, он искал поощрения, — но над ним смеялись и никто не понимал его. Студент, дававший уроки трем братьям, сказал про них следующее: «Сергей и хочет и может, Дмитрий хочет, но не может, и Лев и не хочет и не может».
А Левочка чувствовал, что он может, он чувствовал, что он не ничтожество, что в нем что-то есть, чего нет в других, но как он ни старался, он не мог выскочить из тупика. Почему Саша Мусин-Пушкин, которого он так бескорыстно и восторженно любил, презирал его? Почему Сонечка Калошина не обращала на него никакого внимания, почему учитель считал его таким бездарным и неспособным?
«На меня часто находили минуты отчаяния: я воображал, что нет счастья на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как я; я просил Бога сделать чудо — превратить меня в красавца, и все, что имел в настоящем, все, что мог иметь в будущем, я все отдал бы за красивое лицо».
Если бы живы были мать и отец, они помогли бы Левочке, развивая в нем те черты, которых он стыдился, — стремление к добру, чуткость, скромность. Они, может быть, уловили бы в нем тот художественный огонь, который ловил в нем отец, когда Левочка, еще совсем маленьким, с чувством декламировал выученные им и столь понравившиеся ему стихи Пушкина: «Прощай, свободная стихия!» и «Чудесный жребий совершился, угас великий человек». Но Левочка был одинок и бросался из стороны в сторону.
Одно время чувство патриотизма охватило его. Это было после приезда государя Николая I в Москву, и он стал мечтать о том, как он отличится на войне.
«Я поступаю в гусары и иду на войну, — описывает он размышления свои в повести «Отрочество», когда ненавистный гувернер запер его одного в темном чулане. — Со всех сторон на меня несутся враги, я размахиваю саблей и убиваю одного, другой взмах — убиваю другого, третьего. Наконец, в изнурении от ран и усталости, я падаю на землю и кричу: «Победа!» Генерал подъезжает ко мне и спрашивает: «Где он — наш спаситель?» Ему указывают на меня, он бросается мне на шею и с радостными слезами кричит: «Победа!» Я выздоравливаю и, с подвязанною черным платком рукою, гуляю по Тверскому бульвару. Я генерал! Но вот государь встречает меня и спрашивает: кто этот израненный молодой человек? Ему говорят, что это известный герой Николай. Государь подходит ко мне и говорит: «Благодарю тебя. Я все сделаю, что бы ты ни просил у меня».
Эти детские мечты сменялись более серьезными. Левочка стал все чаще и чаще задумываться над различными философскими вопросами.
«Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества, — так они были несообразны с моим возрастом и положением», — пишет Толстой в своей повести «Отрочество».
«В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека».
В дневниках старости, заканчивая дневную запись, иногда поздно вечером, Толстой имел обыкновение записывать число и месяц и год следующего дня и часто прибавлял: «Е. Б. Ж.», т. е. «Если буду жив». Мысль, что завтра уже может не наступить, — никогда не покидала его, ежечасно он готовился к смерти. В «Отрочестве» он вспоминает следующие свои рассуждения: «Вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим, и не помышляя о будущем».
Рассуждения о вечной жизни, о счастии, волновали мальчика.
«Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах».
Хотя Толстой, будучи уже 24 лет, когда он писал свою повесть «Детство, отрочество и юность», пишет о том, что «из всего морального труда», который он потратил на все свои детские философские размышления, «я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка». Эти детские рассуждения давали ему в то время какое-то самоутверждение, в котором он чувствовал насущную потребность.
«Философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию: я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием своего достоинства смотрел на остальных смертных; но, странно, приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым и, чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое самое простое слово и движение».
Левочка шел своей дорогой, ощупью прокладывая свой собственный путь, а поделиться своими мыслями, посоветоваться ему было не с кем... Он был одинок.
Осенью 1841 года около монастыря Оптиной Пустыни умерла опекунша детей Толстых, Александра Ильинична Остен-Сакен — тетенька Алин.
— Ne nous abandonnez pas, chere tante, il ne nous reste que vous au monde*, — с такими словами обратился Николай к единственной оставшейся в живых родственнице, тетеньке Пелагее Ильиничне Юшковой — тетеньке Полин.
Николай в то время был студентом первого курса, а младшим, Левочке и Машеньке, было 13 и 11 лет.
* Не оставляйте нас, дорогая тетенька. Вы теперь у нас одна на свете (фр.).
Добрая тетенька растрогалась, расплакалась, решила принести себя в жертву и забрать всех пятерых Толстых к себе, в Казань.
Из Ясной Поляны двинулись на нескольких повозках на лошадях, а дальше, вниз по Волге, на двух барках, которые специально наняла для этой цели тетенька. Грузились крепостные: повара, лакеи, портные, столяры, четыре камердинера-мальчика, приставленные к каждому из братьев Толстых, грузились вещи. Ехали на лошадях долго и весело, останавливались, отдыхали, по дороге купались, собирали грибы.
Казань в то время была, благодаря своему университету, культурным центром всего Поволжья, и на зиму сюда съезжались помещики из соседних уездов и губерний. Детей отдавали в школу, молодые люди посещали университет, девицы вывозились в свет и находили себе женихов, и все веселились. Лукулловские обеды сменялись балами, вечерами, спектаклями, ужинами, после которых танцевали, играли в карты; золотая молодежь кутила.
В Казани Левочка был так же, если не более, одинок, чем прежде. Не было около него даже его любимой тетеньки Татьяны Александровны, которая не поехала с детьми в Казань. Тетенька Полина не любила Татьяну Александровну. В ранней молодости добродушный муж тетеньки Полины, бывший гусар В. А. Юшков, был влюблен в прелестную Toinette, и тетенька Полина никак не могла забыть и простить ей этого.
А как тетенька Татьяна Александровна переживала эту разлуку с племянниками, можно судить по нескольким словам тогда же написанного ею письма В. И. Юшкову: «Qu'il est cruel, qu'il est barbare de me separer de ces enfants, auxquels j'ai prodigue les soins les plus tendres pendant pres de 12 ans» (Как жестоко, как бесчеловечно разлучать меня с детьми, которых я, в течение почти 12 лет, окружала самыми нежными заботами)1.
Семья Толстых легко разместилась в просторном, большом доме Юшковых. В то время общество в Казани делилось на две группы. Одна, многочисленная — разночинцы, группирующиеся вокруг университета и профессоров, серьезно занимающиеся и занятые отвлеченными, социальными и научными вопросами; другая — местный «высший свет», в который входила аристократия, поместное дворянство и высший слой бюрократии. Эта группа была меньше, объединялась вокруг губернатора и держалась особняком от интеллигентов.
Дом Юшковых принадлежал к аристократическому кругу. Тетенька Полина держала себя с достоинством, ее уважали как очень религиозную и вместе с тем светскую женщину, а В. А. Юшков был приятным и веселым членом общества, шутник, балагур и гостеприимный хозяин.
Все три старших брата Толстые были уже в университете. Николай учился хорошо, легко переходил с одного курса на другой; Сергей с головой ушел в светские удовольствия, имел успех у дам, веселился, смотрел на жизнь легко и просто; Дмитрий вел уединенную жизнь, ходил в церковь, постился, товарищи его не любили и прозвали Ноем. Машенька училась в институте.
Льву было 14 лет. Ни недалекая, ограниченная тетенька Полина, ни ее заурядный, светский муж, ни Сен-Тома не могли ему дать нравственного руководства, и он продолжал, спотыкаясь, брести своим собственным путем. «Я всею душой желал быть хорошим, — пишет он в «Исповеди», — но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои
желания, то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть — все это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны».
Не это ли желание — подражание старшим, привело Толстого к его первому падению? Половое влечение пробудилось в нем рано. Оно зашевелилось в нем, когда брат Сергей легко и просто заигрывал с горничной, и Лев одновременно и завидовал Сергею и испытывал неясное чувство отвращения. Но могла ли страсть так сильно разыграться в мальчике, чтобы побудить его пойти с братьями в дом терпимости? Вряд ли. Он пошел, потому что боялся насмешек и потому, что некому было остановить его, он хотел быть настоящим мужчиной. И тут же, горько плача у постели женщины, с которой он впервые познал грех, он мучительно раскаялся. Он плакал об утрате невозвратимого, цельного, здорового, плакал о загрязнении своего молодого, почти детского тела, может быть, он плакал и от жалости к той женщине, которая занималась таким грязным делом..,
«Мне не было внушено никаких нравственных начал, — никаких, — а кругом меня — большие — с уверенностью курили, пили, распутничали (в особенности распутничали), били людей и требовали от них труда. И многое дурное я делал, не желая делать, только из подражания большим».
Муки раскаяния, угрызения совести — Лев прятал в себе. Разве кто-нибудь понял бы его? Сергей, вероятно, посмотрел бы на него сверху вниз (он был выше Льва ростом), черные глаза его загорелись бы насмешкой и красивый рот, с темными, пробивающимися усиками над верхней губой, чуть повело бы от саркастической улыбки, и для братьев и их товарищей снова подтвердилось бы то, что они всегда знали, что Лев странный, не такой, как все, рева и молокосос.
Кто не знает трудности перехода от отрочества к юности? Когда мальчик вдруг вытягивается, ломается его голос, движения неуклюжи и неуверенны, длинные руки болтаются и неизвестно что с ними делать. И чем сложнее, богаче, и чем застенчивее молодое существо, тем труднее совершается этот перелом. Невольно вспоминается стихотворение Пушкина:
Пятнадцать лет мне скоро минет;
Дождусь ли радостного дня?
Как он вперед меня подвинет!
Но и теперь никто не кинет
С презреньем взгляда на меня.
Уж я не мальчик — уж над губой
Могу свой ус я защипнуть...
И Левочке страстно хотелось быть скорее взрослым, наверное, и он пощипывал свой только-только пробивающийся ус, неистово приглаживая перед зеркалом свои непокорные, торчащие вихры мокрой щеткой, с ужасом смотрел на свои маленькие серо-голубые глаза, широкий нос, толстые губы и решительный, ярко очерченный подбородок.
«Он всегда преувеличивал свою некрасивость, — говорила про него его сестра Мария Николаевна, — он был очень мил и привлекателен, когда, бывало, в минуты оживления, он всех нас заражал своим веселием. В эти минуты его лицо озарялось задорной улыбкой, сияли остроумием его лучезарные, проницательные глаза и совершенно забывались неправильные черты его лица».
Науки не интересовали Льва, но тетенька Полина настаивала, чтобы он готовился к университету, и Льву самому хотелось поскорее надеть мундир с золотыми пуговицами, треуголку, прицепить шпагу и, наконец, сделаться «совсем большим».
«Помню, как я, когда мне было 15 лет, переживал это время, как вдруг я пробудился от детской покорности чужим взглядам, в которой жил до тех пор, и в первый раз понял, что мне надо жить самому, самому избирать путь, самому отвечать за свою жизнь перед тем началом, которое дало мне ее.
Помню, что я тогда, хотя и смутно, но глубоко чувствовал, что главная цель моей жизни — это то, чтобы быть хорошим, в смысле евангельском, в смысле самоотречения и любви. Помню, что я тогда же попытался жить так, но это продолжалось недолго. Я не поверил себе, а поверил всей той внушительной, самоуверенной, торжествующей мудрости людской, которая внушалась мне сознательно и бессознательно всем окружающим. И мое первое побуждение заменилось очень определенными, хотя и разнообразными желаниями успеха перед людьми: быть знатным, ученым, прославленным, богатым, сильным, т. е. таким, которого бы не я сам, но люди считали бы хорошим».
В период этого внутреннего одиночества жизнь Льва озарилась для него большим счастьем. Это была его горячая, почти страстная дружба с Дмитрием Дьяковым. Вероятно, Дмитрий, такой же чуткий и застенчивый, как Толстой, почувствовал что-то необыкновенное в робком и одновременно смелом в своих суждениях Толстом.
Вот как описывает начало этой дружбы Толстой в своей повести «Отрочество», когда Дмитрий (Нехлюдов) с удивлением заявил, что он не думал, что Толстой такой умный. «Похвала так могущественно действует не только на чувство, но и на ум человека, что под ее приятным влиянием мне показалось, что я
стал гораздо умнее, и мысли одна за другой с необыкновенной быстротой набирались мне в голову... Несмотря на то, что наши рассуждения для постороннего слушателя могли показаться совершенной бессмыслицею, так они были неясны и односторонни — для нас они имели высокое значение. Души наши так хорошо были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом... Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу».
Легко себе представить, с какой жадностью и восторгом Толстой отвечал на те чувства, которые выказывал ему Дмитрий. Как голодный, он не мог насытиться разговорами, обменом мыслей, которые бурлили в нем, душили его, не находя исхода. Левочка был счастлив, он был благодарен судьбе и Дмитрию за то, что он есть, за то, что он давал ему ту внутреннюю духовную пищу, которой он столько времени жаждал.
«Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию, что усовершенствование это легко, возможно и вечно».
«...Пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, ту же секунду захотел прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им».
Со временем, разумеется, первый пыл, восторженность этой новой любви ослабели: «в первой молодости мы любим только страстно и поэтому только людей совершенных», а «я уже слишком давно начал обсуживать его, для того, чтобы не найти в нем недостатков», — писал Толстой. Но привязанность его к Дьякову и теплое чувство благодарности за то, что он дал ему в ранней юности, остались в нем на всю жизнь.
В то время в Казанском университете самым блестящим был факультет Восточных языков с кафедрами китайского, персидского, армянского, санскритского языков, на котором изучались арабский, монгольский, тюркский, манджурский и другие языки, и Лев Толстой решил, что он будет дипломатом. Он держал вступительный экзамен 5 июня 1844 года, но провалился и снова держал вступительный экзамен 4 августа того же года по арабскому и турецко-татарскому языкам, и на этот раз выдержал. Он был в восторге. Наконец-то он взрослый. У него появился собственный выезд, будочники будут отдавать ему честь, он будет всюду принят, Сен-Тома ему более не нужен, и никто не может запретить ему курить. Первое время он занимался в университете очень хорошо, но веселая, светская жизнь Казани захватила его, и он стал все реже и реже посещать лекции. Несмотря на то, что Толстой был принят в Казанское общество с распростертыми объятиями, он все же не сумел в него влиться так легко и свободно, как брат Сергей. И он постоянно завидовал брату, его умению подойти к красивым женщинам, свободно и легко обращаться с ними, ухаживать за ними, умению носить мундир и шинель с бобровым воротником, веселиться и грешить, не мучаясь потом раскаянием, словом, быть до мозга костей «ком иль фо».
«Зимний сезон 1844 — 45 года, когда Л. Н. Толстой... стал уже выезжать в свет, был еще более шумен. Балы, то у губернатора, то у предводителя, то в женском Родионовском институте, ... частные танцевальные вечера, маскарады в
дворянском собрании, благородные спектакли, живые картины, концерты — беспрерывной цепью следовали одни за другими, — пишет Загоскин. — ... Казанские старожилы помнят его (Льва Толстого) на всех балах, вечерах и великосветских собраниях, всюду приглашаемым, всегда танцующим, но далеко не светским дамским угодником, какими были другие его сверстники, студенты-аристократы, в нем всегда наблюдали какую-то странную угловатость, застенчивость...»2 «Бирюк, которого все мы звали не иначе как философом и Левушкой, неуклюжий и постоянно стесняющийся»3.
И между тем он с невероятным упорством стремился к светскости, и идеалу, созданному им в брате Сергее, стремился к людям, с которыми инстинктивно чувствовал себя несвободно и непросто.
«Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, — было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas*. Второй род подразделялся еще на людей собственно не comme il faut и простой народ. Людей comme il faut я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения; вторых — притворялся, что презираю, но, в сущности, ненавидел их; ...третьи для меня не существовали — я их презирал совершенно».
«Comme il faut было для меня не только важной заслугой, прекрасным качеством, совершенством, которого я желал достигнуть, но это было необходимое условие жизни, без которого не могло быть ни счастья, ни славы, ничего хорошего на свете».
В таких преувеличенных выражениях пишет Толстой в своей повести «Юность» о своем увлечении внешней формой жизни, которой, по существу, он никогда не придавал ни малейшего значения.
Возможно, что, если бы окружающая жизнь так явно не противоречила всему его разумному существу, его простым, естественным, безыскусственным потребностям, он легко и просто чувствовал бы себя в этой среде, как это и было со всеми близкими ему людьми. Но жизнь эта была противна всему его существу, и он чувствовал себя чужим в светском обществе, и старался выдумать свои теории, которые бы помогли ему.
Трудно представить себе тот рой разнообразных и противоречивых мыслей и чувств, которые обуревали юношу в этот период его жизни. Он много читал. Среди любимых его книг мы встречаем «Евгения Онегина» Пушкина, «Разбойников» Шиллера, «Героя нашего времени» и «Тамань» Лермонтова, «Завоевание Мексики» Прескотта, «Сентиментальное путешествие» Стерна, всего Руссо, и... Нагорную Проповедь, Евангелие от Матфея.
Об этом периоде, который он считал переломом между отрочеством и юностью, в повести своей «Юность» он пишет:
«Основой моих мечтаний были четыре чувства: любовь к ней, к воображаемой женщине... второе... было любовь любви. Мне хотелось, чтобы все меня знали и любили... Третье чувство было — надежда на необыкновенное, тщеславное счастье, — такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие... Четвертое и главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние, но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального... Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний
* На порядочных и непорядочных (фр.).
прошедшего, тем чаще и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего, и развивались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир Божий».
В Казани Толстой в первый раз влюбился.
Зинаида Молоствова училась в институте вместе с Машенькой Толстой. Вероятно, не наружность ее, хотя она была и миловидна и очень грациозна, пленила Толстого, а ее наблюдательность, острый ум, юмор и, главное, доброта, деликатность и мечтательность. Любовь эта осталась чудесным, светлым воспоминанием. В то время мечты о «ней», о воображаемой женщине, часто занимали мысли Толстого.
«В полнолуние я часто целые ночи напролет проводил сидя на своем тюфяке, вглядываясь в свет и тени, вслушиваясь в тишину и звуки, мечтая о различных предметах, преимущественно о поэтическом, сладострастном счастии, — писал он в «Юности». — И вот являлась «она» с длинной черной косой, высокой грудью, всегда печальная и прекрасная, с обнаженными руками, с сладострастными объятиями. Она любила меня, я жертвовал для одной минуты ее любви всей жизнью. Но луна все выше, выше, светлее и светлее стояла на небе, пышный блеск пруда, равномерно усиливающийся, как звук, становился все яснее и яснее, тени становились чернее и чернее, свет прозрачнее и прозрачнее, и, взглядываясь и вслушиваясь во все это, что-то говорило мне, что и она с обнаженными руками и пылкими объятиями, еще далеко-далеко не все счастье, что и любовь к ней, далеко, далеко еще не все благо; и чем больше я смотрел на высокий, полный месяц, тем истинная красота и благо казались мне выше и выше, чище и чище, и ближе и ближе к Нему, к Источнику всего прекрасного и благого, и слезы какой-то неудовлетворенной, но волнующей радости навертывались мне на глаза.
И все я был один, и все мне казалось, что таинственно величавая природа, притягивающий к себе светлый круг месяца, остановившийся зачем-то на одном высоком неопределенном месте бледно-голубого неба и вместе стоящий везде и как будто наполняющий собой все необъятное пространство, и я, ничтожный червяк, уже оскверненный всеми мелкими, бедными людскими страстями, но со всею необъятной могучей силой воображения и любви, — мне все казалось в эти минуты, что как будто и природа, и луна, и я, мы были одно и то же».
Ничто не может дать нам лучшего понятия о Толстом, чем эти слова, выражающие всю его духовную сущность. Как бы он ни падал, ни грязнил своей души земными, человеческими страстями — зародыши его духовной силы, стремление к добру могучими порывами вздымали его кверху к новым и новым исканиям.
На второй курс Толстой не перешел. Он провалился по истории и немецкому языку. Профессор, экзаменовавший его, поссорился перед этим с родственниками Льва, придрался к нему и, несмотря на то, что оба эти предмета Лев знал хорошо, — не пропустил его. Толстой был глубоко возмущен этой несправедливостью и решил перейти на юридический факультет. Насколько был блестящ по составу профессоров факультет Восточных языков, настолько был слаб состав профессоров юридического факультета, где
сосредоточивались наиболее слабые студенты, большинство — представители так называемой золотой молодежи.
Зимний сезон 1845 — 46 года был особенно оживленный в Казани. Толстой по-прежнему принимал участие во всех развлечениях, занимался вяло, пропускал лекции. К профессорам, большинству из них немцам, он относился безо всякого уважения и часто, вместе с другими студентами, остро и метко издевался над ними. Но было среди них и несколько талантливых профессоров и в особенности выделялся молодой профессор Мейер, читавший историю русского права. Во время полугодичных экзаменов, в январе 1847 года, Мейер, несмотря на то, что должен был поставить Толстому плохую отметку, обратил на него внимание и заинтересовался им; он спросил одного из своих слушателей, знает ли он Толстого? Студент ответил, что знаком с ним. «Сегодня я его экзаменовал, — продолжал профессор, — и заметил, что у него вовсе нет охоты серьезно заниматься, а это жаль; у него такие выразительные черты лица и такие умные глаза, что я убежден, что при доброй воле и самостоятельности он мог бы сделаться замечательным человеком» .
По-видимому, Мейер решил заинтересовать Толстого и заставить его заниматься. Он дал задание студентам, в том числе и Толстому, провести сравнение «Наказа» Екатерины с «Духом законов» Монтескье. И Толстой впервые серьезно увлекся научной работой. Молодой, талантливый профессор хотел привлечь молодого Толстого к научной работе и тем самым удержать его в университете. Но, как всегда с Толстым, случилось то, чего профессор не мог предвидеть: самостоятельная работа над «Наказом» и «Духом законов» убедила его в том, что вне университета он мог бы гораздо свободнее заниматься тем, что его интересует и не быть связанным теми предметами, которые задавали его профессора.
«...Помню, как на втором курсе меня заинтересовала теория права, и я не для экзамена только начал изучать ее, думая, что я найду в ней объяснение того, что мне казалось странным и неясным в устройстве жизни людей. Но помню, что чем более я вникал тогда в смысл теории права, тем все более и более убеждался, что или есть что-то неладное в этой науке, или я не в силах понять ее», — писал Толстой.
Как-то раз Толстой, вместе со своим однокурсником, студентом Назарьевым, попал в карцер. Толстому, видимо, хотелось говорить, и он всю ночь рассуждал о тщете наук, преподаваемых в университете.
«История, — рубил он сплеча, — это ничто иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен... А как пишется история? Все пригоняется к известной мерке, измышленной историком. Грозный царь, о котором в.настоящее время читает профессор Иванов, вдруг с 1560 г. из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного, свирепого тирана. Как и почему, об этом уже не спрашивайте...
...А между тем, — заключил Толстой, — мы с вами в праве ожидать, что выйдем из этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси в деревню, на что будем пригодны?»...
Увлеченный рассуждениями о «храме» наук, Толстой даже не заметил, как утомил своего, по-видимому, несогласного с ним собеседника: «Толстой нахлобучил фуражку на глаза, завернулся в шинель с бобрами, — заключает Назарьев свой рассказ, — слегка кивнул мне головой, еще раз ругнул храм и скрылся в
сопровождении своего слуги и вахмистра. Я тоже поспешил выбраться и вздохнул во всю грудь, отделавшись от своего собеседника и очутившись на морозе, среди безлюдной, только-только просыпавшейся улицы. Отяжелевшая, точно после угара, голова была переполнена никогда еще не забиравшимися в нее сомнениями и вопросами, навеянными странным, решительно непонятным для меня товарищем по заключению»2.
Толстой был «странным» и «непонятным» для всех тех рядовых людей, с которыми он встречался.
Товарищи настолько не понимали его, что, когда Толстой написал серьезнейшую философскую статью о симметрии и один из товарищей брата, зашедший к ним с бутылками в кармане, просмотрел эту статью, лежавшую на столе, и спросил, кто написал ее, и Лев сказал, что он, молодой человек рассмеялся и не поверил ему.
С осени 1846 года братья жили на отдельной квартире. Братья были дружны, хотя и совершенно различны. По-видимому, больше всех в стороне держался Митенька.
«В Казани начались его особенности, — пишет о нем Толстой в своих воспоминаниях. — Учился он хорошо, ровно, писал стихи очень легко... Мало общался с нами, всегда был спокоен, серьезен и задумчив... Мы, главное — Сережа, водили знакомство с аристократическими товарищами и молодыми людьми, Митенька, напротив, из всех товарищей выбрал жалкого, бедного, оборванного студента...» Митенька дружил с несчастной, забитой девушкой, жившей у Юшковых, у которой была какая-то странная болезнь на лице, оно было такое распухшее, что казалось, что ее искусали пчелы. От нее всегда дурно пахло, говорила она с трудом, так как, по-видимому, и во рту у нее была опухоль. Она была настолько физически отталкивающа, что все ее с трудом переносили. Митенька же ходил к ней, слушал ее рассказы, разговаривал с ней и читал ей. Эти добрые чувства к обиженным, обездоленным, были следствием того христианско-православного настроения, которым был захвачен брат Дмитрий, — претворение на деле учения Христа.
С 16-летнего возраста в душу Льва стали закрадываться сомнения в истинности православной веры.
«Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне... — пишет он в «Исповеди», — так как я очень рано стал много читать и думать, то мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с 16-ти лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в Бога, или, скорее, я не отрицал бога, но какого Бога, я бы не мог сказать. Не отрицал я и Христа и Его учение, но в чем было Его учение, я тоже не мог бы сказать.
Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя — то, что, кроме животных инстинктов, двигало моей жизнью, — единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать... Я старался совершенствовать свою волю, составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И все это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно
подменилось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собою или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других».
Возможно, что в этом беспощадном анализе, бичевании самого себя было сильное влияние Руссо, которым Толстой в то время зачитывался, главным образом его «Исповеди». Постоянно, всю свою жизнь, идя по пути самосовершенствования, Толстой безжалостно бичевал самого себя. Он не любил вспоминать о своей юности, и, когда близкие расспрашивали его о его молодости, он морщился от внутренней боли и неохотно отвечал на вопросы. Естественную черту, свойственную почти каждому человеку, в особенности же ребенку или юноше, который, как Лев, был с детства лишен родителей и всякого морального руководства, — желание выдвинуться, проявить незаурядный ум свой и талант, которые он несомненно ощущал в себе, — он считал величайшим недостатком. А между тем свойство это — честолюбие, присущее почти всем без исключения людям, часто поощряемое, особенно в детях, Толстой называл тщеславием и всю жизнь боролся с этим своим грехом.
Но больше всего Толстой мучился от обуревавших его страстей и от своих падений. Здоровый, сильный, необычайно страстный, он то и дело впадал в этот грех, возмущался своей собственной гадостью и жестоко бичевал себя. И точно сам себя ограждая от женщин и того соблазна, который они представляли для него, он пишет в своем дневнике:
«Смотри на общество женщин, как на необходимую неприятность жизни общественной и, сколько можно, удаляйся от них. — В самом деле, от кого получаем мы сластолюбие, изнеженность, легкомыслие во всем и множество других пороков, как не от женщин? Кто виноват тому, что мы лишаемся
врожденных в нас чувств: смелости, твердости, рассудительности, справедливости и др., как не женщины? Женщина восприимчивее мужчины, поэтому в века добродетели женщины были лучше нас, в теперешний же развратный, порочный век они хуже нас».
Все больше и больше назревает в нем мысль об оставлении университета: «Причин выхода моего из университета было две, — писал он, — 1) что брат [Сергей] кончил курс и уезжал, 2) как это ни странно сказать, работа с «Наказом» и «Духом законов» Монтескье.., открыла мне новую область умственного самостоятельного труда, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей».
В то время юридические науки все меньше и меньше интересовали его и он увлекается философией. «Философия всегда занимала меня, я любил следить за этим напряженным и стройным ходом мыслей, при котором все сложные явления мира сводились — их разнообразия — к единому». Толстой читал Гегеля, Вольтера, но главное влияние на ход его мыслей, несомненно, имел Руссо. В 1905 году Толстой писал: «Руссо был моим учителем с 15-летнего возраста. Руссо и Евангелие — два самые сильные и благотворные влияния на мою жизнь. Руссо не стареет. Совсем недавно мне пришлось перечитать некоторые из его произведении, и я испытал то же чувство подъема духа и восхищения, которое я испытывал, читая его в ранней молодости».
Философские мысли настолько захватили его, что он сам делал попытки изобразить свои мысли на бумаге в виде комментариев к «Дискур» Руссо: «О цели философии». Толстому было в то время 18 лет.
Сестра Льва Николаевича, Мария Николаевна Толстая, очень забавно, со свойственным ей юмором рассказывала о том времени, когда Лев приезжал в Ясную Поляну на каникулы во время своего увлечения философией.
«Левочка, вероятно, вообразил себя Диогеном, а может быть, под влиянием Руссо, желая жить простой, первобытной жизнью, совсем опростился, куда только девалось его стремление быть ком иль фо. Он сшил себе какой-то ужасный, длинный балахон, в котором ночью спал, а днем ходил, и, чтобы полы не мешали ему, он пришил к ним пуговицы, которые пристегивал во время ходьбы. Целыми днями он бродил по лесам, и когда уставал, отдыхал, подкладывая под голову толстые томы философских книг: Вольтера, Руссо или Гегеля. Один раз тетенька Татьяна Александровна послала за ним, когда приехали гости, и когда он вышел в таком виде в гостиную к гостям, в своем парусиновом балахоне с туфлями на босу ногу, тетенька пришла в дикий ужас, а Левочка спокойно стал доказывать тщету всяких условностей и необходимость жить простой, естественной жизнью»3.
Неудовлетворенность ли светской, пустой жизнью казанского общества, еще большее одиночество, которое он ожидал после отъезда его братьев из Казани, неудовлетворение теми занятиями, которые он получал в университете, стремление ли к простой, естественной жизни в Ясной Поляне, а может быть, вследствие совокупности всех этих причин, Толстой, не дожидаясь экзаменов, в то время как братья сдавали свои выпускные экзамены, уехал в Ясную Поляну.
«Перемена в образе жизни должна произойти, — пишет он в дневнике от 17 апреля 1847 года. — Но нужно, чтобы эта перемена не была произведением внешних обстоятельств, но произведением души».
«Цель жизни человека есть всевозможное способствование к всестороннему развитию всего существующего».
Но, покидая университет, Толстой совершенно не был намерен оставаться необразованным человеком. Наоборот, со смелостью и предприимчивостью юности он наметил себе грандиозную программу:
«1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в Университете. 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 4) Изучить сельское хозяйство, как теоретическое, так и практическое. 5) Изучить историю, географию и статистику. 6) Изучить математику, гимназический курс. 7) Написать диссертацию. 8) Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи. 9) Написать правила. 10) Получить некоторые познания в естественных науках. 11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать».
Программа, казалось бы, невыполнимая. Но, за исключением юридических наук, живописи и медицины, во всех остальных областях он достиг серьезных знаний, никогда, до самых последних своих дней, не переставая самообразовываться во всех возможных областях.
«Я принял решение, — пишет Толстой в своей повести «Утро помещика», где, несомненно, описывает самого себя, — от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтоб посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее... Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастии этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать Богу? Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения или честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная, блестящая и ближайшая обязанность?»
Откуда пришла ему эта мысль?
До этого Толстой почти не задумывался над положением крестьянства, среди которого вырос и в чьей среде с детства привык многих любить, а другими и любовался... Одно из событий, которое много содействовало тому уважению и любви к народу, которое смолоду начал испытывать Лев Николаевич, он описывает сам:
«У отца была пара своего завода вороных очень горячих лошадей. Кучером был Митька Копылов. Он же был стремянным отца, ловкий ездок, охотник и прекрасный кучер и, главное, неоценимый форейтор. Неоценимый форейтор потому, что при горячих лошадях мальчик не мог бы управляться с ними, старый же человек был тяжел и неприличен для форейтора, так что Митька соединял редкие качества, нужные для форейтора. Качества эти были: малый рост, легкость, сила и ловкость. Помню, раз отцу подали фаэтон, и лошади подхватили, понесясь из ворот. Кто-то крикнул: «Понесли графские лошади!» С Пашенькой сделалась дурнота, тетушки бросились к бабушке успокаивать ее, но оказалось, что отец еще не садился, и Митька ловко удержал лошадей и вернулся во двор.
Вот этот самый Митька, после уменьшения расходов, был отпущен на оброк. Богатые купцы наперебой приглашали его к себе и взяли бы на большое жалование, так как Дмитрий уже щеголял в шелковых рубашках и бархатных поддевках. Случилось, что брат его по очереди должен быть отдан в солдаты, а
отец его, уже старый, вызвал его к себе на барщинскую работу. И этот, маленький ростом, щеголь Дмитрий через несколько месяцев преобразился в серого мужика в лаптях, правящего барщину и обрабатывающего свои два надела, косящего, пашущего и вообще несущего все тяжелое тягло тогдашнего времени. И все это без малейшего ропота, с сознанием, что это так должно быть и не может быть иначе».
Событие это в ту минуту произвело впечатление на мальчика, но, вероятно, скоро забылось. В самой ранней юности он писал о том, что простой народ не существует для него.
В 1847 году появился рассказ Григоровича «Антон Горемыка» и первый рассказ Тургенева из «Записок охотника». Оба эти рассказа произвели сильное впечатление на юношу. Впоследствии Толстой говорил, что «Записки охотника» — лучшее произведение, которое когда-либо написал Тургенев.
«Помню умиление и восторг, — писал он Григоровичу осенью 1893 года, по случаю 50-ти летнего юбилея автора, — произведенные на меня, тогда 16-летнего мальчика, не смевшего верить себе, «Антоном Горемыкой», бывшим для меня радостным открытием того, что русского мужика — нашего кормильца и — хочется сказать: нашего учителя — можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом».
Как иногда случайно запавшая искра долго тлеет и вдруг неожиданно, под влиянием дуновенья ветра, разгорается ярким пламенем, так искра, заброшенная в душу Толстого, вдруг разгорелась, и он почувствовал, что все семьсот человек, живущие в Ясной Поляне мужики — не только крепостные, которые исполняют барщину и отпускаются на оброк, а что это живые, думающие, чувствующие, страдающие и радующиеся люди. И как только он это понял, он должен был немедленно что-то делать, как-то помочь...
В таком повышенном настроении он приехал в свое имение Ясную Поляну.
Бурлили разлившиеся реки, набухали и кое-где лопались почки деревьев, над оживающими зеленями реяли жаворонки, наполняя воздух радостным пением. Была весна, весна, которая всегда так вдохновляла Толстого, открывая ему какие-то фантастические, ему одному понятные горизонты, возбуждая в нем сверхчеловеческую энергию, смутные желания, стремления.
Его встретили любимая им тетушка Татьяна Александровна, привычные, старые служащие, дворовые — крепостные.
Намерения Толстого помогать крестьянам были для тетеньки непонятны, это были опять какие-то странности, чудачества ее любимца Левочки. А Левочка бодро шагал по широкой, грязной улице деревни Ясной Поляны, с обеих сторон которой тянулись деревянные избы, с соломенными, побуревшими от дождя и снега крышами, где на завалинках грелись на солнце старики. Он заходил в избы, разговаривал с мужиками. Крестьяне называли его «Ваше Сиятельство» и не понимали, почему к ним пришел барин и что ему нужно, белоголовые ребята, в посконных, домотканных рубашонках, в страхе жались к матерям. Везде нужда, грязь, захудалый скот в плетневых сараях, утопающий в навозе.
Толстой никогда не представлял себе той ужасающей картины бедности и темноты, в которой жили его крепостные. Он понял, что помочь им нелегко. Главное же, что поразило его — это недоверие крестьян. Некоторые смотрели на него, как на чудака, с которого можно было что-то сорвать, другие видели в нем
барина, который хотел что-то сделать для собственной выгоды, в некоторых из них он чувствовал их явное превосходство над его молодостью, неопытностью.
Люди его круга, тетенька, управляющий считали крепостных людьми низшего разряда, созданными только для того, чтобы работать на помещиков.
А Толстой был слишком молод, чтобы понять, что только изменение основных законов — раскрепощение крестьян — могло искоренить бедность, нужду, подавленность и темноту крестьянства, которые так сильно его встревожили. Мысль о том, чтобы отпустить крестьян на волю, пришла ему лишь позднее.
Наступило горькое разочарование.
«Боже мой! Боже мой!.. Неужели вздор были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно, как будто я недоволен собой; тогда как я воображал, что, раз найдя эту дорогу, я постоянно буду испытывать ту полноту нравственно-удовлетворенного чувства, которую испытал в то время, когда мне в первый раз пришли эти мысли?.. Я недоволен, потому что я здесь не знаю счастья, а желаю, страстно желаю счастья. Я не испытал наслаждений, а уже отрезал от себя все, что дает их. Зачем? За что? Кому от этого стало легче?.. Разве богаче стали мои мужики? Образовались или развились они нравственно? Нисколько. Им стало не лучше, а мне с каждым днем становится тяжеле и тяжеле. Если б я видел успех в своем предприятии, если б я видел благодарность... но нет, я вижу ложную рутину, порок, недоверие, беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни».
Так пишет Толстой, заканчивая свою повесть «Утро помещика».
Жажда личного счастья, веселья охватили его. Он бросил свою работу в Ясной Поляне, свои несбывшиеся благие намерения и укатил в Москву.
«Я жил <...> очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели; жил так... просто потому, что такого рода жизнь мне нравилась», — писал он. Дневника
в ту пору Толстой не вел, ему было некогда, он с головой ушел, как он впоследствии сам говорил, в «беспутную городскую жизнь кутежей, пьянства, развратной, светской жизни».
Зиму 1849 года Толстой провел в Петербурге. «Неопределенная жажда знанья снова увлекла меня вдаль»1, — говорил он. Он решил бросить ни к чему не ведущие философские размышления, выдержать кандидатский экзамен при университете и начать служить, как все порядочные молодые люди его круга.
«Я знаю, — писал он брату Сергею, — что ты никак не поверишь, чтобы я переменился, скажешь — «это уже в двадцатый раз и все пути из тебя нет, самый пустяшный малый»; нет, я теперь совсем иначе переменился, чем прежде менялся: прежде я скажу себе: «дай-ка я переменюсь», а теперь я вижу, что я переменился и говорю: «я переменился».
Но перемениться он не мог. Не мог изучать юридические науки, еще менее того мог сделаться исправным чиновником, 20-го числа получающим жалование и исправно посещающим контору. Вместо этого он кутил, играл в карты, в конце концов провалился на экзаменах и в полном отчаянии писал покаянное письмо своему брату Сергею:
«Сережа! Ты, я думаю, уже говоришь, что я «самый пустяшный малый»; и говоришь правду. — Бог знает, что я наделал!». И он умоляет брата прислать ему как можно скорее 3500 денег, а то «сверх денег потеряю и репутацию». «Я знаю, ты будешь ахать, но что же делать, глупости делают раз в жизни. Надо было мне поплатиться за свою свободу и философию, вот я и поплатился... Бог даст, я и исправлюсь и сделаюсь когда-нибудь порядочным человеком...»
Что было делать? Идти в юнкера и присоединиться к венгерскому походу? Служить? Ехать в Ясную Поляну? Толстой избрал последнее и, прихватив с собой пьяницу музыканта Рудольфа, поразившего его своим необычайным талантом, Толстой уехал в Ясную Поляну. Он записался в Туле на службу в канцелярию Тульского Дворянского Собрания, продолжая вести тот же образ жизни, проводя время в кутежах с цыганами, играя в карты и находя отдых и успокоение только в Ясной Поляне.
«Я не могу не вспомнить моей холостой жизни с ней [Т. А. Ергольской] в Ясной Поляне, в особенности осенними и зимними длинными вечерами, — писал он в своих «Воспоминаниях». — И эти вечера остались для меня чудесным воспоминанием»... «После дурной жизни в Туле, у соседей, с картами, цыганами, охотой, глупым тщеславием, вернешься домой, придешь к ней (тетеньке), по старой привычке поцелуешься с ней рука в руку, я — ее милую, энергическую, она — мою грязную, порочную руку... и сядешь в покойное кресло. Она знает все, что я делал, жалеет об этом, но никогда не упрекнет, всегда с той же ровной лаской, с любовью».
В этот очень дурной для него, как он говорил, период времени, он находил некоторое успокоение в музыке. Талантливый немец Рудольф вдохновил его. Он томился... Художественная натура его искала проявления, и он решил, что может сделаться великим музыкантом-композитором. Он часами играл на рояле, вдохновляясь сочетаниями звуков, пытаясь даже сочинить свою теорию под заглавием: «Основные начала музыки и правила для изучения оной».
Музыка всегда сильно действовала на Толстого. Моцарт, Гайдн, Шуберт, Шопен были любимыми его композиторами. Но любовь к классической музыке не мешала ему любить и народную и цыганскую песню.
В то время в Туле бьш прекрасный хор цыган, и Лев вместе со своим братом Сергеем были у них завсегдатаями. Большинство русской аристократической молодежи увлекались в то время цыганами. К ним влекла их бесшабашная, разгульная жизнь, музыкальность, доброта и ласковая простота их женщин, причем, как ни странно, была какая-то патриархальность в укладе их жизни, строгость и чистота нравов. Редко случалось, чтобы девушка или женщина соглашалась жить с мужчиной вне брака. Собирались цыгане обычно на чьей-нибудь квартире, в предместьях Тулы. Составлялся хор. Женщины, в разноцветных платьях, ярких повязках, с перекинутыми цветными шалями через одно плечо, рассаживались полукругом впереди, за ними выстраивались стройные, смуглые човалы с гитарами, в разноцветных шелковых рубахах и плисовых безрукавках. Перебирая струны, стоя впереди хора, дирижер вдруг едва заметно поводил гитарой и тихо, чуть слышно, одним дружным вздохом поднималась песня; громче и громче, быстрее, резче звенели богатые, могучие аккорды гитаристов. Темп все ускорялся, гости в такт притоптывали ногами; быстрее, быстрее, громче, не теряя ритма, гитаристы уже всей кистью били по струнам, и вдруг спокойно выплывали цыганки, одна, другая. Они шли, то простирая к кому-то руки, то падая вперед, то, гордо откинув голову, снова опрокидывались назад, дрожа плечами и отбивая чечетку. Сверкали зубы, тряслись на шее золотые монисты. Кричали и гикали човалы, какими-то гортанными, отрывистыми восклицаниями поощряли сами себя плясуньи, кричали гости. И вдруг из задних рядов вылетал плясун-човал. Он бил себя руками о колени, бил о пол, как сатана, кружился между двумя женщинами, метался между ними в бешеной чечотке, темп нарастал, гиканье становилось громче, гости кричали, возбуждение доходило до крайних пределов. Последний аккорд гитар, плясуны замирали... наступала тишина.
Утирая пот, дирижер-цыган становился перед маленькой, смуглой, с кротким, милым выражением лица красавицей цыганкой Машей. Маша пела... Она пела о широкой степи, о потухающей заре, о лихих степных лошадях, о любви. Низкий голос ее проникал в самую душу, сквозь затуманенные вином и шампанским головы бродили неясные мечты о прекрасном, недостижимом...
У Маши много поклонников, но она любит одного — красавца Сергея Николаевича Толстого. Маша полюбила его горячо, крепко, полюбила в первый раз и на всю жизнь. И светский, блестящий молодой человек ради Маши сломал всю свою будущность. Он привязался к ней, он не мог бросить ее и впоследствии женился на ней.
Вторым увлечением Льва Толстого в то время была охота. Осенью, с борзыми в отъезжее поле, где он проводил целые дни, или же с собакой и ружьем, в высоких сапогах, шлепал по болотам за дикими утками, бекасами и дупелями, весной, стоя на опушке Заказа или Засеки, наблюдая как сквозь еще голые деревья пряталось весеннее робкое солнце, он с замираньем сердца ждал знакомого хорканья вальдшнепов.
Записей в дневнике он почти не делал. 8 декабря 1850 года он записывает: «Большой переворот сделался во мне в это время; спокойная жизнь в деревне, прежние глупости и необходимость заниматься своими делами принесли свой плод. Перестал я делать испанские замки и планы, для исполнения которых не достанет никаких сил человеческих. — Главное же и самое благоприятное для этой перемены
убеждений то, что я не надеюсь больше одним своим рассудком дойти до чего-либо и не презираю больше форм, принятых всеми людьми».
И как бы искусственно, в противовес своей широкой, художественной, творческой натуре, он втискивает себя в эти «формы, принятые всеми людьми», и решение его немедленно же отражается в записях его дневника: «Ни малейшей неприятности или колкости не пропускать никому, не отплативши вдвое»... «1) Попасть в круг игроков и, при деньгах, играть. 2) Попасть в высокий свет и, при известных условиях, жениться. 3) Найти место выгодное для службы».
Но правила эти были написаны только для того, чтобы немедленно же их нарушить.
«Приехал я в Москву с тремя целями, — пишет он в дневнике. — 1) Играть. 2) Жениться. 3) Получить место. Первое скверно и низко, и я, слава Богу, осмотрев положение своих дел и отрешившись от предрассудков, решился поправить и привести в порядок дела продажею части имения. Второе, благодаря умным советам брата Николиньки, оставил до тех пор, пока принудит к тому или любовь, или рассудок, или даже судьба, которой нельзя во всем противодействовать. Последнее невозможно до двух лет службы в губернии, да и по правде, хотя и хочется, но хочется много других вещей... Поэтому погожу, чтобы сама судьба поставила в такое положение. Много слабостей имел я в это время. Главное, мало обращал внимания на правила нравственные, завлекаясь правилами, нужными для успеха».
В биографии Франклина он читал, что Веньямин Франклин вел особую записную книжку, где он записывал все свои слабости, которые надо исправить, и он немедленно заводит себе такой дневник. К сожалению, записи эти не сохранились.
Все эти колебания, падения и взлеты привели его к новой вспышке религиозного, покаянного настроения, которое он описал в отрывке «История вчерашнего дня».
«В Франклиновском журнале у меня по графам расписаны слабости: лень, ложь, обжорство, нерешительность, желание себя выказать, сладострастие, мало fierte и т. д., все вот такие мелкие страстишки. В этих группах я из дневника выписываю свои преступления и отмечаю крестиками по графам».
В Москве Толстой поехал к Иверской, отслужил молебен, говел.
«Ужасное раскаяние; никогда я не чувствовал его так сильно... Я стал религиозен, еще более в деревне», — писал он.
Желая перевернуть новую страницу во всей своей жизни, Лев, естественно, очень обрадовался предложению старшего брата Николая поехать с ним на Кавказ.
Может быть, старший брат Николай чутким умом своим понял, как нужна была перемена Льву. Он видел, что Лев не спокоен, нерешителен и, не находя себе дела, которое могло бы увлечь его, мечется между Москвой, Тулой и Ясной Поляной и запутывается все больше и больше.
Николай поступил на военную службу, его переводили на Кавказ, и он предложил Льву поехать с ним.
Кавказ! Недаром и Пушкин и Лермонтов воспели его во многих своих стихотворениях и поэмах.
Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.
Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них,низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.
А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах.
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;
Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполезной,
И лижет утесы голодной волной...
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.
Так представлял себе Пушкин Кавказ в его величавом, разнообразном великолепии: с его голыми утесами, мрачными ущельями, снеговыми неприступными вершинами и ледниковыми полями, неудержимыми, бурными водопадами; с его мягкими, зелеными склонами гор, фруктовыми садами, мирными аулами, населенными полудикими племенами, живущими своей особой, примитивной жизнью, со своими обычаями и понятиями о благородстве — жестокими, независимыми и мстительными.
Тебе, Кавказ — суровый царь земли, —
Я снова посвящаю стих небрежный:
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной!
От ранних лет кипит в моей крови
Твой жар и бурь твоих порыв мятежный;
На севере, в стране тебе чужой,
Я сердцем твой — всегда и всюду твой!
Это говорит Лермонтов, творчество которого расцвело на Кавказе. Неудивительно поэтому, что и для Толстого Кавказ явился колыбелью как первых живых «потоков» вдохновенья, так и первых «грозных обвалов» мыслей и чувств.
В девятнадцатом столетии южная часть Кавказа, Грузия, которая до этого времени управлялась самостоятельно своим царем, перешла в подданство России. Другие же независимые горные племена, между Грузией и Россией, держались своей самостоятельности и в продолжение полувека отчаянно защищались от
русских. Шла непрерывная борьба между горцами и русскими, главным образом казаками, которыми, для защиты от горцев, были заселены левый берег Терека и правый берег Кубани.
Сильные и ловкие горцы знали каждую тропинку, как кошки, умели карабкаться по крутым горам. Внезапно появляясь на своих крепких, небольших лошадях, они нападали на станицы, грабили жителей, вырезывали население, а иногда брали в плен и мужчин и женщин и уводили их в горы.
Толстой был счастлив, что он едет. Он радовался тому, что ехал со своим любимым братом Николаем, что была весна, что он молод, а главное, радовался тому, что начиналось нечто новое, захватывающе интересное, такое, от чего изменится вся его жизнь и он избавится от своих пороков и найдет самого себя.
Описывая своего героя в «Казаках», не о себе ли писал Толстой:
«Для него не было никаких — ни физических, ни моральных — оков; он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а, напротив, увлекался постоянно. Он решил, что любви нет, а всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звание — вздор, но чувствовал невольное удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергий и говорил ласковые речи. Но отдавался он всем своим увлечениям лишь настолько, насколько они не связывали его. Как только, отдавшись одному стремлению, он начинал чуять приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнью, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу. Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которой одно время думал посвятить себя, и даже любовь к женщинам, в которую он не верил. Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке. — на искусство ли, на науку ли, на любовь к женщине, или на практическую деятельность, — не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет, и как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется...»
«Уезжая из Москвы, он находился в том счастливом, молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что все это было не то, что все прежнее было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить хорошенько, но что теперь, с выездом его из Москвы, начинается новая жизнь, в которой уже не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а наверное будет одно счастье».
Все было чудесно: он ехал с Николенькой, которого он уважал за его глубокую порядочность, презрение к мнению людей, чуткость; чудесный был и маршрут, придуманный Николенькой, — на лошадях до Саратова, оттуда, погрузивши тарантас на косовушку, вниз по Волге; чудесна была и полноводная после весеннего разлива красавица Волга.
По дороге братья остановились в Казани. В том настроении, в котором находился Толстой, неудивительно было, что потребность любви била в нем ключом и в нем снова разгорелась любовь к Зинаиде Молоствовой, за которой он ухаживал, когда был студентом в Казани.
«Любовь и религия — вот два чувства — чистые, высокие, — пишет он в дневнике от 8 июня 1851 г. — Не знаю, что называют любовью. Ежели любовь то, что я про
нее читал и слышал, то я ее никогда не испытывал. Я видал прежде Зинаиду институточкой, она мне нравилась, но я мало знал ее... Я жил в Казани неделю. Ежели бы у меня спросили, зачем я жил в Казани, что мне было приятно, отчего я был так счастлив? Я не сказал бы, что это потому, что я влюблен. Я не знал этого. Мне кажется, что это-то незнание и есть главная черта любви и составляет всю прелесть ее. Как морально легко мне было в это время, Я не чувствовал этой тяжести всех мелочных страстей, которая портит все наслаждения жизни. Я ни слова не сказал ей о любви, но я так уверен, что она знает мои чувства, что ежели она меня любит, то я приписываю это только тому, что она меня поняла».
Но любовь к Зинаиде была лишь мимолетным чувством. Скоро, под новыми впечатлениями, он забывает о ней: «Зинаида выходит за Тиле, — пишет он год спустя. — Мне досадно, и еще более то, что это мало встревожило меня».
Впоследствии Лев говорил о том, что никогда не забудет этой поездки вниз по Волге. Медленно, встречая на своем пути важно и спокойно скользящие по реке суда, тянущиеся вверх по течению нагруженные барки, которые с песнями тащили сильные, обветренные люди, плыли братья вниз по Волге на своей примитивной косовушке, любуясь берегами могучей реки, перелесками, полями, пологими, сыпучими берегами, едва виднеющимися иногда в дымке утреннего тумана. В Астрахани выгрузились и до Старогладковской станицы продолжали путь на лошадях.
Когда, в первый раз, Толстой увидал горы, они потрясли его:
«Утро было совершенно ясное, — пишет он в «Казаках». — Вдруг он увидал шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту — чисто белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между ними и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался»...
Общество офицеров, в которое попали братья Толстые, было несомненно гораздо ниже их и по социальному положению и по воспитанию. «Сознаюсь, — писал он тетеньке Татьяне Александровне в Ясную Поляну, — что вначале многое меня коробило в этом обществе, потом я свыкся с ним, хотя не сошелся ни с одним из этих господ. Я нашел подходящую середину, в которой нет ни гордости, ни фамильярности; впрочем, в этом мне только приходилось следовать примеру Николеньки».
Его тянули к себе примитивные, здоровые, простые люди. Они не коробили его своей банальностью, искусственностью. «Люди живут, — пишет он в «Казаках», — как живет природа: умирают, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет...»
Куда девались убеждения Толстого о необходимости быть ком иль фо? О том, что человек без перчаток «дрянь»? Он впадает в другую крайность.
«Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собой — вечные, неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего Творца».
Женщины, как всегда, тянули его к себе, нарушая его душевный покой, мешая ему жить и работать. Как глубоко он привязался к красавице казачке, с которой он жил, — неизвестно. Но смутные мысли об опрощении, женитьбе на казачке — бродили в его голове. Женщины здесь, на Кавказе, как старый друг его, казак Епишка, или лихой джигит, приятель его, Садо, и лошади, и дикие кабаны, фазаны, горный бодрящий воздух, быстрые мутные реки — сливались в одно целое: «Я тогда не верил, что могу полюбить эту женщину. Я любовался ею, как красотой гор и неба, и не мог не любоваться ею, потому что она прекрасна, как и они. Потом я почувствовал, что созерцание этой красоты сделалось необходимостью в моей жизни, и я стал спрашивать себя, люблю ли я ее?..»
Не свои ли чувства описывает в «Казаках» Толстой, когда он пишет: «И мое будущее представляется мне еще безнадежнее. Каждый день передо мной далекие снежные горы и эта величавая счастливая женщина. И не для меня единственно возможное на свете счастье, не для меня эта женщина!..»
И дальше идет описание, как Оленин целыми ночами простаивает под окном казачки, не в силах справиться с обуревающим его чувством.
За два с половиной года пребывания Толстого на Кавказе главными его приятелями были старый казак Епишка — «молодец, вор, мошенник, табуны угонял на ту сторону, людей продавал, чеченцев на аркане водил... никогда не работал... Он или был переводчиком, или исполнял такие поручения, которые исполнять мог, разумеется, только он один: например, привести какого-нибудь абрека, живого или мертвого, из его собственной сакли, в город, поджечь дом... известного в то время предводителя горцев, привести к начальнику отряда почетных стариков, или атаманов из Чечни... Охота и бражничание — вот две страсти нашего старика: они были и теперь остаются его единственным занятием, все другие его приключения — только эпизоды».
«Милейший человек, простодушнейший, веселый», — говорил про него Толстой в старости. В этом могучем, громадного роста человеке сочетались и лихость
и храбрость, неимоверная жестокость к врагу и жалость к бабочке, летевшей на огонь, оправдание греха и вместе с тем боязнь его.
В «Казаках» описывается, как рассердился старик, когда молодой юнкер спрашивает его:
— А ты убивал людей?
Старик вдруг поднялся на оба локтя и близко придвинул свое лицо к лицу Оленина.
— Чорт! — закричал он на него. — Что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено, ох, мудрено! Прощай...
В старости Епишка пошел в скит и там умер, замаливая свои грехи. Вторым приятелем Толстого был молодой чеченец Садо, сын богатого мирного чеченца, который денег Садо не давал, а закопал их в землю, чтобы не отняли враги. Садо часто приезжал в лагерь играть в карты с офицерами. Садо плохо считал, некоторые офицеры обыгрывали его и обсчитывали. Толстой это заметил и предложил Садо играть за него. С тех пор Садо стал считать Толстого своим другом — кунаком. Несколько раз они обменивались подарками. Садо был лихой джигит, вор, с опасностью для жизни крал лошадей и коров у неприятеля, продавал накраденное и этим жил. Когда у Толстого заболела лошадь и он хотел купить другую, Садо привел ему свою и потребовал, чтобы Толстой ее взял. Не принять подарка по традициям горцев значит нанести им большую обиду. А если гостю понравится что-либо, принадлежащее горцу, и он похвалит ружье ли, седло, или кинжал, даже лошадь, — эта вещь уже ваша, горец должен подарить ее вам.
Вскоре по приезде на Кавказ Толстой сильно проигрался и вынужден был выдать вексель, так как уплатить всей проигранной суммы не мог. Долг его мучил, он подумывал даже о необходимости продажи части Ясной Поляны. Садо это знал. Срок векселя приближался, платить было нечем. Как-то раз, ложась спать, Толстой даже молился о том, чтобы Бог помог ему выйти из этого тяжелого положения. И вдруг, наутро, он неожиданно получил письмо от брата Николая: «На-днях был у меня Садо, — пишет ему брат из Старого Юрта. — Он выиграл... твои векселя и принес мне их. Он так был доволен этому выигрышу, так счастлив и так много меня спрашивал: «Как ты думаешь, брат рад будет, что я это сделал?» — что я очень его за это полюбил. Этот человек, действительно, к тебе привязан».
В июне 51 года Толстой как доброволец участвовал в набеге на горцев. Его храбрость была отмечена, и главнокомандующий, которому он был представлен, посоветовал ему поступить на военную службу, что Толстой и сделал.
В то время как Толстой привыкал к воинственной, красочной, полной опасностей и приключений жизни на Кавказе, в нем напряженно шла внутренняя работа, и он не переставая искал, нащупывая то поприще, куда он должен был «положить всю силу... молодости, только раз бывающую в человеке».
Впечатлительность, острая наблюдательность, любовь к людям и понимание их, умение улавливать тончайшие изгибы в душах человеческих, разносторонность интересов и мыслей, острое желание поделиться с другими накопленным богатством — все это вместе заставило Толстого взяться за перо. Он начал писать «Историю моего детства».
Он пробовал писать и раньше, но ничего не выходило. Очевидно, он не был еще готов к оформлению тех образов, которые складывались в его воображении.
Образы эти — немец Карл Иванович, родные, предки Толстого, казак Епиш-
ка, Садо, Хаджи-Мурат, впечатления природы — Толстой хранил в своей памяти как драгоценный материал, из которого он позднее черпал то, что ему было нужно для художественного произведения. Иногда материал этот употреблялся немедленно, иногда проходили долгие годы, прежде чем Толстой извлекал из своей сокровищницы то, что его интересовало.
Так было с Хаджи-Муратом, о котором он впервые узнал на Кавказе, но повесть о котором он написал только 50 лет спустя.
«Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавказа, — писал Толстой брату Сергею, — то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец во всей Чечне, а сделал подлость».
Толстой писал «Историю моего детства» с увлечением, не зная еще, что выйдет из его писания. Он переносился мыслями в прошлое, события же сегодняшнего дня — набег, в котором участвовал Толстой, он описал только через год (в 1852 г.).
Этот набег был, в сущности, первым военным действием, в котором Толстому пришлось участвовать, и оно произвело на него сильное впечатление.
Уже тогда, в молодом 24-летнем человеке, наблюдаются начала того миросозерцания, к которому пришел Толстой после 80-го года: отрицание всякого убийства.
«Меня занимал только вопрос, — спрашивал он себя, — под влиянием какого чувства решается человек без видимой пользы подвергать себя опасности и, что еще удивительнее, убивать себе подобных?»
«Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой, этим непосредственнейшим выражением красоты и добра!»
«Вчера я почти всю ночь не спал, пописавши дневник, я стал молиться Богу. Сладость чувства, которое испытал я на молитве — передать невозможно... Мне хотелось слиться с Существом всеобъемлющим. Я просил Его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал... что мне нечего просить, и что я не могу и не умею просить. Я благодарил, да, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял все — и мольбу и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств — Веры, Надежды и Любви я не мог бы отделить от общего чувства.
Нет — вот оно чувство, которое я испытал вчера — это любовь к Богу. — Любовь высокую, соединяющую в себе все хорошее, отрицающую все дурное.
Как страшно было мне смотреть на всю мелочную порочную сторону жизни. Я не мог постигнуть, как она могла завлекать меня. Как от чистого сердца просил я Бога принять меня в лоно Свое. Я не чувствовал плоти, я был один дух...»
Но страстная, бушующая плоть, человеческие слабости брали свое...
«...Не прошло часу — я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустой стороны жизни; знал, откуда этот голос, знал, что он погубит мое блаженство, боролся и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах; но я не виноват, я не мог.
Вечное блаженство здесь невозможно. Страдания необходимы. Зачем? Не знаю. И как я смею говорить: не знаю. Как смел я думать, что можно знать пути Провидения. Оно — источник разума, и разум хочет постигнуть...
Ум теряется в этих безднах премудрости, а чувство боится оскорбить Его. Благодарю Его за минуту блаженства, которая показала мне и ничтожность и величие мое. Хочу молиться, но не умею; хочу постигнуть, но не смею...»
В такие минуты он переживал ощущения человека, вознесшегося до вершины неприступной горы, перед которым вдруг открывается необъятный вид, со страшной силой он ощущает все великолепие мироздания, его потрясает ощущение высоты, близости к высшему, к Богу. «Я царь мира, я достиг того, что недоступно людям», — думает человек, глядя на едва заметных людей-букашек, ползающих внизу, его охватывает восторг... но вдруг он чувствует, что ему нехорошо, тяжко дышать, кружится голова, глаза слепит девственная белизна снега, человек шатается, слабеет, быстро спускается вниз...
Такие минуты потрясали все существо Толстого. Он испытывал чувства полного духовного наслаждения, почти восторга, когда вдруг, в порывах этих могучих взлетов, людские страсти, чувственные наслаждения, тщеславие, гордость, мелкие привычки и слабости людские рассматривались им с высоты и казались такими мелкими, ничтожными и гадкими... Но чем выше и могучее были взлеты, тем мучительнее падения...
Он был «не виноват». Духовная сила Толстого даже в то время, когда грехи одолевали его, была в одном: он не оправдывал греха, не узаконивал его, он клеймил себя за него и утешался только тем, что это был тот навоз, который мог или засорять или удобрять почву, выращивать дурные или полезные растения.
По-видимому, эти минуты душевного подъема были настолько насыщены, духовно великолепны, что выразить он их не мог.
«Зачем писал я все это? — восклицает он с горечью после того, как он пытается изобразить свое душевное состояние в дневнике. — Как плоско, вяло, даже бессмысленно выразились чувства мои; а были так высоки!!»
Все чаще и чаще проглядывает в Толстом желание найти художественное отображение своих мыслей и чувств. Постепенно работа над формой изображения входила в привычку, Толстой, сам того не ведая, учился писать.
«Сейчас лежал я за лагерем. Чудная ночь! Луна только что выбиралась из-за бугра и освещала две маленькие, тонкие, легкие тучки; за мной свистел свою заунывную, непрерывную песнь сверчок; вдали слышна лягушка, и около аула то раздается крик татар, то лай собаки; и опять все затихнет, и опять слышен один только свист сверчка и катится легонькая, прозрачная тучка мимо дальних и ближних звезд. Я думал: пойду, опишу я, что вижу. Но как написать это. Надо пойти, сесть за закапанный чернилами стол, взять серую бумагу, чернила; пачкать пальцы и чертить по бумаге буквы. Буквы составят слова, слова — фразы: но разве можно передать чувство? Нельзя ли как-нибудь перелить в другого свой взгляд при виде природы? Описание недостаточно. Зачем так тесно связана поэзия с прозой, счастье с несчастьем? Как надо жить? Стараться ли соединить вдруг поэзию с прозой, или насладиться одною и потом пуститься жить на произвол другой?
В мечте есть сторона, которая лучше действительности; в действительности есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастье было бы соединение того и другого».
В дневнике от 4 июля Толстой снова возвращается к этим мыслям:
«Мне кажется, что описать человека собственно нельзя: но можно описать, как он на меня подействовал. Говорить про человека: он человек оригинальный, добрый, умный, глупый, последовательный и т. д. — слова, которые не дают никакого понятия о человеке, а имеют претензию обрисовать человека, тогда как часто только сбивают с толку».
Видимо, он искал художественного изображения в прозе, которым он всегда восхищался в своих любимых писателях, в Гоголе, в Пушкине, которого он называл своим учителем: «Где границы между прозой и поэзией, — пишет он дальше в своем дневнике, — я никогда не пойму; хотя есть вопрос об этом предмете в словесности; но ответ нельзя понять. Поэзия — стихи. Проза — не стихи, или: поэзия — все, исключая деловых бумаг и учебных книг. Все сочинения, чтобы быть хорошими, должны, как говорит Гоголь в своей прощальной повести («она выпелась из души моей»), выпеться из души сочинителя»...
17 августа 1851 г. он пишет в Ясную Поляну тетеньке Татьяне Александровне: «Вы мне много раз говорили, что у вас нет привычки писать черновики для ваших писем; я следую вашему примеру, но у меня это не выходит так хорошо, как у вас. так как мне часто случается рвать письма после того, как я их перечитаю. Я делаю это не из ложного стыда. Орфографическая ошибка, клякса, неловкое выражение не стесняют меня; но дело в том, что мне не удается умение управлять своим пером и мыслями»*.
В письме от 12 ноября 51 года из Тифлиса, куда Толстой ездил с братом Николаем для сдачи офицерского экзамена и определения на службу, он пишет тетеньке Татьяне Александровне:
«Помните, добрая тетенька, совет, который вы раз мне дали — писать романы. Так вот, я следую вашему совету, и занятия, о которых я вам писал, состоят в литературе. Я еще не знаю, появится ли когда-нибудь в свет то, что я пишу; но эта работа, которая меня занимает, и в которой я уже слишком далеко зашел, чтобы ее оставить»**.
По-прежнему Толстой был одинок. Для окружавших его людей он оставался странным или гордым, и сойтись с ними он не мог.
«Отчего не только людям, которых я не люблю, не уважаю и другого со мною направления, но всем без исключения, — пишет он в дневнике 25 мая 1852 года, — заметно неловко со мной. Я должен быть несносный, тяжелый человек».
Даже казак Епишка, по простоте душевной, сказал Толстому, что он «какой-то нелюбимой», и Толстой страдал от этого одиночества. «Надо привыкнуть, что никто никогда не поймет меня. Это участь, должно быть, общая всем
* Перевод с фр. В Юбилейном издании другой перевод: «Вы мне говорили несколько раз. что Вы пишете письма прямо набело; беру с Вас пример, но мне это не дается так, как Вам, и часто мне приходится, перечтя письмо, его разрывать. Но не из ложного стыда, — орфографическая ошибка, клякса, дурной оборот речи меня не смущают; но я не могу добиться того, чтобы управлять своим пером и своими мыслями» (т. 59, с. 115).
** Перевод с фр. В Юбилейном издании так: «Помните, добрая тетенька, что когда-то Вы посоветовали мне писать романы; так вот я послушался Вашего совета — мои занятия, о которых я Вам говорю — литературные. Не знаю, появится ли когда на свет то. что я пишу, но меня забавляет эта работа, да к тому же я так давно и упорно ею занят, что бросать не хочу» (Т. 59. С. 119).
людям слишком трудным», Толстой из скромности не написал «участь людей выдающихся», что было бы вернее.
В другой раз он пишет: «Раз навсегда надо привыкнуть к мысли, что я — исключение, что или я обогнал свой век, или — одна из тех несообразных, неуживчивых натур, которые никогда не бывают довольны». Но одиночество удручало его. Потребность любви, ласки участия были в нем так же сильны, как и прежде, и тетенька Татьяна Александровна была единственным близким человеком. Может быть, именно потому, что никого другого не было, кому он мог бы излить свои чувства, он писал ей в несколько преувеличенных выражениях: «Я не могу выразить того чувства, которое я питаю к вам, я боюсь, чтобы вы не подумали, что я преувеличиваю. А между тем я плачу горькими слезами, пока пишу вам. Этой тяжелой разлуке я обязан сознанием того, какой вы для меня друг и как я вас люблю»*.
Мечты о семейном счастии по-прежнему не оставляют его. Описывая и снова ярко переживая свое детство, он вспоминал то время, когда была семья, дом, и он мечтал о том, что снова в Ясной Поляне создастся семья, «его» семья:
«Думал о счастии, которое меня ожидает. Вот как я его себе представляю. После определенного числа лет, — ни молодой, ни старый, я в Ясной Поляне, дела мои в порядке, у меня нет ни беспокойства, ни неприятностей. Вы тоже живете в Ясной... Это чудный сон... Я женат; моя жена тихая, добрая, любящая, вас любит так же, как и я; у нас дети, которые вас зовут бабушкой, вы живете в большом доме наверху, в той комнате, где жила бабушка. Весь дом содержится в том же порядке, какой был при отце, и мы начинаем ту же жизнь, только переменившись ролями. Вы заменяете бабушку, но вы еще лучше ее; я заменяю отца, хотя и не надеюсь никогда заслужить эту честь. Жена моя заменяет мать, — дети — нас. Маша берет на себя роль двух теток, исключая их горя... Будет три новых лица, которые будут иногда появляться среди нас — это братья, особенно один, который часто будет с нами. Николенька — старый холостяк, лысый, в отставке, всегда такой же добрый, благородный»**.
Так мечтал Толстой о мирной, спокойной жизни в то время, как он уже юнкером участвует в ряде военных действий против чеченцев.
* Перевод с фр. Перевод, опубликованный в Юбилейном издании: «Опять я плачу. Почему это я плачу, когда думаю о вас? Это слезы счастья, я счастлив тем, что умею вас любить. — И какие бы несчастья меня ни постигли, покуда вы живы, несчастлив беспросветно я не буду. ...В минуту расставания я вдруг понял, как по вдохновению, что вы для меня значите и. по-ребячески, слезами и несколькими отрывочными словами, я сумел вам передать то, что я чувствовал».
** Перевод с фр. Перевод, опубликованный в Юбилейном издании: «... думая о том счастье, которое меня ожидает. — И вот как я его себе представляю. — Пройдут годы, и вот я уже не молодой, но и не старый в Ясной — дела мои в порядке, нет ни волнений, ни неприятностей; вы все еще живете в Ясной... Чудесный сон... Я женат — моя жена кроткая, добрая, любящая, и она вас любит так же, как и я. Наши дети вас зовут «бабушкой»; вы живете в большом доме, наверху, в той комнате, где когда-то жила бабушка; все в доме по-прежнему, в том порядке, который был при жизни папа, и мы продолжаем ту же жизнь, только переменив роли: вы берете роль бабушки, но вы еще добрее ее, я — роль папа, но я не надеюсь когда-нибудь ее заслужить; моя жена — мама, наши дети — наши роли: Машенька — в роли обеих тетенек, но не несчастна, как они... Три новых лица будут являться время от времени на сцену — это братья и, главное, один из них — Николенька, который будет часто с нами. Старый холостяк, лысый, в отставке, по-прежнему добрый и благородный».
По его дневникам видно, как Толстой подготовлял себя к опасности, даже к смерти, перед сражениями:
«Я равнодушен к жизни, — пишет он перед поездкой в отряд, — в которой слишком мало испытал счастья, чтобы любить ее, поэтому не боюсь смерти. Не боюсь и страданий, но боюсь, что не сумею хорошо перенести страданий и смерти. — Я не совершенно спокоен и замечаю это потому, что перехожу от одного расположения духа и взгляда... к другому. Странно, что мой детский взгляд — молодечество — на войну, для меня самый покойный»...
Вопрос о его не только поведении, но и самочувствии, беспокоил его: «Я любил воображать себя совершенно хладнокровным и спокойным в опасности, — пишет он 28 февраля 1852 года, после сражения. — Но в делах 17 и 18 числа я не был таким... Это был единственный случай покачать всю силу своей души. И я был слаб и поэтому собою недоволен».
Усилия, которые он над собой делал, страх, неминуемо испытываемый всяким человеком, участвующим в сражении, были им забыты, в памяти остались его действия и поведение. По-видимому, он был на высоте. 20 марта он записывает: «Февраль провел в походе — собою был доволен... Отправляясь в поход, я до такой степени приготовил себя к смерти, что не только бросил, но и забыл про свои прежние занятия»...
За время своего пребывания на Кавказе несколько раз Толстой бывал на волоске от смерти.
«Если бы дуло пушки, из которого вылетело ядро, на одну тысячную линии было отклонено в ту или другую сторону, — писал он одному своему другу, — я бы был убит».
Благодаря своей храбрости, граничившей с молодечеством, Толстой чуть-чуть не попал в плен к чеченцам. Случай этот, изменив конец, много лет спустя он отобразил в «Кавказском пленнике» — рассказе о двух русских военных, попавших в плен к татарам.
А дело было так.
Толстой с другом своим Садо провожал обоз в крепость Грозную. Обоз шел медленно, останавливался, Толстому было скучно. Он и еще четверо верховых, сопровождавших обоз, решили его обогнать и уехать вперед. Дорога шла ущельем, горцы ежеминутно могли напасть сверху, с горы, или неожиданно из-за утесов и уступов скал. Трое поехали по низу ущелья, а двое — Толстой и Садо — по верху хребта. Не успели они выехать на гребень горы, как увидали несущихся навстречу им чеченцев. Толстой крикнул товарищам об опасности, а сам, вместе с Садо, во весь дух помчался вперед к крепости. К счастью, чеченцы не стреляли, они хотели взять Садо в плен живым. Лошади были резвые, и им удалось ускакать. Пострадал молодой офицер, убитая под ним лошадь придавила его и он никак не мог из-под нее высвободиться. Скакавшие мимо чеченцы до полусмерти изрубили его шашками, и, когда русские подобрали его, уже было поздно, он умер в страшных мучениях.
Походы, карты, охота, женщины — все это не мешало той внутренней работе, сложный процесс которой шел, переплетаясь и порою сливаясь в единый поток, по двум руслам: собственное самосовершенствование и творчество.
«Сколько я мог изучить себя, мне кажется, что во мне преобладают три дурные страсти: игра, сладострастие и тщеславие... Страсть к игре проистекает из страсти к 'деньгам, но большей частью (особенно те люди, которые более
проигрывают, чем выигрывают), раз начавши играть от нечего делать, из подражания и из желания выиграть не имеют страсти к выигрышу, но получают новую страсть к самой игре, к ощущениям. — Источник этой страсти, следовательно, в одной привычке, и средство уничтожить страсть — уничтожить привычку. — Я так и сделал...»
«Сладострастие имеет совершенно противоположное основание: чем больше воздерживаешься, тем сильнее желание. Есть две причины этой страсти: тело и воображение. Телу легко противостоять, воображению же, которое действует и на тело, очень трудно. Средство против как той, так и другой причины есть труд и занятия, как физические — гимнастика, так и моральные — сочинения. — Впрочем, нет. — Так как это влечение естественное, и которому удовлетворять я нахожу дурным только по тому неестественному положению, в котором нахожусь (холостым в 23 года), ничто не поможет, исключая силы воли и молитвы к Богу — избавить от искушения... Тщеславие есть какая-то недозрелая любовь к славе, какое-то самолюбие, перенесенное в мнение других — он любит себя не таким, каким он есть, а каким показывается другим... Я много пострадал от этой страсти, она испортила мне лучшие годы моей жизни и навек унесла от меня всю свежесть, смелость, веселость и предприимчивость молодости. Не знаю как, но я подавил ее, и даже впал в противоположную крайность: я остерегаюсь всякого проявления, обдумываю вперед, боясь впасть в прежний недостаток... Не могу сказать, чтобы страсть эта была совершенно уничтожена, потому что часто я жалею о наслаждениях, которые она мне доставляла, но, по крайней мере, я понял жизнь без нее и приобрел привычку удалять ее. Я только недавно испытал в первый раз после детства чистые наслаждения молитвы и любви».
Упражнения над волей, над улучшением своего внутреннего «я» идут наравне с физическими упражнениями — гимнастикой, фехтованием. Глубокие мысли пере-
межаются с мелкими, почти наивными мыслями: ему жалко отдать коробочку с музыкой, которую ему прислала тетенька Татьяна Александровна для его кунака Садо, он засматривается на хорошенькую казачку, он расстраивается тем, что увидел месяц с левой стороны... Работая над «Детством», он то приходит в полное отчаяние и ему кажется, что повесть его никуда не годится, то снова окрыляется и записывает в своем дневнике: «Детство порядочно» или «есть места прекрасные, но есть и плохие».
«С некоторого времени меня сильно начинает мучить раскаяние в утрате лучших годов жизни. И это с тех пор, как я начал чувствовать, что я бы мог сделать что-нибудь хорошее. Интересно бы было описать ход своего морального развития; но не только слова, но мысль даже недостаточна для этого. Нет границ великой мысли, но уже давно писатели дошли до неприступной границы их выражения... Меня мучит мелочность моей жизни — я чувствую, что это потому, что я сам мелочен; а все-таки имею силу презирать и себя и свою жизнь. Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким, как все. Но отчего это происходит? Несогласие ли, — отсутствие гармонии в моих способностях, или действительно я чем-нибудь стою выше людей обыкновенных? — Я стар, — пора развития или прошла, или проходит, а все меня мучит жажда... не славы, славы я не хочу и презираю ее, а принимать большое влияние в счастье и пользе людей».
Переписка рукописи утомляет его, и, переписав «Детство» три раза собственноручно, он сажает писаря переписывать последнюю редакцию. 3 июля 1852 года Толстой отправил первую часть своего романа «История моего детства» в редакцию «Современника». Рукопись была подписана двумя буквами: Л. Н.
«...Я с нетерпением ожидаю вашего приговора, — писал он Некрасову 3 июля. — Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит сжечь все начатое».
Вероятно, Толстому казалось, что он бесконечно долго ждал ответа от редактора «Современника». Может быть, он старался об этом не думать. У него болели и разрушались зубы, болели ноги и расстраивался желудок, ему нездоровилось. Он читал «Исповедь» Руссо, находя, как всегда, в авторе отзвуки собственных мыслей, и «Исповедь савойского викария», и продолжал писать «Роман помещика», переделанный потом в «Утро помещика», «Отрочество», «Письмо с Кавказа», получившее впоследствии название «Набег», «Записки маркера». И как всегда, когда силы его сосредоточивались на искании истины и на неизбежном для него претворении этих исканий в художественные образы, — он был собою доволен. «Я знаю, что был бы счастливее, не зная этой работы. Но Бог поставил меня на этот путь: надо идти по нем», — пишет он в дневнике от 25 августа 1852 года.
Некрасов, очевидно, сразу оценил молодого автора. Ответ, по тогдашним передвижениям на почтовых лошадях, пришел очень быстро. 29 августа Толстой получил письмо с извещением, что «Детство» принято: «Не зная продолжения, — писал Некрасов, — не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант... Прошу Вас прислать мне продолжение. И роман ваш и талант меня заинтересовали».
«Письмо от редактора... которое обрадовало меня до глупости», — записал Толстой в своем дневнике (29 авг. 52 г.), и, по обыкновению, составляя себе
программу завтрашнего дня, он кончает запись словом: ... «сочинять» (курсив мой. — А. Т.).
Никто, кроме тетеньки Татьяны Александровны и брата Николая, не знал, кто был автор романа «Детство», появившегося в сентябрьской книжке «Современника». Но о романе заговорили.
В это время Мария Николаевна Толстая жила в своем имении Покровское, Тульской губернии. — Их соседом по имению Спасское был Тургенев. Он часто навещал Толстых. Как-то раз он привез сентябрьскую книжку «Современника» и предложил прочитать начало романа «Детство» какого-то неизвестного, но очень талантливого автора, скрывшего свое имя под инициалами Л. Н.
«Каково же было наше удивление, когда в героях романа мы стали узнавать самих себя, описание всех родных, близких нашего дома... Кто бы мог это написать? Кто мог знать интимные подробности нашей жизни? Мы были так далеки от мысли, что Левочка мог быть автором романа, — рассказывала Мария Николаевна Толстая, — что мы решили, что автор книги был Николай»1.
Вероятно, Некрасов не только вчитался в «Историю моего детства», но и обменялся мнениями в литературных кругах о произведении Л. Н. 30-го сентября Толстой получил второе письмо от редактора «Современника»:
«Я дал ее (рукопись) в набор на IX книжку «Современника» и, прочитав внимательно в корректуре, а не слепо написанной рукописи, нашел, что эта повесть гораздо лучше, чем показалось мне с первого раза. Могу сказать положительно, что у автора есть талант. Убеждение в этом для вас, как для начинающего, думаю всего важнее в настоящее время». В этом письме Некрасов просит открыть ему имя автора.
Толстой, благодаря безалаберной жизни, проигрышам в карты, всегда нуждался в деньгах и очень огорчился, что «Современник» не заплатил ему денег за «Историю моего детства»: «Похвалы, но не деньги», — записывает он в дневнике. В письме от 30 октября Некрасов сообщает Толстому, что, по правилам их журнала, первое произведение не оплачивается, но что все последующие произведения будут оплачиваться по самой высокой принятой журналом цене — 30 рублей серебром с печатного листа.
В литературных кругах Петербурга заволновались: сотрудник «Современника» писатель Панаев ходил из дома в дом по своим знакомым и читал выдержки из «Истории моего детства». «Все его знакомые прячутся от него на Невском, — говорил Тургенев, — боясь, чтобы он им и там не стал читать выдержки из этого сочинения» .
«Этот талант надежный..., — писал Некрасову Тургенев. — Пиши к нему и поощряй его писать. Скажи ему, если это может его интересовать, — что я его приветствую, кланяюсь и рукоплещу ему» .
Во многих журналах появились хвалебные отзывы. «Если это первое произведение г. Л. Н., — гласила статья в «Отечественных Записках», — то нельзя не поздравить русскую литературу с появлением нового замечательного таланта» .
Достоевский в то время был в ссылке. «Детство» произвело на него сильное впечатление, и он просил своего знакомого непременно узнать, кто этот таинственный Л. Н.5
В то время как две скромные буквы «Л. Н.» взволновали весь цвет русских писателей того времени и в литературных кругах шли толки и догадки о том, кто же этот таинственный новый литературный талант, внезапно и столь загадочно
появившийся в их среде, одинокий, нелюдимый юнкер Л. Н. жил своей уединенной, первобытной жизнью, участвуя в военных действиях, в кутежах, в карточной игре с офицерами, огорчаясь тем, что не получил Георгиевского Креста, находя успокоение в охоте, радуясь убитым фазанам, восхищаясь красотой природы и непосредственностью своих друзей, казака Епишки и чеченца Садо. Казалось, в жизни юнкера ничто не изменилось, на самом же деле произошло нечто, перевернувшее всю его жизнь, нечто, давшее не только русской литературе, но и миру одного из величайших гениев человеческой мысли и творчества. Трудно предположить, как повернулась бы жизнь неуверенного, сомневающегося в своем даровании Толстого, если бы редактор «Современника» Некрасов не оценил его по достоинству.
С момента этого признания его как писателя он начинает усиленно «сочинять». Он властно требует, чтобы Некрасов не выпускал ничего и не переделывал его произведения. Новые темы нарождаются в его голове, определяются яркие образы, складываются мысли в определенные выводы... Метущаяся душа его определилась. С этого момента Толстой тяготится своей военной карьерой. Ему хочется быть свободным, писать, и он мечтает о любимой своей Ясной Поляне.
20 июля 1853 года он пишет брату Сергею: «Я уже писал тебе, кажется, что я подал в отставку. Бог знает, однако, выйдет ли и когда она выйдет теперь, по случаю войны с Турцией. Это очень беспокоит меня, потому что теперь я уже так привык к счастливой мысли поселиться скоро в деревне, что вернуться опять в Старогладовскую и ожидать до бесконечности — так, как я ожидаю всего касающегося моей службы — очень неприятно».
«Неприятно» было то, что Толстой давно мог бы быть произведен в офицеры. Вся беда была в том, что когда он так внезапно собрался с братом Николаем на Кавказ — он оставил в Ясной Поляне все свои бумаги. Огорчало Толстого и то, что он не получил Георгиевского Креста: «У меня постоянно является какая-то помеха во всем, что я предпринимаю, — пишет он тетеньке в июне еще 52-го года. — Во время экспедиции у меня был два раза случай быть представленным к Георгиевскому Кресту, и я не мог его получить по причине опоздания на несколько дней этой проклятой бумаги... Я вам признаюсь откровенно, что из всех военных наград я имел тщеславие добиваться именно этого маленького крестика, и что это препятствие доставило мне большое горе»*.
Было еще два случая, когда Толстой мог получить Георгиевский Крест. Один раз он уступил свой крест старому солдату, другой раз Толстой сидел под арестом за то, что не был в карауле, и командир отказался дать крест неисправному юнкеру.
Но помимо неудач по военной службе, у Толстого были более серьезные заботы: карточные долги мучили его и он решил ликвидировать часть доставшегося ему по разделу имущества и дал распоряжение продать смежную с Ясной Поляной деревню с 26 душами мужеского пола.
Временами нездоровье мучило его и он ездил на воды — в Кисловодск,
* Перевод с фр. Перевод, опубликованный в Юбилейном издании произведений Толстого: «А не упомянул я об этом в своем предпоследнем письме, чтобы не повторять того, что одинаково неприятно и вам и мне: о преследующих меня неудачах во всем, что я предпринимаю. В походе я имел случай быть два раза представленным к Георгиевскому кресту и не мог его получить из-за задержки на несколько дней все той же проклятой бумаги... Откровенно сознаюсь, что из всех военных отличий этот крестик мне больше всего хотелось получить, и что эта неудача вызвала во мне сильную досаду».
Железноводск и Пятигорск — лечиться. В Пятигорске он встречается со своей сестрой, Марией Николаевной Толстой, и ее мужем. Валерианой Петровичем.
Но все эти внешние заботы и огорчения уже не могли отвлечь его от писания. Он усиленно работает над «Отрочеством», то приходя в отчаяние, что повесть "Никуда не годна», то снова воодушевляясь, пишет и отсылает Некрасову рассказ «Набег», работает над рассказом «Святочная ночь», бросает его, но не окончательно, тема — падение невинного, запутавшегося юноши и гибель его воскресает в новом рассказе «Записки маркера», задумывает ряд кавказских военных рассказов: «Рубка леса», «Встреча в отряде» и др.
«Как много значат общество и книги, — записывает Толстой в дневнике от 4 августа. — С хорошими — и дурными — я совсем другой человек».
Он много читает: любимого своего Руссо. Пушкина, Лермонтова, Тургенева. Но Кавказ уже тяготит его, «невыносимо надоел», как он писал брату Сергею.
В июне 1853 г. Россия объявила войну Турции, Толстой отставки получить не мог и выхлопотал себе перевод в Дунайскую армию. Он считал, что два с половиной года на Кавказе имели для него огромное значение. Несмотря на те. как он называл, «падения» его, которые отвлекали его от основного дела его жизни, т. е. восхождения на пути самоусовершенствования, он сознавал, что, как он впоследствии писал своему другу и родственнице Александре Андреевне Толстой: «Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал туда, как в это время, продолжавшееся два года. И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением».
14 июня 1853 года Россия объявила войну Турции и под командованием знаменитого русского героя, адмирала Нахимова уничтожила турецкий флот.
Англия и Франция не могли допустить владычества России над Турцией в Черном море. Началась знаменитая Крымская кампания и осада Севастополя французами и англичанами. Геройская защита Севастополя продолжалась 11 месяцев. Среди артиллеристов, отстаивавших город, был и только что произведенный в прапорщики артиллерии Лев Толстой.
Отставки Толстому не дали и он был переведен в Дунайскую армию. Но прежде чем ехать в армию, он решил повидаться с братьями и тетенькой Татьяной Александровной и покатил в Ясную Поляну.
Поездка на лошадях в зимнее время с юга до центра России — более двух тысяч верст — была делом не легким. Почтовая, наторенная дорога, обозначенная только верстовыми столбами среди равнин и снега часто заносилась, и не мало путников, попадавших в снежные бури, сбивались с почтовой дороги, плутали и иногда, выбившись из сил. замерзали в открытом поле.
Толстой ехал в Ясную две недели.
«...Плутал целую ночь, — записывает он в дневнике на одной из остановок. — И мне пришла мысль написать рассказ "Метель"» (27 янв. 54 г.).
«Снег крутился спереди, сбоку, засыпал полозья, ноги лошадей по колени и сверху валил.., — писал Толстой. — Становилось ужасно холодно, и едва я высовывался из воротника, как морозный, сухой снег, крутясь, набивался в ресницы, нос, рот и заскакивал за шею; посмотришь кругом — все бело, светло и снежно, нигде ничего, кроме мутного света и снега. Мне стало серьезно страшно». Только к утру почтовая тройка, наконец, прибилась к станции.
За два с половиной года, что Толстой не был, как тогда на Кавказе говорили, «в России», он возмужал и внешне и внутренно. Он сам про себя писал в дневнике от 4 февраля: «Главный недостаток моего характера и особенность его состоит в том, что я слишком долго был морально молод и только теперь, 25 лет, начинаю приобретать тот самостоятельный взгляд на вещи — мужа — который другие приобретают гораздо раньше — в 20 лет».
Для тетеньки Татьяны Александровны приезд ее любимца был большой радостью. Большие перемены произошли в Левочке с тех пор, как они не виделись. Он начал писать, его печатали, хвалили, он офицер, у него есть положение. Но странные фантазии его, отношение к крестьянам, желание отпустить их на волю, пугали ее. Инстинктом любви она чувствовала, что в нем кроется что-то особенное, незаурядное, но она не могла до конца, по-настоящему понять его. И, как это часто бывает, восторженная любовь и нежность Левочки, взлелеянные им в его одинокой оторванности от родственной ласки и любви, оказались сильно преувеличенными по отношению к бедной тетеньке, не могущей угнаться за бурными порывами его могучей мысли.
За короткое свое пребывание в мирной обстановке Льву хотелось всех повидать, устроить свои дела. Он съездил к сестре в имение Покровское, где Мария Николаевна жила со своим мужем и детьми, увиделся в Ясной Поляне со всеми своими братьями, и это свидание навсегда оставило радостное воспоминание в его душе, ездил с ними в Москву, привел свои дела в порядок, составил завещание на случай смерти и в марте 1854 г. укатил в Дунайскую армию.
«Из Курска я ехал около 2000 верст... — пишет он 13 марта тетеньке Татьяне Александровне. — До Херсонской губернии был хороший санный путь, но там я должен был бросить сани и сделать 1.000 верст на перекладных по ужасной дороге до границы и от границы до Бухареста. Эта дорога, не поддающаяся описанию, надо ее попробовать, чтобы понять удовольствие сделать 1000 верст в тележке меньше нашей навозной... я приехал почти больной от усталости»*.
В Дунайской армии Толстой пробыл до ноября. И за этот промежуток времени его перебрасывали с одного места на другое: из Бухареста — в местечко Ольтеница, затем обратно в Бухарест, где он был прикомандирован к начальнику артиллерийских войск и, наконец, под командованием князя Горчакова Толстой должен был участвовать в штурме крепости Силистрии.
Эта военная, неспокойная жизнь мало способствовала его литературным занятиям и только в апреле ему удалось закончить и переслать Некрасову свое «Отрочество».
Почти три месяца Толстой не делал записей в дневнике, что всегда было для него признаком упадочного настроения. Среда, карты, неудовлетворенная страсть, жажда семейной жизни мучили его, заставляли делать поступки, за которые он сам себя презирал, и за которые он жестоко расплачивался; он был болен, беспокоился и страдал.
* Перевод с фр. Перевод, опубликованный в Юбилейном издании произведений Толстого: «Из Курска я проехал около 2000 верст... До Херсонской губернии был прекрасный санный путь, но там пришлось бросить сани и остальные тысячу верст до границы проехать на перекладных по ужасающей дороге. Дорогу от границы до Бухареста описать невозможно; надо самому испытать это, чтобы понять, каково удовольствие проехать 1000 верст в телеге, и меньше и хуже тех, в которых у нас навоз возят... я добрался до места совершенно больной от усталости».
Со свойственной ему острой наблюдательностью он видел ошибки командного состава, темноту солдат, распутство офицеров, но часто признавал, что среда затягивала его. Он восхищался храбростью русского воинства, а с другой стороны видел неорганизованность его. Он горел патриотизмом и глубоко страдал от всяких неудач.
Предполагавшийся штурм крепости Силистрии и внезапное снятие осады без всякой видимой причины — расстроили его. Он писал в письме к брату Николаю и тетеньке Татьяне Александровне:
«Около 500 орудий открыли огонь против форта, который хотели взять, и этот огонь продолжался всю ночь. Это зрелище и эти чувства никогда не забудешь. Вечером, со всей своей свитой, князь снова явился, чтобы залечь в траншеи и самому руководить штурмом, который должен был начаться в три часа ночи.
Мы были все там же и, как всегда накануне сражения, все мы делали вид, что о следующем дне мы не думаем больше, чем о самом обыкновенном, и у всех, я уверен, в глубине души немного, а может быть, даже очень, сжималось сердце при мысли о штурме. Как ты знаешь, Николенька, время, предшествующее делу, — самое неприятное, единственное, когда есть время бояться, а боязнь — одно из самых неприятных чувств. К утру, чем ближе подходил решительный момент, тем меньше оставалось чувство страха, и около 3-х часов, когда мы все ожидали увидеть букет пущенных ракет, что было сигналом атаки, я пришел в такое хорошее настроение, что если бы пришли и сказали мне, что штурма не будет, мне было бы жалко. И вот ровно за час до начала штурма приезжает адъютант фельдмаршала с приказанием снять осаду Силистрии».
«Я могу, не боясь обмануться, сказать, что это известие было принято всеми: солдатами, офицерами и генералами, как истинное несчастие, тем более, что знали
через лазутчиков, которые часто приходили из Силистрии, и с которыми мне часто приходилось самому разговаривать, знали, что когда будет взят этот форт, в чем никто не сомневался, Силистрия не могла бы держаться более 2-х, 3-х дней»*.
Возобновив писание дневника, Толстой снова безжалостно бичует себя, часто выворачивая наизнанку все свои грехи перед самим собою.
«7 июля. — Скромности у меня нет! Вот мой большой недостаток. Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с семилетнего возраста без родителей, под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17 лет, без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил; человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие года своей жизни, наконец, изгнавший себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов и, главное, привычек... Да, вот мое общественное положение. Посмотрим, что такое моя личность.
Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolerant) и стыдлив как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как сам, урывками, без связи, без толку и то так мало. Я невоздержен, нерешителен, непостоянен, глупо-тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. Я честен, т. е. я люблю добро, сделал привычку любить его, и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием, но есть вещи, которые я люблю больше добра — славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них.
Да, я не скромен; оттого-то я горд в самом себе, а стыдлив и робок в свете».
И ища успокоения, он обращается к Богу с горячей молитвой:
«Верую во единого всемогущего и доброго Бога, в бессмертие души и в вечное возмездие по делам нашим; желаю веровать в религию отцов моих и уважаю ее... Даруй мне в твердой вере и надежде на Тебя, в любви к другим и от
* Перевод с фр. Перевод, опубликованный в Юбилейном издании: «... Около 500 артиллерийских орудий стреляли в форт, который собирались взять. Стрельба продолжалась всю ночь напролет; этого зрелища и испытанного волнения забыть невозможно. Ночевать князь отправился со всей свигой в траншеи, чтобы лично распоряжаться штурмом, назначенным на три часа ночи. Мы все были там и, как всегда накануне сражения, делали вид, что завтрашний день озабочивает нас не более, чем обычный, но я уверен, что у всех сердце немножко сжималось (и даже не немножко, а очень сильно), при мысли о штурме. Ты знаешь. Николенька. что время, предшествующее сражению, самое неприятное, это единственное время, когда есть досуг для страха, а страх — одно из самых неприятных чувств. К утру, с приближением момента действия, страх ослабевал, а к трем часам, когда ожидалась ракета, как сигнал к атаке, я был в таком хорошем настроении, что ежели бы пришло известие, что штурма не будет, я бы очень огорчился. И вдруг, как раз за час до назначения штурма, приезжает адъютант фельдмаршала с приказом снять осаду Силистрии. Могу сказать, что это было принято всеми — солдатами, офицерами, генералами, как настоящее несчастие, тем более, что было известно от шпионов, которые часто являлись к нам из Силистрии и с которыми мне самому приходилось говорить — было известно, что когда овладеют фортом. — а в этом никто не сомневался — Силистрия не сможет продержаться более 2-3 дней».
других с спокойной совестью и пользой для ближнего жить и умереть...» (Дневник, от 13 июля 54 г.).
Он мало, лениво пишет, кавказских подъемов нет. Болезнь, необходимость оперироваться мучает его. Он вял, душу его засоряют мелкие житейские интересы, его одолевают страсти, женщины влекут его, но после каждой случайной связи, на время разрешающей этот мучительный для него вопрос, он жестоко казнит себя.
Скучно и без всякого толка Толстой повторяет десятки раз одну и ту же фразу в дневнике: «самое главное для меня, это избавление от лени, раздражительности и бесхарактерности», и, как утопающий хватающийся за соломинку, Толстой упорно, настойчиво и безрезультатно долбит заданный урок: «Важнее всего исправление от лени, раздражительности и бесхарактерности».
«И я и дневник мой становимся слишком глупы, — пишет он 5 сентября. — Писание решительно нейдет. Написал раздраженное письмо Николеньке. Важнее всего для меня исправление от раздражительности, лени и бесхарактерности». И фраза эта, с небольшими вариантами, повторяется ежедневно, в продолжение двух месяцев.
21 октября, перед Севастополем, когда военные события и судьба Севастополя отвлекли его мысли от самого себя и его снова захватила волна патриотизма и беспокойство за исход войны и за судьбы русской армии, он записывает в дневнике: «Дела в Севастополе все висят на волоске... Я проиграл все деньги в карты. Важнее всего для меня в жизни исправление от лени, бесхарактерности и раздражительности».
Как бы мы ни старались — нам трудно угнаться за теми разнообразными интересами, душевными переживаниями, безднами греха и возвышенностью мыслей, бушующими в этой мятущейся душе. В этом кажущемся сумбуре противоречивых, сталкивающихся, иногда опрокидывающих друг друга убеждений — легко делать неправильные выводы, заключения. Можно только внимательно следить за тем, как постепенно, путем отсеиванья жизненного сора, путем длительной, упорной внутренней борьбы против «лени, раздражительности и бесхарактерности» медленно продвигался вперед этот одинокий человек.
Как-то у Толстого-старика спросили: «Господин X святой. Он никогда не сердится, он добрый, не пьет, не курит, у него такой же, как его натура, голос: тихий, мягкий, ласковый — он безгрешный, он не знает страстей... А вот другой страстный, грешный, увлекающийся, даже порочный, но сознающий свою греховность и борющийся с нею. Первый — спокойный, счастливый; второй — вечно мучается угрызениями совести, но снова и снова грешит. Первый спасается, второй?..». Старик Толстой улыбнулся: «А Мария Магдалина? Ведь вопрос в смирении каждого из этих людей, в усилии ими приложенном и, главное, в раскаянии. Я никогда так низко не падал, как когда я оправдывал свои грехи»*.
Каждый военный, побывший в «деле», знает до какой степени мучительно проводить время в неизвестности, в ожидании боя, в полном бездействии, и как развращающе это действует на людей. В таких условиях писательство было для Толстого спасением.
В конце августа Толстой получил от Некрасова письмо, которое снова поощрило его в литературной деятельности. Некрасов писал, что не может
* Из личных воспоминаний А. Л. Толстой.
«прибрать выражения», как достаточно похвалить «Отрочество». Но, несмотря на то, что похвала временно воодушевила его, Толстой продолжал резко и беспощадно критиковать свои писания. Много раз, по всегдашней своей привычке, он переправлял «Записки фейерверкера», которые были переименованы в «Рубку леса». Перечитав «Детство», он остался им недоволен — «много слабого», записывает он в дневнике, и если бы произведение это не было напечатано, он, несомненно, снова, с начала до конца, переработал бы его. Писать сразу набело он никогда не мог. С лихорадочным нетерпением он спешил в первом наброске выразить основные мысли. Отделка, исправление стиля, уточнение — были следующим этапом.
«Надо навсегда отбросить мысль писать без поправок. Три, четыре раза — это еще мало», — писал он еще в дневнике 8 октября 1852 года. И чем больше он писал, тем строже он относился к своему писанию, тем тщательнее он над ним работал. В писании, так же как и в духовном своем движении вперед, он всегда был собою недоволен. В рукописях раннего периода уже видна усидчивая, кропотливая работа — вставки на полях, между строками, перемена заглавий, безжалостное вычеркивание ряда мест, почему-либо не гармонирующих с ходом повествования: «Никакие гениальные прибавления не могут улучшить сочинения так много, как могут улучшить его вымарки», — писал он в дневнике 16 октября 1853 г.
Соприкасаясь с солдатами, вглядываясь в их психологию и задатки этих геройски самоотверженных, простых, подчас талантливых людей, в Толстом назревала мысль об их развитии. Эта задача переплеталась в его соображении с мыслью о поднятии патриотического духа в армии. Вместе с группой культурных офицеров Толстой организовал общество распространения просвещения среди военных. В первую очередь решено было издавать журнал, в который должны были войти статьи «описания сражений, не такие сухие и лживые, как в других журналах, подвиги храбрости и некрологи хороших людей, и преимущественно темненьких», военные рассказы и солдатские песни. Решено было просить государя о разрешении издавать военный журнал.
Если Толстой что-то задумывал — надо было немедленно, какие бы препятствия ни стояли на дороге, привести задуманное в исполнение. Над вопросом, где достать деньги на журнал, Толстой не долго думал. Для него с тетенькой Татьяной Александровной совершенно достаточно одного флигеля в Ясной Поляне. Кроме того, у него были карточные долги, с которыми ему хотелось разделаться. И он пишет письмо своему зятю, Валериану Толстому, чтобы он продал большой деревянный дом, где он родился и провел свое детство. Много раз впоследствии он раскаивался в своем поступке, но... в тот момент издание военного листка казалось таким необходимым...
Прозябание в Дунайской армии, когда главные военные действия были сосредоточены в Крыму, Толстому надоело. Он должен был участвовать в самой гуще военных действий и он употребил все усилия, чтобы его перевели в Севастополь.
Наконец, желание его исполнилось,и Толстой добился перевода в 3-ю легкую батарею артиллерийской бригады в Севастополе.
7 ноября Толстой приезжает в Севастополь.
«Солнце светило и высоко стояло над бухтой, игравшею со своими стоящими
кораблями и движущимися парусами и лодками веселым и теплым блеском. Легкий ветерок едва шевелил листья засыхающих дубовых кустов около телеграфа, надувал паруса лодок и колыхал волны. Севастополь, все тот же, со своей недостроенной церковью, колонной, набережной, зеленеющим на горе бульваром и изящным строением библиотеки, со своими маленькими лазоревыми бухточками, наполненными мачтами, живописными арками водопроводов», — так описывает Толстой в своем рассказе «Севастополь в августе 1855 года» этот своеобразный город — лучший русский порт в Черном Море, со своей громадной естественной бухтой. Гордость и опора России, Севастополь содрогался и изнемогал под натиском французского и английского флота. Вся мыслящая Россия с нетерпением и страхом задавала себе вопрос: отстоят ли русский флот и русская армия твердыню Севастополя под натиском более сильного врага. Как только Толстой прибыл в Крым, те же чувства патриотизма охватили его с еще большей силой.
«Город осажден с одной стороны, с южной, на которой у нас не было никаких укреплений, когда неприятель подошел к нему», — пишет он брату Сергею 29 ноября 54 г. — Теперь у нас на одной стороне больше 500 орудий огромного калибра и несколько рядов земляных укреплений... Неприятель уже более трех недель подошел в одном месте на 80 сажен и нейдет вперед; при малейшем движении его вперед, его засыпают градом снарядов.
Дух в войсках свыше всякого описания. Во времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо: «Здорово, ребята!» говорил: «Нужно умирать, ребята, умрете?» и войска кричали: «Умрем, Ваше Превосходительство. Ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уже 22.000 исполнили это обещание.
Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24-го французскую батарею и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде 24-го было 160 человек, которые раненые не вышли из фронта. Чудное время»!
Толстой наблюдал. И его сердце разрывалось от боли. С одной стороны, он видел глубокое, ни с чем не сравнимое самопожертвование русского солдата, видел готового к геройству, распущенного офицера, который и пьянствовал, и развратничал, но в ответственные минуты, не задумываясь, храбро исполнял свой долг, как и писал Толстой, что «на дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя»... С другой же стороны, Толстой с ужасом наблюдал неорганизованность, безалаберность, косность, надежду не на самого себя, а на Николая Чудотворца — те извечные недостатки русских людей, вследствие которых талантливая, религиозная, могучая нация, давшая миру на протяжении всей своей истории многих выдающихся людей — плетется в хвосте.
«16-го я выехал из Севастополя на позицию, — записывает он в дневнике 23 ноября, в Симферополе, Эски-Орда. — В поездке этой я больше, чем прежде, убедился, что Россия или должна пасть или совершенно преобразоваться. Все идет навыворот, неприятелю не мешают укреплять своего лагеря, тогда как это было бы чрезвычайно легко, сами же мы с меньшими силами, ни откуда не ожидая помощи, с генералами, как Горчаков, потерявшими и ум, и чувство, и энергию, не укрепляясь, стоим против неприятеля и ожидаем бурь и непогоД, которые пошлет
Николай Чудотворец, чтобы изгнать неприятеля. Казаки хотят грабить, но не драться, гусары и уланы полагают военное достоинство в пьянстве и разврате, пехота в воровстве и наживании денег. Грустное положение — и войска и государства. Я часа два провел, болтая с ранеными французами и англичанами. Каждый солдат горд своим положением и ценит себя; ибо чувствует себя действительной пружиной в войске. Хорошее оружие, искусство действовать им, молодость, общие понятия о политике и искусствах дают ему сознание своего достоинства. У нас бессмысленные учения о носках и хватках, бесполезное оружие, забитость, старость, необразование, дурное содержание и пища, убивают внимание, последнюю искру гордости и даже дают им слишком высокое понятие о враге».
Поняв положение, страдая за русского солдата. Толстому хотелось помочь поднять культурность войска, но не так легко было внести какие либо преобразования. Журнал, задуманный с этой целью Толстым, был запрещен государем. «Идея журнала не была в видах правительства, — и государь отказал», — с горечью пишет Толстой тетеньке Татьяне Александровне 6 января 1855 г. — Эта неудача, признаюсь вам, мне доставила большое горе и много изменила мои планы. Если, Бог даст, Крымская кампания хорошо кончится, и если я не получу места, которым бы я был доволен, и если не будет войны в России, я покидаю армию и еду в Петербург в военную академию. Этот план пришел мне в голову... потому что я не хотел бы бросать литературу, которой мне невозможно заниматься в этой лагерной жизни» *.
Карты, чтение, попытка перевода баллады Гейне, писание отрывками набросков к «Роману русского помещика» — заполняли время. Кроме все\ этих занятий, Толстой взялся за совершенно не подходящую ему работу: проект переформирования армии.
Смерть Николая I 18 февраля 1855 г. и присяга новому царю Александру II всколыхнули Россию, вызвали огромное волнение, подъем в армии.
«Великие перемены ожидают Россию, — пишет Толстой в дневнике от 1 марта. — Нужно трудиться и мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России». В своем предсказании Толстой не ошибся. С восшествием на престол молодого царя Россия вступала в новую эру. Вопрос крепостной зависимости крестьян — назрел в умах культурного слоя общества и требовал разрешения. Репрессии Николая I после подавления революционных настроений декабрьского восстания еще волновали умы России. Перемены должны были наступить и чуткий ум Толстого остро следил за событиями. Литературные круги России пользовались все большим и большим влиянием на общество, к писателям прислушивались, произведениями их жадно зачитывались, шца ответов на назревшие вопросы.
Военный проект продвигался «туго», карточные долги его мучили и снова Толстой ищет спасения в отвлеченных религиозных вопросах. «Нынче я причащался, — записывает он в дневнике от 4 марта. — Вчера разговор о божественном и
* Перевод с фр. Перевод Юбилейного издания: «Эта неудача, сознаюсь, меня огорчила ужасно и изменила мои планы. Ежели, бог даст, скоро кончится Крымская камлания, ежели я не получу места, которым я был бы доволен, ежели не будет войны в России, я уеду из армии в Петербург и поступлю в военную академию. Мне пришло это в голову... потому что я не хочу бросать литературы, которою невозможно заниматься в условиях походной жизни...».
вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. — Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. — Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей с религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня».
И словно в мыслях о Боге и в горьком раскаянии очистившись от налипшей на него грязи, он снова начинает усиленно писать. Он пишет «Юность» и почти одновременно задумывает Севастопольские рассказы.
«Военная карьера — не моя и чем раньше я из нее выберусь, чтобы вполне предаться литературной, тем будет лучше». Лестные отзывы о «Записках маркера» еще больше поощряют его к писанию.
7 апреля 1855 г. Толстого перевели на 4-ый бастион. Кругом него разрывались гранаты, гремели пушки, умирали — а Толстой писал. Одну за другой он рисовал жуткие картины ранений, смерти, самоотверженного геройства,. мудрости и душевного величия солдат и, в то же время, их беспросветной темноты. 4-ый бастион! Мог ли человек, там не бывший, дать такое живое описание этого страшного места, наводившего ужас на всех, кто был туда назначен и откуда многие не вернулись.
На вопрос, где он находится — «На 4-ом бастионе, — отвечает молоденький офицер, и вы непременно с большим вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах: «на 4-ом бастионе»... вы хотите скорее идти на бастионы, именно на 4-ый, про который вам так много и так
различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на 4-ом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда кто говорит: «я иду на 4-ый бастион», непременно заметно в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят: «тебя бы поставить на 4-ый бастион», когда встречают носилки и спрашивают: «откуда?» большей частью отвечают: «с 4-го бастиона». Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нем не были, и которые убеждены, что 4-ый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про 4-ый бастион, скажут вам сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и т. д.»
На 4-ом бастионе Толстой провел полтора месяца.
«Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль, — жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна, — слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех вас, и который вам кажется чем-то ужасно страшным».
«Так вот он, 4-ый бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!», думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь: это еще не 4-ый бастион. Это Язоновский редут — место, сравнительно, очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на 4-ый бастион, возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезать только два человека, и там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут, и увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугун во всевозможных видах».
Трудно поверить, что люди не испытывают страха во время боевой опасности. Боятся все, но иные умеют из самой глубины своего существа находить в себе скрытую силу, покрываться внутренней броней — это настоящие храбрецы, другие в момент атаки, боя, несутся вперед, не думая, не соображая — эти часто приобретают звание «героев», третьи просто дрожат от страха, стараются увильнуть и иногда просто бегут. Толстой принадлежал к 1-му разряду, и то, что он был наблюдателем, собирающим материал — ему помогало. Толстой «изучал» русского солдата, офицера и, наблюдая, писал «Севастополь в различных фазах и идиллию офицерского быта».
Постепенно он привыкал к опасности: «Тот же 4-ый бастион, который мне начинает очень нравиться, я пишу довольно много. Нынче окончил «Севастополь днем и ночью» и немного написал «Юности». Постоянная прелесть опасности, наблюдения над солдатами, с которыми живу, моряками и самым образом войны так приятны, что мне не хочется уходить отсюда, тем более, что хотелось бы быть при штурме, ежели он будет».
Подъем духа, сила вдохновения, любовь к русскому воину и восхищение им, пронизанные порою печалью по поводу «темноты» этого воинства, выливались в словах, строчках, страницах Севастопольских рассказов.
«Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли, — заканчивает Толстой «Севастополь в декабре 1854 года», — это — убеждение в невозможности... поколебать где бы то ни было силу русского народа, и эту невозможность видели вы не в
этом множестве траверсов, брустверов, хитро сплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так мало напряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше... они все могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти, вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди беспрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его, и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю, — о временах, когда этот герой, достойный древней Греции, — Корнилов, объезжая войска, говорил: «Умрем, ребята, а не отдадим Севастополя», и наши русские, неспособные к фразерству, отвечали: «Умрем! Ура!» — только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...
Уже вечереет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровною широкою зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им».
Литературный мир сразу оценил Севастопольские рассказы.
«Статья Толстого о Севастополе — чудо! — пишет Тургенев Панаеву 10 июля 1855 г. из Спасского. — Я прослезился, читая ее, кричал: ура! Мне очень лестно желание его посвятить мне свои новый рассказ. Статья Толстого произвела здесь фурор всеобщий...»1
При дворе государя Александра II обратили внимание на рассказ «Севастополь в декабре», говорили, что государыня Александра Федоровна прослезилась, читая его, и государь приказал перевести рассказ на французский язык2.
«Получил письмо и статью от Панаева, — записывает Толстой в дневнике 15 июня, — меня польстило, что ее читали государю».
Толстой в это время был уже в горном местечке Бельбеке, куда он был переведен 19 мая для формирования горного взвода. Что Толстой мог писать военные рассказы, находясь на 4-ом бастионе, — понятно, но как он мог под свист пуль и разрывы гранат переноситься мыслями в мирную жизнь первой своей молодости и писать «Юность» — непостижимо.
«Тот же 4-ый бастион, — записывает он 14 апреля, — на котором мне превосходно. Вчера дописал главу Юности и очень не дурно. Вообще работа Юности уже теперь будет завлекать меня самой прелестью начатой и доведенной почти до
половины работой. Хочу нынче написать главу сенокос, начать отделывать Севастополь и начать рассказ солдата о том, как его убило. — Боже! благодарю Тебя за Твое постоянное покровительство мне. Как верно ведешь Ты меня к добру. И каким бы я был ничтожным созданием, ежели бы Ты оставил меня. Не остави меня, Боже! напутствуй мне и не для удовлетворения моих ничтожных стремлений, а для достижения вечной и великой неведомой, но сознаваемой мной цели бытия».
Описания военных событий, психологический анализ солдатских и офицерских типов, их перемешанные черты в этих людях: бесшабашность с чувством долга, трусость с безграничной храбростью — указывают на тонкую наблюдательность, глубокое понимание русского солдата. В рассказах Толстого впервые эта серая солдатская и офицерская масса — chair a canon — оживает и, помимо воли читателя, судьбы этих Иванов, Петров вдруг делаются вам так ценны, что вы начинаете переживать их мучения, радости, жить с ними. Впервые русские солдаты и офицеры с теми же недостатками, с тем же геройством были обрисованы Толстым.
Может быть, товарищи офицеры и не совсем понимали Толстого, может быть, он иногда оскорблял их своей отчужденностью, превосходством, которое они невольно ощущали, но Толстой своим остроумием, живостью, веселием, несомненно вносил живую струю в их серую, безотрадную жизнь и развлекал их.
«Толстой своими рассказами и наскоро набросанными куплетами одушевлял всех и каждого в трудные минуты боевой жизни, — рассказывал бывший товарищ Толстого по Севастополю. — Он был в полном смысле, душой батареи. Толстой с нами, — и мы не видим, как летит время, и нет конца общему веселью... Нет графа, укатил в Симферополь — и все носы повесили. Пропадает день, другой, третий... Наконец, возвращается... ну точь-в-точь блудный сын — мрачный, исхудалый, недовольный собой... Отведет меня в сторону подальше, и начнет покаяние. Все расскажет: как кутил, играл, где проводил дни и ночи, и при этом, верите ли, казнится и мучится, как настоящий преступник... Даже жалко смотреть на него — так убивается... Вот это какой был человек. Одним словом, странный и, говоря правду, не совсем для меня понятный, а с другой стороны, это был редкий товарищ, честнейшая душа, и забыть его решительно невозможно»3.
Офицеры невольно уважали Толстого за силу, ловкость, которые он сам ценил в себе и развивал, делая гимнастику, он презирал слабых, дряблых и трусливых мужчин. Высокий, прекрасно сложенный, очень прямо и высоко несущий умную, с широким, белым лбом и ярко очерченным подбородком голову, с волнистыми каштановыми волосами, Толстой не мог быть, как он сам считал себя, безобразным и непривлекательным.
Севастопольские рассказы произвели большое впечатление: Тургенев прослезился, читая их, Панаев написал Толстому, что рассказы читает вся Россия, Писемский написал Островскому по поводу «Севастопольских рассказов», что «Статья написана до такой степени безжалостно честно, что тяжело становится читать»4.
Случилось нечто всколыхнувшее всех, начиная с самого государя. Подпоручик артиллерии, Лев Толстой, своими рассказами с жуткой, голой правдивостью и художественной своей силой, перенес людей, спокойно сидевших в своих гостиных, на поля сражения... Толстой заставлял их думать, содрогаться, плакать...
А сам подпоручик Толстой играл в карты, сам с собой придумывал системы
игры, мечтал отыграться, и одновременно с этим в мозгу его рождались и отпечатывались картины, рисовались новые образы. Он задумывался над положением крестьянства. «Мне нужно собирать деньги, I) чтоб заплатить долги, 2) чтоб выкупить имение и иметь возможность отпустить на волю крестьян», — писал он в дневнике от 8 июля. «Роман русского помещика», мысль которого заключается в возможности продолжения рабства крестьян, занимал его все больше и больше.
27 июля военный совет постановил дать решительное сражение неприятелю при Черной речке. Вследствие ли неорганизованности и безответственности командного состава, или численности врагов — атака русских была отбита, и русские понесли громадные потери. Толстой не участвовал в самом сражении, но неудача эта глубоко потрясла его.
Дело обсуждалось офицерами, критиковали действия отдельных генералов и в результате, не без участия острого сатирического юмора Толстого, составилась песня. Толстой, к великому восторгу офицеров, читал стихи, офицеры немедленно переложили их на песню... песня распространилась с быстротой молнии в войсках*.
Издеваться над генералами было в то время большой дерзостью и военная карьера Толстого от этого не выиграла.
В августе русские войска, после 11-месячной геройской защиты, сдали Севастополь. Войскам приказано было отступать. На Малаховом кургане уже развевалось французское знамя.
«По всей линии севастопольских бастионов, столько месяцев кипевших необыкновенной энергической жизнью, столько месяцев видевших сменяемых смертью, одних за другим умирающих героев, и столько месяцев возбуждавших страх, ненависть и, наконец, восхищение врагов, — на севастопольских бастионах уже нигде никого не было. Все было мертво, дико, ужасно, — но не тихо: все еще
* Вот несколько куплетов этой песни:
Как четвертою числа**
Нас нелегкая несла
Горы отбирать.
Барон Вревский генерал***
К Горчакову приставал.
Когда под-шафе:
«Князь, возьми ты эти горы,
Не входи со мною в ссору.
Не то донесу».
Собирались на советы
Все большие эполеты,
Даже Плац-бек-К ок.
Полицмейстер Плац-бек-Кок
Никак выдумать не мог,
Что ему сказать.
Долго думали, гадали,
Топографы все писали
На большом листу.
Глачко вписано в бумаге.
Да забыли про овраги.
А по ним ходить...
Выезжали князья, графы.
А за ними топографы
На Большой редут.
Князь сказал: «Ступай, Липранди, А Липранди: «Нет-с, аттанде.
Нет, мол не пойду».
«Туда умною не надо,
Ты пошли туда Реада,
А я посмотрю»...
Вдруг Реал возьми, да спросту,
И повел нас прямо с мосту:
«Ну-ка, на уру».
Веймарн плакал, умолял,
Чтоб немножко обождал,
«Нет, уж пусть идут»
На уру мы зашумели.
Да резервы не поспели.
Кто-то переврал.
На Федюхины высоты
Нас пришло всего три роты.
А пошли полки!..
** 4 августа 1855 года произошло сражение при Черной речке. (Прим. ред.)
*** Барон П. А. Вревский, бывший директор канцелярии военного министра, находясь в Крыму.
побуждал кн. Горчакова дать решительную битву союзникам. (Прим. ред.)
разрушалось. По изрытой свежими взрывами обсыпавшейся земле везде валялись исковерканные лафеты, придавившие человеческие русские и вражеские трупы, тяжелые, замолкнувшие навсегда чугунные пушки, страшной силой сброшенные в ямы и до половины засыпанные землей, бомбы, ядра... опять молчаливые трупы в серых и синих шинелях. Все это часто содрогалось еще и освещалось багровым пламенем взрывов, продолжавших потрясать воздух.
Враги видели, что что-то непонятное творилось в грозном Севастополе. Взрывы эти и мертвое молчание на бастионах заставляли их содрогаться; но они не смели верить еще под влиянием сильного, спокойного отпора дня, чтоб исчез их непоколебимый враг, и, молча, не шевелясь, с трепетом, ожидали конца мрачной ночи.
Севастопольское войско, как море в зыбливую мрачную ночь, сливаясь, разливаясь и тревожно трепеща всею своею массой, колыхаясь у бухты по мосту и на Северной, медленно двигалось в непроницаемой темноте прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев, — от места, всего облитого его кровью, — от места, 11 месяцев отстаиваемого от вдвое сильнейшего врага, и которое теперь велено было оставить без боя.
Непонятно тяжело было для каждого русского первое впечатление этого приказания. Второе чувство был страх преследования. Люди чувствовали себя беззащитными, как только оставили те места, на которых привыкли драться, и тревожно толпились во мраке у входа моста, который качал сильный ветер. Сталкиваясь штыками и толпясь полками, экипажами и ополчениями, жалась пехота, проталкивались конные офицеры с приказаниями, плакали и умоляли жители и денщики с клажею, которую не пропускали; шумя колесами, пробивалась к бухте артиллерия, торопившаяся убираться...
Выходя на ту сторону моста, почти каждый солдат снимал шапку и крестился. Но за этим чувством было другое — тяжелое, сосущее и более глубокое чувство: это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимой горечью в сердце вздыхал и грозился врагам».
Эти строки Толстой дописывал в конце декабря, уже в Петербурге.
2 ноября Некрасов писал Боткину: «...приехал Л. Н. Т., то есть Толстой... что это за милый человек, а уж какой умница! Милый, энергический, благородный, юноша-сокол! а может быть, и — орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши... Некрасив, но приятнейшее лицо, энергическое и в то же время мягкость и благодушие: глядит как гладит. Мне он очень полюбился»1.
А 27-летний сокол, вырвавшись на волю после четырех с половиной лет пребывания на военной службе, носился как ураган по Петербургу, упиваясь положением признанного писателя, наслаждаясь умными разговорами, порой робея, смущаясь, порой, задетый за живое, пугая приличных петербуржцев резкостью и смелостью неожиданных суждений, противоречащих общепринятым, утвержденным истинам.
Точно желая наверстать потерянное, он бросался из стороны в сторону, проводя время то с литераторами, то в светских гостиных, наслаждаясь обществом красивых и умных женщин, ездил в театры и концерты, слушал серьезную музыку, ночи напролет кутил у цыган...
Остановился Толстой у Тургенева, принявшего к себе молодого писателя с распростертыми объятьями. Но очень скоро оба писателя убедились в разности своих характеров. Несколько сентиментальный, западно-европейской складки, размеренный в своих привычках, Тургенев с некоторой опаской наблюдал за бурной, не входящей ни в какие рамки, натурой Толстого.
«...У меня живет Толстой, — писал Тургенев Анненкову. — Вы не можете себе представить, что это за милый и замечательный человек — хотя он за дикую рьяность и упорство буйволообразное получил от меня название троглодита. Я его полюбил каким-то странным чувством, похожим на отеческое. Он нам читал начало своей «Юности» и начало другого романа. — О — есть вещи великолепные»2.
Но Толстой не нуждался в отеческой опеке Тургенева, а Тургенев очень скоро понял, что «троглодита» усмирить невозможно.
Поэт Фет, впоследствии большой друг и поклонник Толстого, описывает следующую сцену в своих воспоминаниях.
«Тургенев вставал и пил чай (по-петербургски) весьма рано, и в короткий мой приезд я ежедневно приходил к нему к десяти часам потолковать на просторе. На другой день, когда Захар отворил мне переднюю, я в углу заметил полусаблю с анненской лентой.
— Что это за полусабля? — спросил я, направляясь в дверь гостиной.
— Сюда пожалуйте, — вполголоса сказал Захар, указывая налево в коридор, — это полусабля графа Толстого, и они у нас в гостиной ночуют. А Иван Сергеевич в кабинете чай кушают.
В продолжение часа, проведенного мной у Тургенева, мы говорили вполголоса из боязни разбудить спящего за дверью графа.
— Вот, все время так, — говорил с усмешкой Тургенев, — вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь! А затем до двух часов спит как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой»3.
В январе беззаботная, веселая жизнь Толстого нарушилась. Он получил известие из Орла, что брат его Димитрий, о котором он в то время мало думал, умирал от чахотки. Поездка эта ему была тягостна.
«Я был особенно отвратителен в эту пору, — писал он в своих воспоминаниях, как всегда, с полной откровенностью и безжалостностью бичуя самого себя. — Я приехал в Орел из Петербурга, где я ездил в свет и был весь полон тщеславия. Мне жалко было Митеньку, но мало. Я повернулся в Орле и уехал, а он умер через несколько дней».
Почему Толстой уехал, не дождавшись кончины брата? Может быть, он не сознавал, насколько Митенька был плох, может быть, обстановка, в которой находился брат, была ему невыносима. Толстой любил Димитрия и высоко ставил его душевные качества: его отношение к обиженным и несчастным, его независимость от людей предержащих, его отрицательное отношение к крепостному праву и желание служить и приносить пользу людям. Митенька всегда был странным, не такой как все, но за последнее же время он опустился, ничего не делал, пил. Теперь он умирал от чахотки и за ним ходила преданная ему рябая девка Маша, бывшая проститутка, которую он выкупил и взял к себе.
«Он был ужасен, — пишет Толстой. — Огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было — одни глаза, и те же прекрасные, серьезные, а теперь выпытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал, и не хотел
умирать». Может быть, эта чуждая женщина, хлопочущая у постели больного, помешала Льву ближе подойти к брату, сказать ему то, что так трудно выразить у постели умирающего и то, что иногда бывает так необходимо сказать человеку перед переходом его в новый мир. А между тем, так недавно еще, 13 марта 1854 года, Толстой писал брату: «Передо мной стоит теперь твой портрет, которому я мысленно говорю много искреннего, дружеского, которого почему-то не пишу тебе, да и не говорил, когда с тобой виделся. Но надеюсь, ты сам знаешь, что я тебя очень люблю».
2 февраля, узнав о смерти брата, он записывает в дневнике: «Брат Дмитрий умер, я нынче узнал это. Хочу дни свои проводить с завтра так, чтобы приятно было вспоминать о них».
Вернувшись, Толстой снова окунулся в петербургскую жизнь. В то время все крупные литературные силы объединились в Петербурге вокруг «Современника», а в Москве вокруг «Отечественных Записок», вдохновителем которых был С. Т. Аксаков.
«Современник» возник еще в 1836 году и одним из его основателей был А. С. Пушкин. Некоторое время близкое участие в журнале принимал Белинский, позднее, Некрасов и Панаев купили журнал, все лучшие писатели стали в нем сотрудничать и он быстро пошел в гору.
Вероятно, писатели того времени сами не сознавали своей значимости, того, что они, все вместе взятые, создали целую эру расцвета русской литературы, русской культуры. Воспитанные на западно-европейской литературе, впитавшие в себя мощь и размах поэзии Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, смелость и острый ум Гоголя, писатели того времени шли каждый своим путем, описывая тот быт, который они лучше всего знали, создавая новые характеры, типы, вырабатывая свой собственный стиль... Ни один из них не подражал другому. Гончаров создал своего бессмертного Обломова, впоследствии ставшего нарицательным именем, Дружинин, Писемский, Некрасов — все это были писатели с большими именами, но самым выдающимся из всех считался Иван Сергеевич Тургенев, заслуживший уже в то время большое имя в русской литературе.
Толстой был новичком, к нему присматривались, прислушивались, а он бережно лелеял зарождавшиеся в нем мысли и образы и искал собственных путей их отображения.
«Этот офицеришка всех нас заклюет! Хоть бросай перо!»... — сказал про Толстого Писемский4. Тургенев, по всей вероятности, решил покровительствовать молодому писателю, старался помочь ему, сойтись с ним, но молодой писатель не нуждался в покровительстве, и постепенно, сам того не сознавая, артиллерийский поручик с юнкерскими замашками, как говорил про него Тургенев, могучими плечами своими постепенно отодвигал Тургенева на второе место. Несмотря на все свое благородство и беспристрастность, Тургеневу было трудно это пережить.
Толстой был молод, горяч, резок, не переносил никаких условностей. Тургенева шокировали его непродуманные суждения, противоречащие общепринятым мнениям, традициям, иногда даже простому приличию.
«Ни одного слова, ни одного движения в нем нет естественного! — говорил он, — Он вечно рисуется перед нами, и я затрудняюсь, как объяснить в умном человеке эту глупую кичливость своим захудалым графством!»... «Хоть в щелоке вари три дня русского офицера, а не вываришь из него юнкерского ухарства;
каким лаком образованности ни отполируй такого субъекта, все-таки в нем просвечивает зверство»'.
А Толстой, чувствуя покровительственный, «отечественный» тон Тургенева, как сорвавшийся с цепи мальчишка, на зло всем и каждому, продолжал противоречить и задирать собратий своих по перу, выражая мнения, приводящие даже его защитников в полное недоумение.
Сотрудники «Современника», Некрасов, Панаев и другие, понимали, что Тургенев, может быть, и бессознательно испытывает чувство смутной ревности к Толстому, и защищали его, но и они пришли в ужас, когда Толстой, приглашенный на ужин, устраивавшийся в редакции «Современника», при Тургеневе и других горячих поклонниках Жорж Занд, напал на нее. Не помогли уговоры и предупреждения Д. В. Григоровича, приехавшего с Толстым на этот ужин. Первую половину вечера Толстой вел себя прилично и хорошо, молчал, но к концу ужина сорвался. «Услышав похвалу новому роману Ж. Занд, он резко объявил себя ее ненавистником, прибавив, что героинь ее романов, если б они существовали в действительности, следовало бы, ради назидания, привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам»6.
Тургенев был взбешен и написал Боткину возмущенное письмо:
«С Толстым я едва ли не рассорился — нет, брат, невозможно, чтобы необразованность не отозвалась так или иначе. Третьего дня, за обедом у Некрасова, он по поводу Жорж Занд высказал столько пошлостей и грубостей, что передать нельзя. Спор зашел очень далеко — словом, он возмутил всех и показал себя в весьма невыгодном свете»7.
Но Толстой не унимался и продолжал возмущать сотрудников «Современника» своей неслыханной дерзостью. «Вот бы наслушались всяких чудес! — говорил Панаев одному своему знакомому. — Узнали бы, что Шекспир дюжинный
писака, и что иаше удивление и восхищение Шекспиром — не более как желание не отставать от других и привычка повторять чужие мнения. Да-с, это курьез... Человек не хочет знать никаких традиций, ни теоретических, ни исторических!»8
Очевидно и здесь мнение Толстого было принято только за желание порисоваться, пооригинальничать. На самом же деле Толстой действительно никогда не восхищался Шекспиром и если в те годы он еще недостаточно проанализировал свое отношение к Шекспиру, то, позднее, в статье своей о нем, написанной в 1903 году, Толстой приводит серьезные критические доводы, развенчивающие великого драматурга.
С самого детства общепринятые понятия не имели никакого значения для Толстого. «Все так думают, все так делают», никогда не являлось для него законом и иногда достаточно было сказать, что «все так думают» для того, чтобы Толстой полез на стену, подвергая такие суждение всестороннему, острому анализу.
Часто он бывал нетерпим, почти груб; увлекаясь, терял свойственную ему застенчивость, говорил неприятные вещи, о которых впоследствии сожалел. В спокойные минуты он сознавал, что его резкие выпады не могут убедить людей, а только раздражают их. В записной книжке от 3 декабря 1856 года он пишет: «Избави Бог действовать [на него (другого человека)] прямо, как разбить куколку червяка и оставить его голого; а надо кормить червяка, чтобы он вырос из куколки и сам сбросил ее, когда он уже бабочка».
Многие обижались, сторонились Толстого, другие любили его и прощали ему его выпады. «Толстой написал превосходную повесть «Два гусара», — пишет Некрасов Боткину 17 апреля, — она уже у меня и будет в 5-м номере «Современника». Милый Толстой! Как журналист, я ему обязан в последнее время самыми приятными минутами, да и человек он хороший, а блажь уходится»9.
28 марта Боткин пишет Некрасову: «Поклонись Толстому: я чувствую к нему какую-то нервическую, страстную склонность...» «Я жду не дождусь видеть Толстого, к которому, чувствую, привязанность моя, молча и независимо от всякого сознания, растет в глубину» .
В старости Толстой не любил вспоминать это время. Свои мечты о создании журнала, восторги и разочарования, литературные вечера, где читались новые произведения, только что вышедшие из-под пера Островского, Аксакова, Тургенева и других — все это Толстой забыл — осталась жестокая критика жизни и деятельности того времени. «Жизнь вообще идет развиваясь, — писал он в своей «Исповеди», жестоко обличая себя и своих сотоварищей литераторов, — и что в этом развитии главное участие принимаем мы — художники, поэты. Наше призвание — учить людей. ...Я, художник, поэт — писал, учил, сам не зная чему».
Учил ли он?
Сам Толстой много раз впоследствии говорил о том, что творчество несовместимо с учительством. Невольно вспоминается стихотворение Пушкина: Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Разве могут поэты, писатели, художники в такие минуты хладнокровно рассуждать о том, что они призваны учить людей?
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...
(А. С. Пушкин. Поэт)
В марте месяце 1856 г. император Александр II обратился к московскому дворянству с речью о необходимости уничтожения крепостного права. Мир в то время был уже заключен,и правительство, чувствуя все более и более назревавшую необходимость срочных реформ, прислушивалось к общественному мнению и шло ему навстречу.
Речью Государя вопрос об отмене крепостного права был предрешен, и вся лучшая передовая часть дворянства стала предпринимать шаги к освобождению крестьян в своих поместьях.
Одним из таких помещиков был Лев Толстой. Еще 2 августа 1855 г. в Крыму, обдумывая «Роман русского помещика», он записал в своем дневнике, что в основу этого романа должна быть положена мысль о «невозможности жизни правильной помещика образованного нашего века с рабством».
Речь Государя снова натолкнула его на этот вопрос. «Мое отношение к крепостным начинает сильно тревожить меня», — пишет Толстой в дневнике от 22 апреля, и на следующий же день он поехал к писателю Кавелину, который дал ему обильный материал по вопросу о крепостном праве.
«Приехал от него (Кавелина) веселый, надежный, счастливый, — писал Толстой в дневнике от 23 апреля. — Поеду в деревню с готовым писаным проектом».
Но оказалось, что освобождение крестьян было совсем не легким делом. Толстой встретил целый ряд препятствий на своем пути. Мало того, что надо было составить проект, но при представлении этого проекта в министерство внутренних дел Толстой наткнулся на обычную правительственную чисто формальную волокиту, которая приводила его в отчаяние. Наконец, с готовым проектом, полный радужных надежд, с чувством морального удовлетворения, что он наконец освободится от того гнета, который стал с такой силой давить его, он поехал в Ясную Поляну.
По дороге он остановился в Москве, где познакомился с сотрудниками «Отечественных записок». С. Т. Аксаков дружески принял Толстого, познакомил его с Хомяковым, читал ему отрывки из своей «Семейной хроники». «Хорош, но старика захвалили», — кратко отозвался Толстой о произведении Аксакова.
Вместе с Константином Александровичем Иславиным он заехал в подмосковное имение Глебово-Стрешнево, где жила Любовь Александровна, Любочка, вышедшая замуж за придворного доктора Андрея Евстафьевича Берса — сестра Константина Александровича. Простой, здоровый и добропорядочный уклад семьи Берсов, где Толстой впервые обратил внимание на свою будущую жену, понравился Толстому и он записал в своем дневнике:
«Дети нам прислуживали, что за милые, веселые девочки».
Но мысли Толстого были уже в Ясной Поляне, куда он торопился, чтобы завершить то дело, которое больше всего его интересовало в это время. По приезде в деревню, он, не откладывая ни одного дня, немедленно собрал сходку крестьян для объявления им о своем решении — проведении проекта своего в жизнь.
«Был на сходке, — записал он в дневнике от 28 мая. — Дело идет хорошо. Мужики радостно понимают. И видят во мне афериста, потому верят». Единственно, с кем он мог поговорить о волнующем его вопросе, была тетенька Татьяна Александровна, но она не разделяла восторгов своего любимого Левочки и не сочувствовала его либеральным идеям. Самое ужасное было то, что сами мужики приняли благородный порыв своего барина тупо-равнодушно и не поверили ему. Не поверили именно потому, что видели в помещиках аферистов, которые из выгоды держат их в рабстве и если теперь и шли на какие-то уступки, то только потому, что где-то была скрыта их собственная в этом выгода, в которой они по «темноте своей», не умели разобраться. Им и в голову не могло придти, что у помещика могло быть какое-либо другое побуждение, кроме выгоды, и что их молодой барин хотел им помочь, сделать им добро, дав им свободу.
3 июня Толстой написал в своем дневнике: «Вечером сходки не было. Но узнал от Василья, что мужики подозревают обман, что в коронацию всем будет свобода, а я хочу их связать контрактом».
Но он упорно продолжал беседовать с мужиками, убеждая их принять свободу, а они упорно и тупо стояли на своем, боясь обмана.
«Не хотят свободу», — записал Толстой 4 июня в своем дневнике. «Вечером беседовал с некоторыми мужиками, и их упорство доводило меня до злобы, которую я с трудом мог удерживать».
«Два сильных человека связаны острой цепью, — пишет он 9 июня, — обоим больно, как кто зашевелится, и как один зашевелится, невольно режет другого, и обоим простора нет работать».
Крестьяне ждали «свободы» от «царя-батюшки», шел слух, что и землю помещичью крестьяне получат даром, а граф требовал за нее небольшого выкупа.
Так кончилась эта вторая попытка Толстого подойти ближе к крестьянам.
За последнее время, из литературных работ он закончил своих «Двух гусар», гениальное произведение по глубине психологического анализа двух военных типов: отца — лихого, бесшабашного молодца, широкого, разгульного и невольно привлекающего к себе симпатии читателя, и сына — расчетливого, мелкого, неприятного типа, встречающегося и в современной жизни. По-прежнему Толстой с увлечением работал над «Юностью».
Жизнь била в нем ключом. Природа, музыка, красивые женщины действовали на него как шампанское, порою побуждая его к творчеству, порою вызывая острое желание личного счастья, любви к женщине...
Он знал, что единственное лекарство, которое могло исцелить, упорядочить его внутреннюю и внешнюю жизнь — была женитьба.
Жениться! Но на ком? Женитьба свяжет его на всю жизнь и он боялся этого решительного шага. Застенчивость, робость мешали ему подойти к порядочным женщинам, сближаться с ними. А тут еще перед самым отъездом из Москвы он случайно встретил и страстно, по-мальчишески, влюбился в сестру своего друга Дмитрия Алексеевича Дьякова, Александрии Оболенскую.
«Не узнал Александрии Оболенскую, — записывает он в дневнике от 22 мая, — так она переменилась. Я не ожидал ее видеть, поэтому чувство, которое она возбудила во мне, было ужасно сильно... Да и теперь мне ужасно больно вспомнить о том счастии, которое могло быть мое...»
Несмотря на то, что ему показалось, что Александрии могла бы разделить его чувства, он все же решил уехать, записав в своем дневнике (24 мая): «...Скучал
жестоко, не предвидя возможности увидеть нынче Александрии. Оставаться незачем, но уехать ужасно не хочется. Четыре чувства с необыкновенной силой овладели мной: любовь, тоска раскаяния (однако приятная), желание жениться (чтобы выйти из этой тоски), и — природы».
Тетенька по-своему толковала состояние Левочки и тоже считала, что его давно пора женить.
В семи верстах от Ясной Поляны, недалеко от Киевского шоссе, по дороге в Тулу, в уютном, старинном имении жили три барышни Арсеньевы, опекаемые тетушкой и француженкой-гувернанткой. Это были самые обыкновенные мечтающие о женихах барышни: благовоспитанные, говорящие по-французски, хорошенькие, хорошей семьи, хотя и не из высшего аристократического круга. Самой привлекательной из трех была Валерия, и ее-то и прочили в невесты Льву Толстому.
По дороге из Москвы в Ясную Поляну Толстой заехал к Арсеньевым и с той поры стал постоянно бывать у них. Тетенька Татьяна Александровна радовалась: наконец-то Левочка образумится и женится на порядочной девушке. Арсеньевы радушно принимали Толстого, а он, окруженный заботами и вниманием всех этих женщин, присматривался и никак не мог решить: она ли это? Та ли это женщина, с которой он должен связать себя на всю жизнь? Любит ли она его по-настоящему? Любит ли он ее? Что в ней? Есть ли в ней пока еще скрытый для него, неиссякаемый источник живой воды, могущий утолить постоянную его жажду духовного общения с близким человеком, или же, докопавшись до истинной ее сути, он наткнется на безвкусную, подпочвенную мутную водичку, которая не только не утолит этой жажды, но еще больше замутит его душу?
Иногда пешком, иногда верхом, он совершал свои одинокие прогулки, любуясь то перламутровым, прозрачным оттенком в тучах серого дня, то
извилистыми тропинками в девственных, заросших орешником лесах. В воскресенье, сокращенными дорогами, он шагал через лес и поле три версты в церковь, где со всех деревень собирались крестьяне и помещики; где у кирпичного забора лениво мотали головами и обмахивались редкими хвостами от назойливых мух маленькие, лохматые лошаденки, запряженные в телеги; где в церкви, набитой народом, было душно, пахло ладаном, кричали дети, которым разряженные в расшитых занавесках, паневах и плисовых безрукавках бабы, совали в рты разжеванные мякиши хлеба, чтобы не орали; где вокруг церкви бродили парни в новых, чистых рубахах и высоких сапогах, густо смазанных дегтем; где на погосте, среди могил, выделялся кирпичный фамильный склеп с останками родителей Толстого.
В жаркие, знойные дни Толстой ездил в свой любимый Грумонт. Он привязывал лошадь и купался в маленьком, нагретом горячим солнцем озере, насыщенном холодными ключами, неожиданно, полосами охватывающими тело. Он наслаждался и озером, и доброй лошадью, движение мышц которой он чувствовал под своим телом, он наслаждался запахом лошадиного пота, пробивающегося каемкой белой пены из-под потника, и теплой сыростью леса, и запахом сена, и встречей по дороге с мужиками и бабами, с которыми он, останавливаясь, любил поговорить. Клубились в голове мысли, создавались образы, росло радостное, почти восторженное сознание причастности его к миру, к Богу...
Он наивно думал, что он найдет кого-то, кто сможет его понять.
Если бы он по-настоящему был влюблен в Валерию, он не мог бы устоять и женился бы на ней, но, по-видимому, и этого не было.
«Провел весь день с Валерией, — записал он в дневнике от I июля. — Она была в белом платье с открытыми руками, которые у нее нехороши. Это меня расстроило. Я стал щипать ее морально и до того жестоко, что она улыбалась недоконченно. В улыбке слезы. Потом она играла, мне было хорошо, но она уже была расстроена».
Порою он умилялся, порою мечтал, иногда впадал в отчаяние от пустоты Валерии, ее легкомыслия, в глубине души сознавая, что она пустоцвет: «без костей и без огня, точно — лапша. А добрая. И улыбка есть, болезненно покорная».
В письме от 23 августа он с едкой желчью, злобно, отчасти несправедливо набросился на Судаковских барышень. Они были в Москве на коронации Императора Александра II и с милой наивностью в письме к тетеньке Татьяне Александровне описали свои впечатления. Они очень веселились, на них произвели впечатление блестящие флигель-адъютанты, их платья «со смородиной чуть не помяли»...
«Неужели какая-то смородина de toute beaute, haute volee и флигель-адъютанты останутся для вас вечно верхом всякого благополучия? Ведь это жестоко! Для чего вы писали это?
...Насчет флигель-адъютантов — их человек 40, кажется, а я знаю положительно, что только два не негодяи и дураки, стало быть радости тоже нет. — Как я рад, что измяли вашу смородину на параде...»
«Во мне были, — как он писал ей, — два человека: умный и глупый». Глупый человек порою собирался на ней жениться. «Ведь ты счастлив, — рассуждал он, — когда ты с ней, смотришь на нее, слушаешь, говоришь»... «Умный» же человек в Толстом обливал «глупого» холодной водой. «...Месяц безалаберного
счастья, — писал он ей уже с дороги в Петербург, куда он уехал для того, чтобы в разлуке с Валерией проверить свои чувства к ней. — Я отдавался ему теперь перед моим отъездом и чувствовал, что я становился дурен и недоволен собой; я ничего не мог говорить вам, кроме глупых нежностей, за которые мне совестно теперь. На это будет время, и счастливое время. Я благодарю Бога за то, что он внушил мне мысль и поддержал в намерении уехать, потому что я один не мог бы этого сделать. Я верю, что Он руководил мной для нашего общего счастья. Вам простительно думать и чувствовать, как глупый человек, но мне бы было постыдно и грешно. Я уже люблю в вас вашу красоту, но я начинаю только любить в вас то, что вечно и всегда драгоценно — ваше сердце, вашу душу. Красоту можно узнать и полюбить в час и разлюбить так же скоро, но душу надо узнать. Поверьте, ничто в мире не дается без труда — даже любовь, самое прекрасное и естественное чувство... Я вас вспоминаю особенно приятно в трех видах: 1) когда вы на бале попрыгиваете как-то наивно на одном месте и держитесь ужасно прямо, 2) когда вы говорите слабым болезненным голосом, немножко с кряхтеньем и 3) как вы на берегу Грумонтского пруда в тетинькиных вязаных огромных башмаках злобно закидываете удочку. Глупый человек всегда с особенной любовью представляет вас в этих трех видах»... Так пишет «глупый». «Главное, — добавляет к письму «умный», — живите так, чтобы ложась спать, можно сказать себе: нынче я сделала 1) доброе дело для кого-нибудь, 2) сама стала хоть немножко лучше. Попробуйте, пожалуйста, пожалуйста, определять себе вперед занятия дня и вечером поверять себя. Вы увидите, какое спокойное, но большое наслаждение каждый день сказать себе: нынче я стала лучше, чем вчера».
Так подготовлял он постепенно и себя и ее к браку. Можно себе легко представить, что с ним было, когда он вдруг узнал, что Валерия флиртовала с каким-то французом, учителем музыки Мортье. «В Москве один господин, который вас не знает, рассказывал мне, что вы влюблены в Мортье, что вы каждый день были у него, что вы в переписке с ним». Возможно, что случай этот послужил главной причиной конечного разрыва с Валерией. «Мне было больно, страшно больно было потерять теперь то чувство увлечения, которое в вас есть ко мне, но уже лучше потерять его теперь, чем вечно упрекать себя в обмане, который бы произвел ваше несчастье».
Переписка Толстого с Валерией продолжается еще некоторое время, как будто ему жалко отрываться от создавшихся отношений, от созданной «глупым» человеком мечты. Иногда она прерывается, но затем снова возобновляется и, наконец, 14 января 1857 года, перед поездкой за границу, Толстой пишет ей прощальное письмо:
«Я не переменился в отношении вас и чувствую, что никогда не перестану любить вас так, как я любил, т. е. дружбой... потому что никогда, ни к какой женщине у меня сердце не лежало и не лежит так, как к вам. Но что же делать, я не в состоянии дать вам того же чувства, которое ваша хорошая натура готова дать мне. Я всегда это смутно чувствовал, но теперь наша двухмесячная разлука, жизнь с новыми интересами, деятельностью, обязанностями даже, с которыми несовместима семейная жизнь, доказали мне это вполне...»
Толстой надеялся, что уехав за границу, вдали от Валерии — он окончательно проверит свои чувства к ней.
«Первое условие популярности автора, т. е. средство заставить себя любить. Есть любовь, с которой он обращается со всеми своими лицами. От этого Диккенсовские лица — общие друзья всего мира, они служат связью между человеком Америки и Петербурга», — писал Толстой в своей записной книжке в то время, как слава его возросла настолько, что все журналы — «Современник», «Библиотека для чтения», «Отечественные записки» — старались наперебой заполучить его произведения. Он старался удовлетворить их всех, но связанность с ними тяготила его.
«Как хочется поскорее отделаться с журналами, чтобы писать так, как я теперь начинаю думать об искусстве, ужасно высоко и чисто», — писал он в дневнике ноября 23, в Петербурге.
И сам того не сознавая, он как раз писал так, как, по его мнению, надо было, вкладывая в своих героев неограниченный запас любви, скопившийся в его душе, заставляя читателей своих любить их так, как он любил их сам. Но силу своей творческой мощи он тогда еще не вполне сознавал.
«Когда я жил в Петербурге после Севастополя, Тютчев, тогда знаменитый, сделал мне, молодому писателю, честь и пришел ко мне... меня поразило, как он, всю жизнь вращавшийся в придворных сферах... говоривший и писавший по-французски свободнее, чем по-русски, выражая мне свое одобрение по поводу моих «Севастопольских рассказов», особенно оценил какое-то выражение солдат; и эта чуткость к русскому языку меня в нем удивила чрезвычайно»1.
30 ноября Толстой записал в дневнике: «Государь читал «Детство» и плакал». И известие это, без сомнения, произвело большее впечатление на Толстого, чем приевшаяся ему журнальная критика.
Вращаясь в кругу писателей, критиков, он все же близко не сходился с ними. Его раздражало, когда его старались завести в какие-то оглобли, приклеить к нему штамп «литератора». Как норовистая лошадь, он разбивал эти оглобли, вырывался на свободу и несся по собственному своему, никем не начертанному, пути: «Литературная подкладка противна мне до того, как ничто никогда противно не было», — записывает он в дневнике от ноября 22-го.
Общепринятый, штампованный либерализм с партийными рамками, теориями, программами был ему всегда чужд. «Есть два либерализма, — писал он в записной книжке от ноября 18-го, 1856 года, — один, который желает, чтобы все люди были равны мне, чтобы всем было так же хорошо, как мне, другой, который хочет, чтобы всем было так же дурно, как мне. Первый основан на нравственном христианском чувстве, желании счастья и добра ближнему, другой — на зависти, на желании несчастья ближнего».
На этом понятии либерализма, основанном на «христианском чувстве», возникло все дальнейшее философское мировоззрение Толстого.
Крепостное право продолжало его тревожить.
«Помянут мое слово, — писал он в дневнике 8 января 1857 года, — что через два года крестьяне поднимутся, ежели умно не освободят их до этого времени». Праздные же разглагольствования о «благе народа» в удобно обставленных гостиных среди людей, по существу не понимавших этого «народа», сладкая, розовая водичка, разводившаяся этими признанными «либералами», по-настоящему глубоко не болевшими его судьбами — возмущали его.
«Все мне противны, — пишет он с болью, — ...и противны за то, что мне хочется любить дружбы, а они не в состоянии...».
И как они ни старались, кружку «прогрессивных литераторов» так и не удалось ввести норовистого коня в свои оглобли.
«Одиночество для меня тяжело, — писал он, — а сближение с людьми невозможно. Я сам дурен, а привык быть требователен».
Он усиленно искал душевной близости с Тургеневым, но из этого также ничего не выходило. Некрасов отталкивал его своим банальным либерализмом и среди всех его товарищей по перу не находилось никого, с кем он мог бы подружиться. Лучше других Толстого понимал Боткин и искренно любил его:
«Толстой несколько странен, — писал он своему брату от 12 марта 61 года, — но что касается до души, то она у него глубока, как море»2. Боткин несколько раз выражал это свое чувство к «ясному соколу», как его называл Некрасов, и в тяжелые минуты Толстой иногда делился своим настроением с Боткиным. Как чувствительный барометр, Толстой реагировал на малейшие колебания атмосферы. Встречи с людьми, природа, музыка, литература швыряли стрелку то вправо, то влево, вызывая бурю мыслей, ощущений, претворявшихся неминуемо в творчество.
«Всю ночь спал дурно. Эти дни слишком много слушал музыки».
«Статья о Пушкине (Белинского) — чудо. Я только теперь понял Пушкина». Один раз он пошел обедать к Боткину, там никого не было, кроме Панаева, который стал после обеда вслух читать Пушкина. «Я пошел в комнату Боткина, — пишет Толстой, — и там написал письмо Тургеневу, потом сел на диван и зарыдал беспричинными, но блаженными поэтическими слезами. Я решительно счастлив все это время. Упиваюсь быстротой морального движения вперед и вперед».
26 ноября 1856 года Толстой получил отставку, которой он так долго ждал. Теперь его ничего не связывало — ни военная служба, ни Валерия, отношения с которой были вполне выяснены, ни вопрос о раскрепощении крестьян, кончившийся так неудачно. Он решил поехать за границу. Тургенев был уже в Париже и ждал Толстого.
«Толстой мне пишет, что он собирается сюда ехать... По письмам его я вижу, что с ним совершаются самые благодатные перемены — и я радуюсь этому, «как нянька старая», — писал он Дружинину. И по приезде Толстого в Париж «старая нянька» по первому впечатлению осталась довольна своим питомцем, потому что после свидания с Толстым, Тургенев пишет Полонскому: «Толстой здесь. В нем произошла перемена к лучшему, весьма значительная. Этот человек пойдет далеко и оставит за собой глубокий след»4.
Но очень скоро у Тургенева наступает разочарование: «С Толстым я все-таки не могу сблизиться окончательно, — пишет он Колбасину, — слишком мы врозь глядим»5.
Несмотря на это, писатели постоянно виделись, ездили вместе в Дижон. Казалось, неведомая сила влекла их друг к другу и, сталкиваясь, они неизменно отскакивали друг от друга. «Зашел к Тургеневу, — записывает Толстой в дневнике 4/16 марта. Он дурной человек по холодности и бесполезности, но очень художественно умный и никому не вредящий».
Не раз Толстой решает, что сближение его с Тургеневым невозможно. «Нет, я бегаю от него. Довольно я отдал дань его заслугам и забегал со всех сторон, чтобы сойтись с ним, — невозможно».
По-видимому, он был прав. Тургенев не мог понять ни его бурной непоследовательности, ни его резких скачков в непонятное, ни его отрицания «принятого», его сомнений, его угрызении совести после падений.
«Вчера ночью мучило меня вдруг пришедшее сомнение во всем, (Дневник). И теперь, хотя оно не мучит меня, оно сидит во мне. Зачем? и что я такое? Не раз уж мне казалось, что я решаю эти вопросы, но нет, я их не закрепил жизнью...»
Живя в Париже, Толстой старался, как мог, упорядочить свою жизнь и извлечь пользу из своего пребывания за границей. Он усиленно занимался языками, посещал музеи, старался писать. Но вдруг случилось событие, нарушившее все его планы (25 марта — 6 апреля). «...Встал в семь часов и поехал смотреть экзекуцию. Толстая, белая, здоровая шея и грудь. Целовал Евангелие и потом — смерть, что за бессмыслица! Сильное и недаром прошедшее впечатление. Я не политический человек. Мораль и искусство. Я знаю, люблю и могу... Гильотина долго не давала спать и заставляла оглядываться».
С этого дня взгляд на смертную казнь навсегда определился у Толстого.
«...Вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидал, как голова отделилась от тела, и то, и другое врозь застучало в ящике, я понял — не умом, а всем существом, — что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка».
И в своей статье «Так что же нам делать?» Толстой еще раз вспоминает ужас, пережитый им при виде гильотины.
«В тот момент... я понял, — не умом, не сердцем, а всем существом моим, — что все рассуждения, которые я слышал о смертной казни, есть злая чепуха, что сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить убийство, как бы они себя ни называли, убийство — худший грех в мире, и что вот на моих глазах совершен этот грех. Я своим присутствием и невмешательством одобрил этот грех и принял участие в нем».
То, что он испытал, глядя на эту казнь, настолько тяжело давило его, настолько пронизало ужасом все его существо, что он не в силах был один нести
эту тяжесть, ему необходимо было поделиться с близкими охватившим его темным, давящим душу настроением, свалить со своих плеч хоть часть этого груза. И в тот же день он написал Боткину:
«Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека. Там есть не разумная воля, но человеческое чувство страсти, а здесь до тонкости доведенное спокойствие и удобство в убийстве и ничего величественного... Здесь на днях сделано пропасть арестаций, открыт заговор, хотели убить Наполеона в театре; тоже будут убивать на днях, но уже верно с нынешнего дня я не только никогда не пойду смотреть этого, никогда не буду служить нигде никакому правительству». «Пропала радость жизни, померкло, опротивело все...»
На другой день он «встал поздно,нездоровый, читал, и вдруг пришла простая и дельная мысль — уехать из Парижа».
Он вспомнил, что в Женеве жили его дальние родственницы, Александра и Елизавета Толстые, и он уехал к ним.
Отец Александрии Толстой был родным братом Ильи Андреевича Толстого — деда Льва Николаевича, следовательно Александра Толстая была двоюродной теткой Льва. Она была еще совсем молодая, только на одиннадцать лет старше своего племянника, и Толстой в шутку прозвал ее и ее сестру, Елизавету Андреевну, «бабушками».
Александрии приехала за границу с Великой Княгиней Марией Николаевной, при которой она состояла фрейлиной. Сестра же ее, Елизавета Андреевна, была наставницей детей Великой Княгини.
В том состоянии мрачной подавленности, в которой находился Толстой, он вспомнил про своих «бабушек» и покатил в Женеву искать у них успокоения.
Пока он ехал по железной дороге, ему, как он выразился, было «скучно». Но как только он пересел в дилижанс, ближе к земле и к природе, и его окутала волшебная лунная ночь, он пришел в восторг: «Все выскочило, залило любовью и радостью. В первый раз после долгого времени искренно опять благодарил Бога за то, что живу», — записал он в дневнике.
Как вихрь, ворвался Толстой в жизнь своих двух придворных тетушек. В своих воспоминаниях Александрии прекрасно рассказывает о настроении своего друга после его появления в Женеве.
«Париж мне так опротивел, что я чуть с ума не сошел, — говорил он ей. — Чего я там не насмотрелся. Во-первых, в maison garnie, где я остановился, жили 36 menagcs, из которых 19 незаконных. Это ужасно меня возмутило. Затем, хотел испытать себя и отправился на казнь преступника через гильотину, после чего перестал спать и не знал, куда деваться. К счастью, узнал нечаянно, что вы в Женеве и бросился к вам опрометью, будучи уверен что вы меня спасете»1.
И Александрии, разумеется, сделала все, чтобы спасти его. Она нежно любила Льва и он это чувствовал.
«Наша чистая, простая дружба торжественно опровергала общепринятое, фальшивое мнение насчет невозможности дружбы между мужчиной и женщиной», писала она в своих воспоминаниях.
Так ли это было? Сам Толстой был противоположного мнения и считал, что дружба между молодым мужчиной и женщиной неизбежно, всегда переходила в более сильное чувство.
«С Толстыми весело»... «очень, очень весело», писал он в дневнике от 29 апреля, 11 мая. «Как я готов влюбиться, что это ужасно. Ежели бы Александрии была 10-ю годами моложе. Славная натура». «У Александрии чудная улыбка», — записывает он в дневнике от 31 марта, 12 апреля.
О нежной привязанности Александрии к Толстому видно из писем, которые она писала ему после их разлуки.
«Находясь вблизи вас, трудно не чувствовать себя счастливым... Я не могу вам передать, сколько было радостного в наших, часто неожиданных встречах, как воспоминания о них ободряют меня. Все, что я люблю, исчезло вместе с Швейцарией». «Когда я вижу вас, мне всегда хочется стать лучше, и мысль о вашей дружбе (правда немножко слепой), производит на меня то же действие», — писала она ему в Ясную Поляну 29 августа 1857 г.2
Слова эти звучат почти признанием... Да и кто возьмется определить грань между дружбой и романтической любовью? Несомненно, что их тянуло друг к другу, и что когда они бывали вместе — им было хорошо и весело. В то время, как отношения Толстого с Валерией были искусственными, неясными, с Александрии Толстому было легко и непринужденно. Она была умна, чутка, не было в ней и тени рисовки, она была уже вполне сделанным, зрелым человеком, тогда как с Валерией ему приходилось делать усилия, стараясь развивать ее, найти в ней то, чего по существу, может быть, и не было. Его умственные запросы, любовь к искусству, литературе, природе, интерес к религиозно-философским вопросам находили отклик в чуткой, тонкой душе Александрии.
Они часто и подолгу спорили. Он не принимал ее строгого, покорного отношения к православной церкви. Она же страдала оттого, что он недостаточно придерживался всех церковных правил и обрядов, и редко ходил в церковь.
«Несмотря на различие воспитания и положения, — пишет она в своих воспоминаниях, — у нас была одна общая черта в характерах. Мы были оба страшные энтузиасты и аналитики, любили искренно добро, но не умели за него приняться правильно..., а в сущности анализ только щекотал наше воображение и нисколько не действовал на улучшение жизни. Лев был уже тогда полон отрицаний, но больше по уму, чем по сердцу. Душа его была рождена столько же для веры, сколько для любви, и часто, сам того не сознавая, он это проявлял в различных случаях.
Разговоры наши клонились большею частью к религиозным темам, но едва ли мы друг друга понимали. Где мне было постигнуть в то время всю многообразность его исключительной природы» .
Из Кларан Толстой переехал в Веве. «Бабушки» получили отпуск от Великой Княгини, к ним присоединились еще двое молодых людей, и вся эта молодая, веселая компания с утра до вечера бродила пешком по окрестностям Веве, останавливаясь в маленьких швейцарских пансионах, шумным своим весельем нарушая покой спокойных, благонравных туристов.
«Что за чудная поездка, — писала Александрии, — и опять какой ряд восхитительных, радостных дней!»4 А Толстой в письмах к Александрии вспоминает эту прогулку в таких поэтических выражениях: «Мы шли до позднего вечера этими душистыми, задумчивыми, савойскими дорогами... Природа больше всего дает это
высшее наслаждение жизни, забвение своей несносной персоны. Не слышишь, как живешь, нет ни прошедшего, ни будущего, только одно настоящее, как клубок плавно разматывается и исчезает».
Несмотря на то, что «бабушки» привыкли к строгому придворному этикету, они от души веселились и радовались всяким шалостям и веселым выходкам своего племянника, а он неустанно выдумывал какие-нибудь новые проделки. «Фарсам их не было конца, — писала Александрии. — Одна приятельница наша, старая француженка... не могла надивиться на их буйность: «Они всегда являются как ураган», — говорила она5.
Раз утром все отправились пешком на Глион. Там остановились в гостинице, чтобы выпить чаю. Помимо наших русских путешественников, в общей гостиной находились англичане, американцы и другие иностранцы. После чая Толстой, не обращая внимания на многочисленную публику, сел за фортепиано и потребовал от своих спутников, чтобы они начали петь. У Александры Андреевны был прекрасный голос; другая, бывшая с ними русская, тоже хорошо пела. Двое мужчин подтягивали басом, а Лев Николаевич управлял ими, как капельмейстер. Импровизированный хор пел «Боже, царя храни», русские и цыганские романсы и песни. Успех был поразительный, сидевшие в гостиной иностранцы бросились к певцам с выражением восхищения и благодарности и умоляли продолжать концерт.
На другой день то же самое повторялось в том пансионе, где остановились Толстые. Грозные англичане и англичанки до того смягчились, что не знали, как выразить свое восхищение.
Отпуск Александры Андреевны кончился, но друзья продолжали видаться.
Раз Александра Андреевна с детьми Великой Княгини предприняли путешествие в Оберланд. По дороге они остановились в Веве, в одном из нарядных отелей.
«Едва мы уселись за стол, — рассказывает Александра Андреевна, — как кельнер пришел мне объявить таинственным тоном, что кто-то дожидается меня внизу... Догадавшись, в чем дело, я быстро спустилась в залу, посреди которой стояли опять они [Толстой и его друзья], окутанные в длинные плащи с перьями на фантастических шляпах. Ноты лежали на полу, по примеру странствующих музыкантов, а инструменты заменялись палками. При моем появлении раздалась невообразимая какофония, истинно un tapage infernal или кошачий концерт. Голоса и палки действовали взапуски. Я чуть не умерла со смеху, а великокняжеские дети не могли утешиться, что не присутствовали при этом представлении» .
Дети умоляли Александру Андреевну пригласить Толстого на их пароход, чтобы вместе продолжать путешествие. Это состоялось к их большому удовольствию. Они долго помнили, как он их забавлял всякими выдумками и шутками.
«А сколько вишен он мог съесть!» — говорили они с удивлением.
Толстому не сиделось на месте, ему хотелось все посмотреть, везде побывать и он постоянно уходил в экскурсии. Одному ему было скучно и он или присоединялся к кому-нибудь, или брал с собой спутников. В одно из таких путешествий, в середине мая, он взял с собой 11-летнего мальчика, Сашу Галахова, и отправился с ним на Жеманскую гору. В путевых заметках Толстого сохранились прекрасные описания этого путешествия и видов, которые открылись им с высоты. «Хотя мы еще не видели солнца, — писал Толстой, — но оно через нас, задевая несколько утесов и сосен на горизонте, бросало свои лучи на возвышение напротив, потоки все слышны были внизу, около нас только сочилась снеговая вода, и на поворотах дороги мы снова стали видеть озеро и Вале на ужасной глубине под нами. Низ Савойских гор был совершенно синий, как озеро, только темнее его, верх, освещенный солнцем, совершенно белорозовый. Снеговых гор было больше, они казались выше и разнообразнее. Паруса и лодки, как чуть заметные точки, были видны на озере». Обычно, туристы останавливаются в таких местах, преувеличенно глубоко вдыхают «дивный» воздух и громко, трафаретно, восхищаются. Но Толстой и тут верен себе. Он перенес вас воображением на грандиозные высоты швейцарских гор, заставив почти физически ощутить их мощь, безбрежные дали, высоты, но сам остался равнодушен.
«Странная вещь, — записывает он в тот же день в дневнике (15/27 мая), — из духа ли противоречия или вкусы мои противуположны вкусам большинства, но в жизни моей ни одна знаменито прекрасная вещь мне не нравилась... Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух, и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль; когда эти самые сочные листья травы, которые я раздавил, сидя на них, делают зелень бесконечных лугов; когда те самые листья, которые, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, составляют линию далекого леса; когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба; когда вы не одни ликуете и радуетесь природой, когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись ползут коровки, везде кругом заливаются птицы».
Он вернулся в Кларан, но ненадолго, и снова отправился с Боткиным в Сен-Бернард, побывал в Шильоне, съездил в Женеву, побывал в Берне и 5 июля приехал в Люцерн.
Писал он мало и отрывками. Пытался работать над «Казаками», но не очень успешно. Настроение его постоянно менялось. Веселое настроение сменялось мрачностью, намерение упорядочить жизнь в смысле писания — не приводилось в исполнение. Природа неизменно действовала на него, как музыка, как искусство, возбуждая его к мысли и творчеству. «Восхитительная лунная ночь, — пишет он по дороге в Берн, где он присутствовал на народном празднике; — пьяные крики, толпа, пыль не расстраивают прелести; сырая, светлая на месяце поляна, оттуда кричат коростели и лягушки и туда, туда тянет что-то. А прийти туда, еще больше будет тянуть в даль. Не наслаждением отзывается в моей душе красота природы, а какой-то сладкой болью...»
«Я приехал в Люцерн, — писал он тетеньке Татьяне Александровне, — город в северной Швейцарии, недалеко от Рейна, и уже откладываю свое путешествие, чтобы провести несколько дней в этом очаровательном маленьком городке... Я опять в полном одиночестве и сознаюсь, что временами мне это тяжело; знакомства в гостиницах и по железной дороге не идут в счет».
Ему тоскливо, ему снова кажется, что он не может нравиться людям, он не легко сходится с ними, мрачные мысли лезут ему в голову: «А что, если он болен чахоткой». Но комната, в которой он устроился, — уютная. Слышна «на озере музыка, пасмурно, раины тихо стоят. В окно, на черном фоне тополей, смотрят ползущие, освещенные свечкой лозы винограда...» На другой день после своего приезда Толстой опять пытался писать — но ничего не вышло, вечером он пошел обедать. В большой первоклассной гостинице, за табельдотом, много народа — чужие, чуждые. «На таких обедах, — писал Толстой в своем рассказе «Люцерн», — мне всегда становится тяжело, неприятно и под конец грустно. Мне все кажется, что я виноват в чем-нибудь,что я наказан, как в детстве, когда за шалость меня сажали на стул и иронически говорили: «отдохни, мой любезный! — в то время, как в жилах бьется молодая кровь и в другой комнате слышны веселые крики братьев. Я прежде старался взбунтоваться против этого чувства задавленности, которое испытывал на таких обедах, но тщетно; все эти мертвые лица имеют на меня неотразимое влияние, и я становлюсь таким же мертвым. Я ничего не хочу, не думаю, даже не наблюдаю. Сначала я пробовал заговаривать с соседями; но кроме фраз, которые очевидно повторились в стотысячный раз... тем же лицом, я не получал других ответов. И ведь все эти люди — не глупые же и не бесчувственные, а наверное у многих из этих замерзших людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне, у многих и гораздо сложнее и интереснее. Так зачем же они лишают себя одного из лучших удовольствий жизни — наслаждения друг другом, наслаждения человеком?»
Очевидно, он еще больше почувствовал свое одиночество среди этой холодной чопорности людей.
«...Мне сделалось грустно, как всегда после таких обедов и, не доев десерта, в самом невеселом расположении духа, я пошел шляться по городу*. В дневнике он написал: «было ужасно душевно холодно, одиноко и тяжко»... «как вдруг, — как он пишет в «Люцерне», — меня поразили звуки странной, но чрезвычайно приятной и милой музыки. Эти звуки мгновенно живительно подействовали на меня. Как будто яркий, веселый свет проник в мою душу. Мне стало хорошо, весело. Заснувшее внимание мое снова устремилось на все окружающие предметы. И красота ночи и озера, к которым я прежде был равнодушен, вдруг, как новость, отрадно поразили меня. Я невольно в одно мгновение успел заметить и пасмурное,
с серыми кусками на темной синеве, небо, освещенное поднимающимся месяцем, и темно-зеленое гладкое озеро с отражающимися в нем огоньками, и вдали мглистые горы, и крики лягушек из Фрешенбурга, и росистый свежий свист перепелов с того берега. Прямо же передо мной, с того места, с которого слышались звуки и на которое преимущественно было устремлено мое внимание, я увидал в полумраке, на середине улицы, полукругом стеснившуюся толпу народа, а перед толпой, в некотором расстоянии — крошечного человека в черной одежде... Я подходил ближе, звуки становились яснее. Я разбирал ясно дальние, сладко колеблющиеся в вечернем воздухе, полные аккорды гитары и несколько голосов, которые, перебивая друг друга, не пели тему, а кое-где выпевая самые выступающие места, давали ее чувствовать. Тема была что-то вроде милой и грациозной мазурки. Голоса казались то близки, то далеки, то слышался тенор, то бас, то горловая фистула с воркующими тирольскими переливами. Это была не песня, а легкий мастерской эскиз песни. Я не мог понять, что это такое; но это было прекрасно. Эти сладострастные, слабые аккорды гитары, эта милая, легкая мелодия и эта одинокая фигурка черного человечка среди фантастической обстановки темного озера, просвечивающей луны и молчаливо возвышающихся двух громадных шпицев башен и черных раин сада, все было странно, но невыразимо прекрасно, или показалось мне таким.
Все спутанные, невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение и прелесть. В душе моей как будто распустился свежий благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеяния, равнодушия ко всему на свете, которые я испытывал за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноту надежды и беспричинную радость жизни.
...Маленький человечек был, как оказалось, странствующий тиролец. Он стоял перед окном гостиницы, выставив ножку, закинув кверху голову, и, бренча
на гитаре, пел на разные голоса свою грациозную песню. Я тотчас же почувствовал нежность к этому человеку и благодарность за тот переворот, который он произвел во мне...»
Маленького, может быть, и немного пошловатого человечка слушала богатая, нарядная толпа, стоя на балконах первоклассных, дорогах гостиниц, слушали его из окон, слушали гуляющие по набережной. Возможно, что некоторым и нравилось оригинальное и музыкальное исполнение тирольских песен, но когда музыкант, снявши фуражку, протянул руку, никто ничего не дал ему. Три раза он повторил фразу: «Messieurs et mesdames, si vous croyez que je gagne quelque chose...».
«Из этих сотен блестяще одетых людей, столпившихся слушать его, ни один не бросил ему копейки. Толпа безжалостно захохотала. Маленький певец, как мне показалось, сделался еще меньше, взял в другую руку гитару, поднял над головой фуражку и сказал: «Messieurs et mesdames, je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit» — надел фуражку. Толпа загоготала от радостного смеха».
Буря негодования, обиды за маленького музыканта поднялась в душе Толстого, ему казалось, что эта бездушная, богатая толпа обидела, оскорбила его самого в лице маленького художника. «Я догнал его, — пишет он в дневнике, — позвал в Швейцерхоф пить...»
«Мы пили, лакей засмеялся и швейцар сел. Это меня взорвало и я их обругал и взволновался ужасно...»
«Люцерн» небольшой, малоизвестный рассказ, но сила его не только в ярких, художественных описаниях природы, но и в сопоставлении пресыщенной, избалованной, богатой толпы, равнодушной, безжалостной — с бедным маленьким артистом, испытавшим горькую нужду и унижения и, вместе с тем, обладающим даром незамысловатым искусством своим пробуждать лучшие чувства в человеческой душе, возбуждать в них радость, надежды, заставлять их видеть красоту и величие природы в Божьем мире.
«...Он трудился, он радовал вас, — пишет Толстой в «Люцерне», — он умолял вас дать ему что-нибудь от вашего излишка за свой труд, которым вы воспользовались. А вы с холодной улыбкой наблюдали его как редкость из своих высоких, блестящих палат, и из сотни вас, счастливых, богатых, не нашлось ни одного, ни одной, которая бы бросила ему что-нибудь! Пристыженный, он пошел прочь от вас, и бессмысленная толпа, смеясь, преследовала и оскорбляла не вас, а его за то, что вы холодны, жестоки и бесчестны; за то, что вы украли у него наслаждение, которое он вам доставил, за это его оскорбляли».
«...Кто больше человек и кто больше варвар: тот ли лорд, который, увидав затасканное платье певца, со злобой убежал из-за стола, за его труды не дал ему миллионной доли своего состояния и теперь, сытый, сидя в светлой, покойной комнате, спокойно судит о делах Китая, находя справедливыми совершаемые там убийства, или маленький певец, который, рискуя тюрьмой, с франком в кармане, двадцать лет никому не делая вреда, ходит по горам и долам, утешая людей своим пением, которого оскорбили, чуть не вытолкали нынче, и который усталый, голодный, пристыженный, пошел спать куда-нибудь на гниющей соломе?
В это время из города в мертвой тишине ночи я далеко-далеко услышал гитару маленького человечка и его голос.
Нет, сказалось мне невольно, ты не имеешь права жалеть о нем и негодовать на благосостояние лорда. Кто свесил внутреннее счастье, которое лежит в душе
каждого из этих людей? Вот он сидит теперь где-нибудь на грязном пороге, смотрит в блестящее лунное небо и радостно поет среди тихой, благоуханной ночи; в душе его нет ни упрека, ни злобы, ни раскаяния. А кто знает, что делается теперь в душе всех этих людей, за этими богатыми, высокими стенами? Кто знает, есть ли в них столько беззаботной, кроткой радости жизни и согласия с миром, сколько ее живет в душе этого маленького человека? Бесконечна благость и премудрость Того, Кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям».
Возбужденный и ночью и музыкой, и теснившимися в его голове мыслями, Толстой вернулся в свой отель: «Ночь чудо, — записывает он в дневнике. — Чего хочется? Страстно желается? Не знаю, только не благ мира сего. И не верить в бессмертие души! Когда чувствуешь в душе такое неизмеримое величие. Взглянул в окно. Черно, разорванно и светло. Хоть умереть. Боже мой! Боже мой! Что я? и куда? и где я?»
Но не прошло и двух недель, Толстой в Баден-Бадене записывает в дневнике: «С утра до ночи рулетка... Свинья. Дурно, гадко...».
Он сам себе противен, занимает деньги у какого-то француза, проигрывается, снова занимает деньги у Тургенева, который в это время приехал в Баден-Баден, опять проигрывается. И, наконец, обращается за помощью к Александрии. «Давно так ничто не грызло меня», — горько бичует он себя в дневнике.
Измученный, томимый угрызениями совести, он укатил во Франкфурт, снова искать утешения и сочувствия у своего друга, «бабушки» Александрии.
«Бесценная Саша, — пишет он про нее в дневнике. — Чудо! Прелесть. Не знаю лучше женщины».
8 июля, побывав в Дрездене, где он осмотрел Музей, Толстой уехал обратно в Россию.
Несмотря на то, что Толстой ожидал увидеть больше свободы и терпимости в Европе и даже в своей записной книжке подчеркнул, что «все правительства равны по мере зла и добра», и что «лучший идеал — анархия»; несмотря на то, что, восхищаясь природой за границей, он все же тянулся к своей родной, русской природе, несмотря на то, что музеи и произведения искусства, за малыми исключениями, как например Дрезденская мадонна, мало тронули его — когда он вернулся, ему резко бросились в глаза бедность России, беспорядочность, тьма, воровство и, главное, — крепостничество. Это свое впечатление он записал сейчас же по приезде в Петербург, в Дневнике от 6 августа: «Противна Россия. Просто ее не люблю». А в письмах к Александрии Толстой он еще резче отозвался о родине: «В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши тоже происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие. Поверите ли, что, приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине, и теперь только начинаю привыкать ко всем ужасам, которые составляют вечную обстановку нашей жизни... Ежели бы вы видели, как я, в одну неделю, как барыня на улице палкой била свою девку, как становой велел мне сказать, чтобы я прислал ему воз сена, иначе он не даст законного билета моему человеку, как в моих глазах чиновник избил до полусмерти 70-летнего больного старика за то, что чиновник зацепил за него, как мой бурмистр, желая услужить мне, наказал загулявшего садовника тем, что кроме побоев, послал его босого по жнивью стеречь стадо и радовался, что у садовника
все ноги были в ранах, — вот ежели бы вы все это видели и пропасть другого, тогда бы вы поверили мне, что в России жизнь — постоянный, вечный труд и борьба со своими чувствами».
Приехав в Ясную Поляну, он записал: «Прелесть Ясная. Хорошо и грустно, но Россия противна, и чувствую, как эта грубая, лживая жизнь со всех сторон обступает меня...».
«Патриархальное варварство» въелось в плоть и кровь русского человека: и в добрейшую тетеньку Татьяну Александровну, не понимавшую, почему надо было отпускать дворовых людей на волю, и в соседей помещиков, и в бурмистра, и в садовника, и в старосту, который, как Толстой записал в дневнике: «глубоко презирает меня и мне трудно с ним что-нибудь сделать».
Толстой страдал от всех этих противоречий. Ему хотелось наладить хозяйство, чего нельзя было сделать, не применяя строгости. Неправда крепостничества все больше и больше мучила его. Все существо Толстого, в то время непротивленца не по теории, которую он выработал гораздо позднее, а по самой натуре своей — возмущалось и страдало. Он органически не мог наказывать людей, делать им больно, даже не мог спокойно сделать им выговор. Он мог рассердиться, накричать, даже ударить, но после этого всегда наступало мучительное раскаяние. Крепостной Сашка украл масло, и староста требовал, чтобы барин наказал его. Но Сашка сказал, «что он не знает, что с ним делается, когда он выпьет», и что «у него ноги гниют», и барин «увещевал и еще наградил его». «Глупо, — записал Толстой в дневнике, — но что я могу иначе делать».
Разве староста мог уважать такого барина? Разве можно было навести какой-то порядок, когда барин, вместо того, чтобы наказать негодяя, еще награждает его за то, что он масло украл, да еще занимается всякими пустяками.
Николай Николаевич рассказывал о своем брате: «Левочка желает все захватить разом, не упуская ничего, даже гимнастики. И вот у него под окном кабинета устроен бар. Конечно, если отбросить предрассудки, с которыми он так враждует, он прав: гимнастика хозяйству не помешает; но староста смотрит на дело несколько иначе: «придешь, говорит, к барину за приказанием, а барин, зацепившись одной коленкой за жердь, висит в красной куртке головой вниз и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось; не то приказания слушать, не то на него дивиться1».
Легче всего было отпускать на волю дворовых людей. Это были люди безземельные — служащие при помещичьих домах: повара, горничные, дворники, кучера. Служили они своим господам всю жизнь, некоторые рождались и умирали на барском дворе, часто отец передавал свое ремесло сыну и так шло поколениями. Толстой постепенно стал отпускать своих дворовых на волю. Но и здесь часто встречались недоразумения: дворовые не хотели уходить и продолжали служить своим господам.
Все это угнетало Толстого. «Бедность людей и страдания животных ужасны», — записал он в дневнике в Пирогове, куда поехал навестить брата Сергея.
«Благо, что есть спасение — мир моральный, мир искусств, поэзии и привязанностей», — писал он А. А. Толстой.
«Сижу один, — писал он Александрии Толстой (18 авг. 1857 г.), — ветер воет, грязь, холод, а я скверно, тупыми пальцами разыгрываю Бетховена и проливаю слезы умиления, или читаю Илиаду, или сам выдумываю людей, женщин, живу с ними, мараю бумагу, или думаю, как теперь, о людях, которых люблю».
Он читал Илиаду с восторгом, точно впервые открыв для себя сокровище: «Вот оно! Чудо!» — писал он в дневнике. А несколько дней спустя, после долгого перерыва, взявшись снова за чтение Евангелия, он записал: «Как мог Гомер не знать, что добро — любовь! Откровение. Нет лучшего объяснения...».
Иногда у него бывала непреодолимая потребность человеческого общения и тогда он писал Александрии, единственному человеку, который со всей чуткостью умной, любящей женщины — понимала его.
«Только честная тревога, борьба и труд, основанные на любви, есть то, что называют счастьем, — писал он ей, — ...а бесчестная тревога, основанная на любви к себе — это несчастье... Мне смешно вспомнить, как я думывал и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаяния, без путаницы жить себе потихоньку и делать, не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно! Нельзя, бабушка. Все равно, как нельзя, не двигаясь, не делая моциона, быть здоровым. Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость. От этого-то дурная сторона нашей души и желает спокойствия, не предчувствуя, что достижение его сопряжено с потерей всего, что есть в нас прекрасного, не человеческого, а оттуда».
«Рваться, путаться»... Толстой весь в этом утверждении. Дымясь, перегорал в нем навоз, постепенно превращаясь в ценный, богатый перегной, дающий мощь и силу взращиваемым на нем могучим всходам.
Сильное, здоровое существо его требовало постоянного движения: то он ездил на ярмарки, покупал лошадей, и ему доставляло истинное наслаждение, смешиваясь с толпой, ходить по рядам привязанных к коновязям или телегам лошадей, смотреть им в зубы, торговаться, отбиваясь от назойливо пристающих
цыган. Цыгане наперебой хвастались своим товаром и, лихо заломив меховые, потертые шапки, носились по площади на своих клячах, которым, для оживления, подсыпали перец под хвосты. Толстому хотелось показать барышникам, что он знаток лошадей, но по всей вероятности они надували его, тогда как Толстой был убежден, что совершил выгодную сделку. Покупатели и продавцы кричали, хлопали друг друга по рукам и, наконец, сговорившись и расплатившись за лошадь, продавец из полы в полу передавал владельцу проданную лошадь, т. е. полой кафтана держась за повод, отдавал конец его в руки покупателя. Мычали привязанные к телегам коровы, с огромными, по три дня не выдоенными выменями. из которых капало на пыльную землю молоко; молодые ребята грызли и лихо выплевывали шелуху подсолнухов, от которых постепенно серела земля на площади...
Толстой покупал леса на сруб, сажал деревья. Голые бугры постепенно покрывались стройными рядами елей, берез и сосен. Многие леса, насажденные Толстым еще в молодости, сохранились и до сих пор. Но и этого ему было мало. Ему хотелось засадить всю Тульскую губернию лесами. Он составил целый проект лесонасаждения и покатил с ним в Петербург к министру государственных имуществ Муравьеву. Из проекта ничего не вышло, а мысли Толстого в Петербурге пошли по другому руслу.
Снова попав в литературную среду, Толстой с горечью почувствовал, что репутация его, как писателя, пошатнулась: «пала или чуть скрыпит», как он писал в дневнике (30 окт.). О «Люцерне» появилась критическая статья в «Петербургских Ведомостях», Тургенев назвал «Люцерн» морально-политической проповедью, а в «Современнике» к рассказу отнеслись более чем холодно.
Он изредка возвращался к писанию своих «Казаков», но в этот период его гораздо больше интересовал его «Погибший» или «Музыкант», в конце концов напечатанный под заглавием «Альберт».
Образ пьяного, беспутного гения-музыканта так крепко засел ему в голову, что он не мог отделаться от него. Для того, чтобы понять, почему это было так, надо знать, как Толстой относился вообще к музыке. В жизни Толстого музыка занимала огромное место. Она была для него не простым наслаждением красивых сочетаний звуков, она не представляла для него интереса, как теоретический разбор того или иного музыкального произведения, музыка — будь то простая народная песня, красивый, старинный цыганский романс, классическое произведение Моцарта, Гайдна, Шуберта или Шопена, которого он особенно любил, — была для него божественным проявлением человеческой души. Когда он слушал музыку, в нем самом с необычайной силой закипали мысли, рождались новые образы, пробуждалась вся собственная его сила творчества, до глубины потрясая все его могучее существо.
Маленький бродячий музыкант в Люцерне, пьяный погибший музыкант в кабаке — произвели на Толстого почти что одно и то же незабываемое впечатление. Толстого потрясла мысль, что одновременно в одном и том же существе могли ужиться: пошлость, распущенность, пустота и сила божественного дара творчества, имеющая такую власть над человеческими душами.
«Звуки темы свободно, изящно полились вслед за первым, каким-то неожиданно ясным и успокоительным светом вдруг озаряя внутренний мир каждого слушателя, — пишет он в «Альберте». — Ни один ложный или неумеренный звук не нарушал покорности внимающих, все звуки были ясны, изящны и значительны.
Все молча, с трепетом надежды, следили за развитием их. Из состояния скуки, шумного рассеяния и душевного сна, в котором находились эти люди, они вдруг незаметно перенесены были в совершенно другой, забытый ими мир. То в душе их возникало чувство тихого созерцания прошедшего, то страстного воспоминания чего-то счастливого, то безграничной потребности власти и блеска, то чувства покорности, неудовлетворенной любви и грусти. То грустно-нежные, то порывисто-отчаянные звуки, свободно перемешиваясь между собой, лились и лились друг за другом так изящно, так сильно и так бессознательно, что не звуки слышны были, а сам собой лился в душу каждого какой-то прекрасный поток давно знакомой, но в первый раз высказанной поэзии».
Переживания эти были столь значительны для Толстого, что он должен был их излить. Но люди его не поняли. Кому нужны были эти переживания? Эти несчастные Толстовские музыканты, которым он посвятил столько умственных и душевных сил, чуть не погубили его репутацию.
Но Толстой не мог серьезно и надолго огорчаться непониманием публики. Новые произведения зарождались в нем: «Казаки», «Три смерти», «Семейное счастье».
«Теперь я спокойнее, — писал он в дневнике от 30 октября, — я знаю, что у меня есть что сказать и силы сказать сильно; а там, что хочет, говори публика. Но надо работать добросовестно, положить все свои силы, тогда пусть плюет на алтарь».
Зиму 1857 — 1858 гг. Толстой жил в Москве, с сестрой Марией Николаевной и ее детьми и тетенькой Татьяной Александровной. Любимый старший брат Николенька часто приезжал к ним и жизнь протекала легко и весело, посемейному. Мария Николаевна была прекрасной пианисткой, часто брат и сестра играли в четыре руки сонаты Моцарта, Гайдна, Шуберта; дом Толстых посещали музыканты, круг людей, интересующихся музыкой, расширялся, постепенно создалось Музыкальное Общество, в котором принимали участие Боткин, Мортье и другие, и которое послужило основанием для создания московской консерватории.
Племянницы, дочери Марии Николаевны, Лизанька и Варенька, обожали своего веселого дядюшку, а он постоянно возился с ними, затевал разные игры, возил их в театр, поддразнивал их, шутил с ними. Молодость и жизнерадостность брали свое. «Левочка надевал фрак, — говорил про него Николай Николаевич, — белый галстук и катил на бал». Он любил щегольнуть, хорошо одевался. В своих воспоминаниях Фет, со слов товарища Толстого, знавшего его еще с Кавказа, писал:
«В то время увлечение Л. Толстого щегольством бросалось в глаза и, видя его в новой бекеше с седым бобровым воротником, с вьющимися длинными темнору-сыми волосами под блестящей шляпой, надетою набекрень, и с модной тростью в руке, выходящего на прогулку, Борисов* говорил про него словами песни: «Он и тросточкой подпирается, он калиновой похваляется»2.
Переходы Толстого от серьезного к пустякам были самыми неожиданными: от кутежей, к разрешению вопроса крепостного права, от изучения юридических наук, к прыганью в трико через деревянного коня в гимнастическом зале, от щегольства к простоте жизни — переходы от радости к отчаянию, мыслям о смерти или своей непригодности и никчемности в жизни.
* И. П. Борисов — зять А. А. Фета.
Изредка Толстой виделся с Александрии. Один раз он проводил ее до Клина по дороге в Петербург. В Клину он заехал к своей тетушке — двоюродной сестре своей матери, княжне В. А. Волконской.
В своих рассказах старая княжна унеслась в далекое прошлое. Образы неведомой ему и все же столь любимой им матери и деда встали перед Толстым как живые. Все слышанное Толстой сложил в сокровищницу своей памяти только для того, чтобы воспользоваться этим материалом, когда придет время.
Здесь же, у княжны Волконской, Толстой сделал первый набросок своего рассказа «Три смерти». В этом рассказе он описал смерть избалованной, богатой барыни, ямщика-крестьянина и дерева.
В письме к Александрии 1 мая 1858 г. Толстой писал о рассказе «Три смерти»:
«Моя мысль была: три существа умерли — барыня, мужик и дерево. — Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью. Христианство, как она его понимает, не решает для нее вопроса жизни и смерти. Зачем умирать, когда хочется жить? В обещания будущие христианства она верит воображением и умом, а все существо ее становится на дыбы, и другого успокоения (кроме ложно-христианского) нету, — а место занято. Она гадка и жалка. Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия — природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза... Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво, — потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет».
«Топор низом звучал глуше и глуше, сочные, белые щепки летели на росистую траву, и легкий треск послышался из-за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь на своем корне. На мгновение все затихло, но снова погнулось дерево, послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнулось макушей на сырую землю».
«...Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачные побелевшие тучки, спеша, разбегались по синевшему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое; сочные листья радостно и спокойно шептались в вершинах, и ветви живых дерев медленно, величаво зашевелились над мертвым, поникшим деревом».
Это было написано в период «упадка» творчества Толстого, как считали и до сих пор считают критики и биографы Толстого.
От Толстого ждали произведений политического значения, освещающих современные, злободневные события, писатель должен был, по мнению литераторов, руководить людьми, учить их, сам же Толстой думал иначе.
«Как ни велико значение политической литературы, отражающей в себе временные интересы общества, как ни необходима она для народного развития, есть другая литература, отражающая в себе вечные, общечеловеческие интересы, самые дорогие, задушевные сознания народа, литература, доступная человеку всякого народа и всякого времени, и литература, без которой не развивался ни один народ, имеющий силу и сочность».
В этой речи, произнесенной Толстым 4 февраля 1859 года, когда его избрали
членом Общества Любителей Российской Словесности, выразилось его отношение к литературе. Он был художником и писать иначе не мог: «Пусть плюют на алтарь».
Как бы сильны вы ни были в любой игре или спорте — игра со слабым противником ослабляет вас. Шахматист распускается, если не чувствует сильного отпора, нередко даже проигрывает и, наоборот, подтягивается с сильным игроком, учится новым приемам.
В общении с людьми Толстой жадно выискивал людей, с которыми он мог бы состязаться мыслями, у него была потребность расширить кругозор свой, потребность разумной, пусть строгой, критики своих писаний. «С некоторого времени всякий вопрос для меня принимает громадные размеры», — записал он в дневнике от 20 марта 1858 года.
«Много я обязан Чичерину, — писал он дальше. — Теперь при каждом новом предмете и обстоятельстве я, кроме условий самого предмета и обстоятельства, невольно ищу его место в вечном и бесконечном — в истории».
Б. Н. Чичерин, с которым Толстой одно время подружился, поразил его своим умом и образованностью. Он был ученым юристом. Толстой с молоду интересовался юридическими науками и, познакомившись с Чичериным, жадно вбирал в себя новые для него мысли и сведения. Но когда, как Толстой выразился в дневнике, он «лил в него (Чичерина) все накопившиеся чувства», то оказалось, что Чичерин не смог охватить того моря, подчас не совсем разобранных, не совсем ясных мыслей, которые Толстой обрушил на своего ученого друга. Толстой искал в Чичерине бездонной глубины, но он быстро исчерпал все, стукнулся о дно известной ограниченности интересов ученого и — охладел.
Впоследствии, когда Толстой все больше и больше погружался в интересы народа и занялся вопросом образования крестьянских детей, друзья разошлись еще больше. Чичерин не понял и не посочувствовал деятельности Толстого.
Вот что он пишет Чичерину 18 апреля 1861 года из Дрездена: «Воспоминание о нашей последней переписке и твои два письма, которые я нашел в Дрездене, заставили меня еще раз серьезно задуматься о наших отношениях, — Мы играли в дружбу. Ее не может быть между двумя людьми, столь различными, как мы. Ты, может быть, умеешь примирять презрение к убеждениям человека с привязанностью к нему; а я не могу этого делать. — Мы же взаимно презираем склад ума и убеждения друг друга. Тебе кажется увлечением самолюбия и бедностью мысли те убеждения, которые приобретены не следованием курса и аккуратностью, а страданиями жизни и всей возможной для человека страстью к отысканию правды, мне кажутся сведения и классификации, запомненные из школы, детской игрушкой, неудовлетворяющей моей любви к правде; поэтому лучше нам разойтись и каждому идти своей дорогой, уважая друг друга, но не пытаясь войти в те близкие отношения, которые даются только единством догматов веры, т. е. тех оснований, которые уже не подлежат мысли. А эти основания у нас совершенно различны. И я не могу надеяться придти к твоим, потому что уж имел их. Не могу тоже надеяться, чтобы ты пришел к моим, потому что ты слишком далеко уж зашел по своей соблазнительной битой дороге. Тебе странно, как учить грязных ребят. Мне непонятно, как, уважая себя, можно писать об освобождении — статью. Разве можно сказать в статье одну миллионную долю того, что знаешь и что нужно бы сказать, и хоть что-нибудь новое и хоть одну мысль справедливую,
истинно справедливую. А посадить дерево можно и выучить плести лапти наверно можно».
Друзья продолжали переписываться и посещать друг друга до глубокой старости, чувство взаимного уважения сЬхранилось, но пути их разошлись.
Александра Андреевна Толстая, брат Николай, Аф. Аф. Фет, каждый по-своему, какими-то особыми своими свойствами, были ему ближе. Брат Николай, не любивший мною разговаривать, добродушно подтрунивавший над внешними чудачествами своего младшего брата, по существу понимал его, ценил по-своему и ни малейшей нечуткостью не коробил Льва. Говорили они между собой мало, не было между ними ни малейшей сентиментальности, но было взаимное уважение и глубокое понимание друг друга.
Фет был большим умницей, всю свою жизнь он любил и ценил Толстого. Последнего же тянули к Фету его художественная чуткость, понимание красоты и величия творчества, его любовь к природе. Ему было легко и весело с ним.
Как растение к солнцу, тянулся Толстой к любовной, нежной ласке. Надо было жениться, но на ком? И единственно, кто давал ему ощущение, что он не один, что есть нежно любящая душа, готовая разделить его чувство одиночества и дать ему всю силу любви и понимания, на которую она была способна, была Александрии.
«Откуда у вас берется эта теплота сердечная, которая другим дает счастье и поднимает их выше», — пишет он ей в марте 1858 года.
«Люблю вас, внук, — отвечает ему «бабушка», — от всей души, так, как вы есть, не скажу, что не желала бы в вас никаких изменений. — это была бы ложь...»1
Но кто, как не любимая «бабушка» мог понять ту жажду жизни и надежд, ту силу мыслей и чувств, которые всегда закипали в ее любимом Льве вместе с весенним возрождением природы.
«Бабушка! Весна! — пишет он ей в апреле. — Отлично жить на свете хорошим людям; даже и таким, как я, хорошо бывает. В природе, в воздухе, во всем надежда, будущность и прелестная будущность».
А в дневнике он писал:
«Я молился Богу в комнате перед греческой иконой Богоматери. Лампадка горела. Я вышел на балкон: ночь темная, звездная. Звезды, туманные звезды, яркие кучки звезд, блеск, мрак, абрисы мертвых деревьев. Вот Он. Ниц перед Ним и молчи» (20 апреля 1858 г.).
И это не были слова... В этом обрисовалась вся внутренняя сущность Толстого.
Но Толстой не мог написать своей «бабушке» того, что с ним случилось. Тайну свою он, как всегда, поведал только своему дневнику: «Я влюблен, как никогда в жизни», — писал он 13 мая. Эти слова относились к черноглазой, живой красавице крестьянке, Аксинье Базыкиной.
Трещали, цокали и заливались трелями изнемогающие от любви соловьи, надрывались, квакали лягушки, цвела черемуха, наполняя воздух приторным, одуряющим запахом, и все это, и пахнувшая свежестью молодая трава, и ландыши в лесу, и взбудораженная, вспаханная пластами земля, и красавица Аксинья — все это слилось в одну гармонию оживающей природы.
Но прошла весна, и охладело чувство Толстого к Аксинье, лишь изредка давая вспышки, неизбежно вызывавшие раскаяние и отвращение к себе. Аксинья
осталась жить со своим мужем, но Толстой продолжал изредка встречаться с ней.
Один только сын был у Аксиньи — Тимоша.
Это был могучий, широкоплечий, высокий человек, с умными серыми глазами, русой бородой и крупными чертами лица. Тимоша был малограмотный, но любил читать книги. В деревне его уважали и считали честным человеком. Необыкновенно приятный голос и культурность речи невольно обращали на себя внимание людей, встречавшихся с ним.
Природа и хозяйство настолько затянули Толстого в это лето, что он мало писал. Еще в апреле месяце он немного поработал над «Казаками», летом же почти ничего не писал и не читал.
Тетенька Татьяна Александровна пришла в ужас, когда Левочка вдруг решил сам пахать землю, а брат Николай, с обычным своим ласковым юмором, рассказывал Фету: «Понравилось Левочке, как работник Юфан растопыривает руки при пахоте. И вот Юфан для него эмблема сельской силы, вроде Микулы Селяниновича. Он сам, широко расставляя локти, берется за соху и «юфанствует»2.
Слова: «Юфан», «юфанствовать» надолго остались в семье Толстых как понятие нарицательное, к этому слову родные Толстого примешивали некоторый оттенок слова «юродствовать». На самом же деле для Толстого — его пахота — была насущной потребностью приобщения его к земле, которую он не только любил, но частью которой он чувствовал себя всю свою жизнь. И чем ближе он подходил к «юфанам», тем больше их судьба мучила его.
В начале сентября 1858 года был созван губернский дворянский съезд для проведения выборов депутатов Тульской губернии в Комитет по улучшению быта крестьян. Толстой принимал в нем участие. На съезде было вынесено следующее постановление:
«Мы, нижеподписавшиеся, в видах улучшения быта крестьян, обеспечения собственности помещиков и безопасности тех и других, полагаем необходимым отпустить крестьян на волю не иначе, как с наделом некоторого количества земли в потомственное владение, — и чтобы помещики, за уступаемую ими землю, получили бы полное, добросовестное денежное вознаграждение посредством какой-либо финансовой меры, которая не влекла бы за собою никаких обязательных отношений между крестьянами и помещиками, — отношений, которые дворянство предполагает необходимым прекратить». (Следуют подписи 105 тульских дворян, в числе которых подписался и: «Крапивенский помещик граф Лев Толстой».)
По-видимому, с дворянством, так же как и в свое время с офицерами, Толстой сойтись близко не мог. И помещики также невзлюбили его. В дневнике от 4 сентября Толстой записал:
«Были выборы. Я сделался врагом нашего уезда».
Судя по дневнику, Толстой периодами впадал в большое уныние.
«Я страшно постарел, — записал он в сентябре, — устал жить в это лето. Часто с ужасом случается мне спрашивать себя: что я люблю? Ничего. Положительно ничего. Такое положение бедно. Нет возможности жизненного счастья»3.
Временами, наоборот, его охватывает какая-то мальчишеская, задорная веселость. «Душенька, дяденька Фетинька, — писал он Фету 24 октября в Москву. — Ей Богу, душенька, и я вас ужасно, ужасно люблю! Вот-те и все! Повести писать глупо, стыдно. Стихи писать... Пожалуй пишите; но любить хорошего человека очень приятно. А может быть, против моей воли и сознания, не я, а сидящая во мне еще не повесть, заставляет любить вас. Что-то иногда так кажется. Что ни делай, а между навозом и коростой нет-нет да возьмешь и сочинишь. Спасибо, что еще писать себе не позволяю и не позволю. Изо всех сил благодарю вас за хлопоты о ветеринаре... Дружинин просит по дружбе сочинить повесть. Я, право, хочу сочинить. Такую сочиню, что уж ничего не будет. Шах персидский курит табак, а я тебя люблю. Вот она шутка-то!»
Повесть, которую Толстой собирался написать между «навозом и коростой», была «Семейное счастье». Толстой в то время задумал ее, но она видимо еще не вполне созрела в нем.
В конце декабря братья Толстые, Николай и Лев, по приглашению своего знакомого, Громеки, уехали в Вышний Волочек на охоту на медведей. Эта охота чуть не стоила жизни Толстому. «...Боюсь, что до вас дойдет как-нибудь с прибавлениями мое приключение, — писал он тетеньке Татьяне Александровне, — и потому сам спешу известить вас о нем.
Мы с Николенькой были на охоте на медведя. 21-го я застрелил медведя. 22-го пошли опять, и тут со мной случилась преудивительная вещь. Медведь шел на меня, не видя меня; в 6 шагах я выстрелил и дал промах; вторым выстрелом, в 2-х шагах, я ранил его смертельно, но он кинулся на меня, свалил и, пока подоспели бежавшие, укусил два раза в лоб над глазом и под глазом...»
В рассказе для детей «Охота пуще неволи» Толстой так описывает это событие:
«Впереди себя слышу вдруг — как вихрь летит кто-то, близехонько сыплется снег, и пыхтит. Поглядел я перед собой: а он прямехонько на меня по дорожке частым ельником катит стремглав и, видно, со страху сам себя не помнит. Шагах от меня в пяти весь мне виден: грудь черная, и головища огромная с рыжинкой.
Летит прямехонько на меня лбом, и сыплет снег во все стороны. И вижу я по глазам медведя, что он не видит меня, а с испугу катит благим матом, куда попало».
Толстой выстрелил, первый раз промахнулся, второй раз ранил медведя.
«Он налетел на меня, — пишет Толстой дальше, — сбил с ног в снег и перескочил через. Ну, думаю, хорошо, что он бросил меня. Стал я подниматься, слышу, — давит меня что-то, не пускает. Он с налету не удержался, перескочил через меня, да повернулся передом назад и навалился на меня всей грудью. Слышу я, лежит на мне тяжелое, слышу теплое над лицом и слышу, забирает он в пасть все лицо мое. Нос мой уж у него во рту, и чую я, жарко и кровью от него пахнет. Надавил он меня лапами за плечи, и не могу я шевельнуться. Только подгибаю голову к груди, из пасти нос и глаза выворачиваю. А он норовит как раз в глаза и нос зацепить. Слышу зацепил он зубами, верхней челюстью, в лоб под волосами, а нижней челюстью в маслак, под глазами, стиснул зубы, начал давить. Как ножами режут мне голову; бьюсь я, выдергиваюсь, а он торопится, и, как собака, грызет, — жамкнет, жамкнет. Я вывернусь, он опять забирает. Ну, думаю, — конец мой пришел. Слышу, вдруг полегчало на мне. Смотрю, нет его: соскочил он с меня и убежал».
Спас Толстого один из охотников, который подбежал с хворостиной в руке, начал кричать на медведицу: «Куда ты? Куда ты?» И медведица оставила свою жертву и убежала в лес.
Через две недели ее добили. Шкура этой медведицы потом лежала в доме Толстого в Москве, в Хамовническом переулке, и младшие его дети любили лежать на ней, положив голову на большую, широкую голову зверя. Одного зуба у медведицы не было — он был выбит Толстым выстрелом, который ранил зверя.
В то время Толстой понемногу писал свое «Семейное счастье». «Надо писать тихо, спокойно, без цели печатать», — записал он в своем дневнике от декабря 13-го, 1858 года.
Это его настроение по-видимому отразилось в его повести. Позднее, в 1862 году, А. Григорьев писал в журнале «Время» о «Семейном счастье»: «О достоинствах этого тихого, глубокого, простого и высоко-поэтического произведения, с отсутствием всякой эффектности, с прямым и неломаным поставлением вопроса о переходе чувства страсти в иное чувство, пришлось бы писать еще целую статью...»3
Но «Семейное счастье» не произвело впечатления в литературных кругах и Толстой сам усумнился в качестве своей повести, назвав ее «постыдной мерзостью». Толстой даже хотел остановить печатание второй части повести и сжечь рукопись. Такое настроение создалось у Толстого потому, что не было человека, который в момент выхода повести поддержал бы его своим пониманием. Даже такие близкие люди, как Александрии, хотя нашла повесть прелестной, нашла в ней элемент «самого высокого комизма». Такой отзыв был, разумеется, хуже самой жестокой критики.
Только Боткин, со свойственной ему чуткостью, поддержал Толстого. В письме от 13 мая 1859 г. он пишет:
«...Прочел я корректуру 2-ой части с самым озлобленным вниманием — и представьте! результат вышел совсем не тот, которого я ожидал: не только мне понравилась эта 2-ая часть, но я нахожу ее прекрасною почти во всех отношениях. Во-первых, она имеет большой внутренний драматический интерес,
во-вторых, это превосходный психологический этюд, и наконец, в-третьих, — там есть глубоко схваченные изображения природы...»4.
«Семейное счастье» — глубокая по содержанию вещь. Целый ряд сложных сплетений чувств, мыслей, а главное, лжи в чувствах — приводят двух людей в тупик, из которого нет выхода. Часто в супружеской жизни переживается та же трагедия. Проходит острый, пьяный период страсти, наступает равнодушие, раздражение, и если нет глубоких основ, спаивающих брак — он распадается.
Толстой сам судить не мог и решил, что он написал «постыдную мерзость» и писать больше не будет, а посвятит себя сельскому хозяйству.
В апреле он писал Александрии Толстой: «Начинаю говеть и буду стараться говеть так, чтобы не стыдно было перед собою, перед прежними моими требованиями и перед вашими. Нынче и погода такая, что в небе видно Бога, ежели присмотреться немного, и в себе слышно Его».
Но с говеньем ничего не вышло и Толстой пишет Александрии покаянное письмо:
«Христос Воскресе! милая бабушка. Я пишу не столько потому, что недельный срок подходит, не столько потому, что хочется писать, а на совести есть ложь, в которой надо признаться. Во вторник, когда я вам писал, я расчувствовался просто от того, что погода была хорошая, а мне показалось, что мне хочется говеть, и что я чуть-чуть не такой святой, как ваша старушка. Оказалось же, что один говеть и говеть хорошо я был не в состоянии. Вот, научите меня. Я могу есть постное, хоть всю жизнь, могу молиться у себя в комнате, хоть целый день, могу читать Евангелие и на время думать, что все это очень важно; но в церковь ходить, и стоять слушать непонятые и непонятные молитвы, и смотреть на попа и на весь этот разнообразный народ кругом, — это мне решительно невозможно. И от этого вот второй год уж осекается мое говение».
Бабушка до слез огорчилась. Неверие ее Льва, как она толковала, его равнодушие к церкви — было для нее большим ударом.
«Если бы вы, действительно, верили в силу Святых Тайн, вы бы с такой легкостью не отказались от говенья — исключительно только потому, что вам не подходила обстановка. Сколько гордости, непонимания и небрежности в этом чувстве, считаемом, вероятно, вами благоговейным и достойным уважения! Временами мне кажется, что вы совмещаете в себе одном все идолопоклонство язычников — обожая Бога в каждом луче солнца, в каждом проявлении природы, в каждом из бесчисленных доказательств Его величия, но не понимая, что нужно проникнуть к источнику жизни, чтобы просветиться и очиститься. Что значит «хорошо говеть» и кто из нас может хорошо говеть? Мы грязны, отвратительны, слабы, равнодушны и погрязли в грехах, поэтому мы должны обратиться к Тому, Кто хочет излечить нас, нас очистить и приблизить к Себе; вы же, чтобы приобщиться к Нему, ждете момента, в который вы были бы довольны собой, или по крайней мере одного из тех состояний экзальтации, когда вам кажется, что вы из себя что-то представляете. Это заблуждение, грубый материялизм, доходящий до того, что в говеньи вы прежде всего ищете индивидуального и осязательного наслаждения»5.
Это религиозное разногласие с годами усилилось, трещина, образовавшаяся в отношениях друзей, со временем превратилась в глубокую пропасть.
«Батюшки мои! Как вы меня! Ей Богу, не могу опомниться! Но без шуток,
милая бабушка, я скверный, негодный, и сделал вам больно, но надо ли уж так жестоко наказывать? Все. что вы говорите, и правда и неправда. Убеждения человека, не те, которые он рассказывает, а те, которые из всей жизни выжиты им, трудно понять другому, и вы не знаете моих. И ежели бы знали, то нападали бы не так... Я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть мои записки того времени, и теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда. Это было и мучительное, и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал туда, как в это время, продолжавшееся 2 года. И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением. Я не могу иначе. Из 2 лет умственной работы я нашел простую, старую вещь, но которую я знаю так, как никто не знает, — я нашел, что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого, для того, чтобы быть счастливым вечно. Эти открытия удивили меня сходством с христианской религией, и я вместо того, чтобы открывать сам, стал искать их в Евангелии, но нашел мало. Я не нашел ни Бога, ни Искупителя, ни таинств, ничего; а искал я всеми, всеми, всеми силами души, и плакал, и мучался, и ничего не желал кроме истины. Ради Бога не думайте, чтобы вы могли чуть-чуть понять из моих слов всю силу и сосредоточенность тогдашнего моего искания. Это одна из тех тайн души, которые есть у каждого из нас; но могу сказать, что редко я встречал в людях такую страсть к истине, какая была в то время во мне. Так и остался со своей религией, и мне хорошо было жить с ней...».
«3 мая. — ...Дело в том, что я люблю, уважаю религию, считаю, что без нее человек не может быть ни хорош, ни счастлив, что я желал бы иметь ее больше всего на свете, что я чувствую, как без нее мое сердце сохнет с каждым годом, что я надеюсь еще и в короткие минуты как будто верю, но не имею религии и не верю. — Кроме того, жизнь у меня делает религию, а не религия жизнь. Когда я живу хорошо, я ближе к ней, мне кажется — вот-вот совсем готов войти в этот счастливый мир; а когда живу дурно, мне кажется, что и не нужно ее. — Теперь, в деревне, я так гадок себе, такую сухость я чувствую в сердце, что страшно и гадко, и слышней необходимость. Бог даст, придет. Вы смеетесь над природой и соловьями. Она для меня — проводник религии. У каждой души свой путь, и путь неизвестный, и только чувствуемый в глубине ее...».
У Толстого был свой, Толстовский путь. В нем он был совершенно одинок, как всегда. Не наставлений надо было ему, не нравоучений, не намечания пути. «У каждой души свой путь». Этот путь он мог пробивать только сам — ему надо было участия, ласки, душевной теплоты...
«Знаете, какое чувство возбуждают во мне ваши письма (некоторые, как последние, в которых вы обращаете меня), — пишет он Александрии от 12 июня 1859 г., — как будто я ребенок больной и неумеющий говорить, и я болен, у меня болит грудь, вы меня жалеете, любите, хотите помочь, и примачиваете бальзамом и гладите мне голову. Я вам благодарен, мне хочется плакать и целовать ваши руки за вашу любовь и ласку и участие; но у меня не тут болит, и сказать я не умею и не могу вам...».
Толстой тосковал, он был недоволен собой, неудовлетворен своей жизнью. И не было того бальзама, который мог бы облегчить его душевные страдания.
Толстой сам нашел выход, давший ему радость, и успокоение, и цель жизни и, главное, громадное нравственное удовлетворение. Цель эта была — служение людям, забытым, заброшенным крестьянским детям.
Перед поездкой на Кавказ Толстой впервые пробовал учить ребят в Ясной Поляне. Ему был 21 год. Но дело это было ему не по плечу. Он почувствовал, что нужна большая и серьезная работа в школе, для которой он тогда еще не созрел и он отошел от нее.
Десятью годами позднее дело народного образования в России почти не продвинулось вперед. Детей в деревнях учили или дьячки при церквах или полуграмотные отставные солдаты. Методы этих серых, некультурных учителей были просты. Они давали ученикам заучивать наизусть молитвы, псалтырь, написанные на славянском языке, и если дети плохо запоминали — били их, наказывали, ставя их на колени в угол, на горох.
Но за эти же десять лет изменился Толстой. Разочаровавшись в своем писательстве, он жаждал новой деятельности, запас творческой силы и мысли, накопившийся в нем за эти годы, искал применения и он, со свойственной ему вдохновенной страстностью, начал создавать свою собственную, основанную на свободных началах школу.
Без ложных, заранее выработанных теорий, без научного мудрствования, методов и рассуждений, он подошел к делу народного образования широко и дерзновенно, но вместе с тем и практически-жизненно просто.
«Нет ни одной методы дурной и ни одной хорошей... Недостаток методы состоит только в исключительном следовании одной методе, а лучшая метода есть — отсутствие всякой методы, но знание и употребление всех метод и изобретение новых по мере встречающихся трудностей», — писал Толстой в начале 1862 г.
«Наилучший учитель будет тот, у которого сейчас под рукой готово разъяснение того, что остановило ученика. Разъяснения эти дают учителю знание наибольшего числа метод, способность придумывать новые методы, и главное — не следование одной методе, а убеждение в том, что все методы односторонни, и что наилучшая метода была бы та, которая отвечала бы на все возможные затруднения, встречаемые учеником, т. е. не метода, а искусство и талант».
«Искусство и талант»... Те, кто занимался педагогической деятельностью, знают, что в этом — все. Сколько бы ни обучался бездарный учитель, к каким бы теориям он ни прибегал, если в нем нет этой Богом данной способности понимать детей, каким-то особым чутьем угадывать, как поступать в сложных, на каждом шагу неизбежно возникающих случаях — хорошего педагога из него никогда не выйдет.
Любовь к детям, широта кругозора, независимость взглядов, отступление от принятого трафарета — необходимые условия работы с детьми. У Толстого был врожденный талант педагога и для него подход к детям был прост и естественен. Уча, Толстой вырабатывал свою методу, состоявшую в отсутствии методы. Личным обаянием, силой своего творческого духа он очень скоро создал в школе атмосферу радости, почти восторга, среди детей и части учителей, заразившихся его настроением.
«В 1859 году, ранней осенью, — писал в своих воспоминаниях один из любимых учеников Толстого, Василий Морозов, — нам оповестили по деревне
Ясная Поляна о желании Льва Николаевича — «граха», как мы тогда его называли — открыть школу в Ясной Поляне, и о том, чтобы желающие дети приходили учиться, что школа открывается бесплатная. Я помню, какая была суматоха. На деревне начались сходки, начались разные толки, суждения.
— Как? Почему? Не обман ли какой? Махина не махонькая — учить бесплатно. Их, пожалуй, наберется 50 ребят, а то и больше.
А некоторые родители даже утверждали, что если отдать своих ребят учиться, так «грах» обучит и отдаст их царю в солдаты. И они как раз попадут под турку. «Так, он через наших ребят хочет выхвалиться перед царем». А некоторые говорили умно: «Что было, то видели, а что будет, то увидим, а учить отдавать ребят надо, благо человек берется бесплатно, а то вот Иван Фоканов ходит третью зиму к дьячку, а ничего не выучил, а за плату 2 руб. в месяц». «И вы как хотите, а я пошлю своего», — сказал один, за ним другой, третий, помялись некоторые, согласились и все; «И я, и я своего» .
Обычно крестьянские дети зимой сидели по домам, греясь на печках. Если выскочат, бывало, на двор, то схватят чью нибудь обуву или одежду — матери, брата или сестры. Чтобы идти в школу надо было одеться, а у многих ребят ничего не было.
«Все уж приготовились, — пишет дальше Морозов про сборы в школу: — рубашки белые, чистенькие, лапти новые, головы промаслены деревянным маслом или коровьим, у кого какое было. Вот мелькнул мимо нашего окна Кирюшка и влетел к нам в хату второпях.
— Где же Васька?
..................
— Кирюш, — говорю — мне обуться не во что, лаптей нет.
— У меня, — говорит, — у самого прохудалась пятка. А я пойду. Что же барин на ноги что ли смотреть будет? Была бы голова в порядке.
...Бог послал, скоро собрался и я. Заботливая моя сестра давно уже приготовила свои лапти и свой кафтан для меня, хотя и не в меру: лапти велики и кафтан длинен, потому что я из себя был худенький, тоненький, как лутошка... кафтан подтянул, рукава подвернул, голову промаслил квасом — масла не было.
На проулок стали собираться ребята, некоторых их отцы и матери провожали. Каждый своего». (У Васьки Морозова была мачеха, которая не любила его, и старшая сестра заменяла ему мать.)
«Шествие тронулось, и я позади всех, провождаемый своей сестрой. Через несколько минут мы стояли перед барским домом. Шушукаются ребята между собой. Родители учат; «Как выйдет «грах», надо поклониться и сказать: здравия желаю, васятельство».
Я стоял, как собачий объедок, чувствуя, что я хуже всех одет, даже и меньше всех ростом, беднее всех и сирота. Мне мерещилось: «Ну-ка меня прогонят. Опять мачеха будет изъедать. Опять сестра будет плакать. А как тут хорошо! Я... никогда не видал дома такого. Уж, какие окна-то большие, как наши ворота, с телегой проедешь! А кругом деревья, сады, и у крыльца песочком посыпано»... «На крыльце появился человек, «грах», наш учитель. Все обнажили головы и низко поклонились. Я с замираньем сердца ухватился за сестру, держась ее сзади, и стоял за ней, как за маленькой крепостью.
— Здравствуйте! Вы привели своих детей? — обратился Лев Николаевич к родителям.
— Так точно, васятельство, — отвечали старшие с поклоном...»2.
Но скоро страх у детей прошел. Толстой всех осмотрел, спросил, хотят ли они учиться, просил родителей привести и девочек. Очень скоро «васятельство», как родители учили называть «граха», заменилось простым обращением «Лев Николаевич», ученье пошло на лад и через три месяца дети уже свободно читали и писали. Вместо первоначально пришедших в школу 22 человек — собралось до 70, которых Толстой разделил на три класса: старший, средний и младший.
Несмотря на то, что Васька Морозов трясся больше всех при первом знакомстве со своим учителем, Толстой сразу приметил его, ласково ему улыбнулся, назвал его Васькой-котом: «мы будто как виделись когда-то с ним раньше»3 писал Василий Степанович в своих воспоминаниях, где он подчеркивает, что «любил школу, любил и Льва Николаевича... у нас была самая искренняя, детская привязанность к нему, и самая искренняя привязанность была и Льва Николаевича к нам. Это была община, но не принудительная, а община, соединенная связью любви»4.
В статье «Яснополянская школа» Толстой дает подробное описание своих занятий:
«Школа помещается в двухэтажном каменном доме». Это — так называемый флигель, который первоначально был точно такой же архитектуры, как дом, в котором Толстой жил до конца своей жизни. Но дом был со временем перестроен и переделан Толстым и его семьей, флигель же остался почти без изменений.
«Две комнаты заняты школой, одна — кабинетом, две — учителями. На крыльце, под навесом, висит колокольчик с привешенной за язычок веревочкой, в сенях внизу стоят бары и рек (гимнастика), наверху в сенях — верстак...».
«Часов в восемь учитель, живущий в школе, любитель внешнего порядка и администратор школы, посылает одного из мальчиков, которые почти всегда ночуют у него — звонить.
На деревне встают с огнем. Уже давно виднеются из школы огни в окнах, и через полчаса после звонка, в тумане, в дожде или в косых лучах осеннего солнца, появляются на буграх (деревня отделена от школы оврагом) темные фигурки по две, по три и по одиночке... Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего сделанного вчера он не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера. Он не думает о классе до тех пор, пока класс не начался. Никогда никому не делают выговоров за опаздывание, и никогда не опаздывают, — нешто старшие, которых отцы другой раз задержат дома какою-нибудь работой. И тогда этот большой рысью, запыхавшись, прибегает в школу...
...Учитель приходит в комнату, а на полу лежат и пищат ребята, кричащие: «Мала куча!» Или: «Задавили, ребята!»... сидящие с книгами кричат на них: «Что вы тут замешались? Ничего не слышно. Будет!» Увлеченные покоряются и, запыхавшись, берутся за книги... дух войны улетает, и дух чтения воцаряется в комнате. С тем же увлечением, с каким он драл за виски Митьку, он теперь читает... книгу, чуть не стиснув зубы, блестя глазенками и ничего не видя вокруг себя, кроме своей книги. Оторвать его от чтения столько же нужно усилия, сколько прежде от борьбы. Садятся они где кому вздумается: на лавках, столах, подоконнике, полу и кресле...»
Чем больше Толстой занимался с детьми, тем больше новых мыслей зарождалось в его голове, наблюдения порождали новые приемы, делались новые выводы.
«Школьники — люди, — писал он в той же «Яснополянской школе», — хотя и маленькие, но люди, имеющие те же потребности, какие и мы, и теми же путями мыслящие; они все хотят учиться, затем только ходят в школу, и потому им весьма легко будет дойти до заключения, что нужно подчиняться известным условиям для того, чтобы учиться. Мало того, что они люди — они общество людей, соединенное одной мыслью: «А где трое соберутся во имя Мое, и Я между ними!-. Подчиняясь законам только естественным, вытекающим из их природы, они возмущаются и ропщут, подчиняясь вашему преждевременному вмешательству, они не верят в законность ваших звонков, росписаний и правил. Сколько раз мне случалось видеть, как ребята подерутся — учитель бросается разнимать их, и разведенные враги косятся друг на друга и даже при грозном учителе не удержатся, чтобы еще больнее, чем прежде, напоследках, не толкнуть один другого. Сколько раз я каждый день вижу, как какой-нибудь Кирюшка, стиснув зубы, налетит на Тараску, зацепит его за виски, валит на землю и, кажется, хочет жив не остаться — изуродовать врага, а не пройдет минуты, Тараска уж смеется из-под Кирюшки, один — раз за разом — все легче и легче отплачивает другому, и не пройдет пяти минут, как оба делаются друзьями и идут садиться рядом».
Но Толстой не мог остановиться в деле образования только на одной своей школе. Блестящие результаты, которых он достиг, возбудили в нем мысли о распространении народного образования во всей России и он написал брату министра народного просвещения Ковалевскому, с которым он был хорошо знаком, запрашивая его о том, как отнесся бы его брат-министр к созданию Общества Народного Образования.
«Не только нам, русским, но каждому иностранцу, проехавшему 20 верст по русской земле, — писал он в этом письме, — должна в глаза кинуться численная
непропорциональность образованных и необразованных или, вернее, диких и грамотных. А нечего и говорить, ежели сравнить отчеты разных европейских государств... Общественное зло, которое у нас в привычку вошло сознавать и называть разными именами, большею частью — насилием, деспотизмом, что это такое, как не насилие преобладающего невежества. Насилие не может быть сделано одним человеком над многими, а только преобладающим большинством, единомышленным в невежестве».
По мнению Толстого дело народного образования могло быть создано только по частной, общественной инициативе.
«...Насущнейшая потребность русского народа есть народное образование, — пишет он дальше в письме к Ковалевскому. — Образования этого нет. Оно еще не начиналось и никогда не начнется, ежели правительство будет заведывать им... Чтобы доказать, что оно не начиналось, мы бы... прошли в школу, и я бы вам показал грамотных, учившихся прежде у попов и дьяконов. Это одни ученики, которые совершенно безнадежны. Над спорами: полезна ли грамота или нет, не следует смеяться. Это очень серьезный и грустный спор, и я прямо беру сторону отрицательную. Грамота, процесс чтения и писания, вредны. Первое, что он читает — славянский символ веры, псалтырь, заповеди (славянские), второе-гадательную книгу и т. п. Не проверив на деле, трудно себе представить ужасные опустошения, которые это производит в умственных способностях, и разрушения в нравственном складе учеников. Надо побывать в сельских школах и в семинариях (я исследовал это дело), в семинариях, которые доставляют педагогов в училища от правительства, чтобы понять, отчего ученики этих школ выходят глупее и безнравственнее неучеников. Чтобы народное образование пошло, нужно, чтобы оно было передано в руки общества».
И Толстой предложил следующую программу по народному образованию:
«Действия Общества будут состоять:
1) В издании журнала, состоящего из отдела собственно педагогического (о законах и способах первоначального преподавания), отдела первоначальных руководств для учителей и чтений для учеников, и отдела сведений о действиях Общества.
2) В учреждении школ в тех местах, где их нет, и где чувствуется в них потребность.
3) В составлении курса преподавания, в назначении учителей, в надзоре за преподаванием, за хозяйственным учетом, вообще за управлением таких школ.
4) В надзоре за преподаванием в тех школах, где учредители того пожелают».
В этом письме Толстой предусматривал вопрос о том, на какие средства возможно создать такое Общество: из членских взносов, платы за учение, изданий, добровольных пожертвований.
Но Толстой слишком хорошо знал косность правительства и мало надеялся на разрешение Общества Народного Образования. Свое письмо Ковалевскому он закончил нотой пессимизма:
«...Как подумаешь, — пишет он, — отчаяние находит. И чего может бояться правительство? Разве можно в свободной школе учить тому, чего не следует знать. У меня бы ни одного человека не было в школе, ежели бы я заикнулся о том, что мощи не есть такая же святыня, как Сам Бог. Но это не мешает им знать, что земля — шар и что 2x2=4. Ну, что будет, то будет; только поскорее, как можно поскорее, известите меня».
По письмам к его приятелям видно, как новое дело педагогики захватило Толстого.
«Теперь же как писатель я уже ни на что не годен. Я не пишу и не писал со времени «Семейного Счастья» и, кажется, не буду писать. Льщу себя, по крайней мере, этой надеждой... Жизнь коротка и тратить ее в взрослых летах на писание таких повестей, какие я писал — совестно. Можно и должно и хочется заниматься делом. Добро бы было содержание такое, которое томило бы, просилось наружу, давало бы дерзость, гордость и силу, — тогда бы так. А писать повести очень милые и приятные для чтения в 31 год ей-Богу руки не поднимаются!» — писал он Дружинину 9 октября 1859 г.
«Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить», — пишет он Фету.
Первое время он так увлекся своим новым делом, что совместить его с писательством он не мог. Оно поглотило его целиком. 15 февраля 1860 г. он писал И. П. Борисову: «Я доживаю зиму хорошо. Занятий пропасть и занятия хорошие, не то, что писать повести».
Но друзья Толстого не разделяли его мнения и многие из них не сочувствовали его увлечению, считая, что зарывшись в деревне со своими ребятами и забросив литературу, — он губит себя. В ответ на одно из таких увещаний своего приятеля, юриста Б. Н. Чичерина, Толстой пишет: «...не скажу нужно работать, а нельзя не работать ту работу, которой плоды в состоянии видеть настолько вперед, чтобы вполне отдаваться работе. Кто пахать землю, кто учить молодежь быть честной и т. д. Самообольщение же так называемых художников, которые ты, льщу себя надеждой, допускаешь только из дружбы к приятелю (не понимая его), обольщение это для того, кто ему поддается, есть мерзейшая подлость и ложь. Всю жизнь ничего не делать и эксплуатировать труд и лучшие блага чужие (курсив мой. — А. Т.) за то, чтобы потом воспроизвести их — скверно, ничтожно, может быть, есть уродство и пакость... Что же я делаю? спросишь ты. — Ничего особенного, выдуманного, делаю дело, которое мне так же естественно, как дышать воздухом, и вместе такое, с высоты которого, признаюсь, я часто с преступной гордостью люблю смотреть на vous auires*. Ты полюбишь и поймешь это дело, но рассказать его нельзя, а приезжай, окончив свои странствования, в Ясную Поляну, и скажи тогда по правде, не позавидуешь ли мне, увидя то, что я сделал, и то спокойствие, с которым я делаю».
Никогда прежде Толстой так близко не подходил к крестьянской среде. Возможно, что его близость с Аксиньей Базыкиной была одной из косвенных причин его увлечения крестьянством. Чувство его к Аксинье то охладевало, то разгоралось с необычайной силой, но это не было случайной, мимолетной связью — Толстой несомненно был к ней привязан.
Но главным его увлечением были все эти заморенные, недокормленные Васьки, Игнатки, Данилки в домотканных рубашонках, лаптях, с закорузлыми от работы ручонками. В то время как Толстой открывал им новые горизонты, новые радости знания и интересов в жизни, он тут же сам для себя находил новые, скрытые в них сокровища. Его поражали блестящие способности, ум, чуткость, легкость, с которой они воспринимали те знания, которые он давал им.
Окунувшись в эту среду, Толстой уже не теоретически, а всей душой
* Вас остальных (фр.).
почувствовал все зло крепостного права, неравенство, несправедливость всего существующего строя.
Почему могли помещики пользоваться трудом крестьянства? Что они сделали для этого народа? Что делали для народа ученые, писатели, журналисты, и почему русское многомиллионное крестьянство должно было, живя в рабстве, в нищете, в невежестве, кормить и поить всех этих бесполезных людей в то время, как они могли «всю жизнь ничего не делать и эксплуатировать труд и лучшие блага чужие»? (Курсив мой. — А. Т.)
Так в увлечении своем, думал Толстой.
Мысль зажглась, она никогда не потухала... Но Толстой должен был еще перекипеть в бурном котле жизни: испытать любовь, семейное счастье, достигнуть апогея славы, для того чтобы мысли, вызванные в нем общением с крестьянскими детьми, разгорелись ярким пламенем 20 лет спустя и претворились бы в глубокое убеждение, изменившее всю его жизнь.
По обыкновению, дети засиделись в школе. Решали вместе с Львом Николаевичем трудную задачу. А когда решили, Толстой-учитель вдруг объявил ученикам: «Я завтра уезжаю, — а вы, как ходили учиться, так и ходите. С вами будут заниматься учителя».
Дети опечалились:
— Лев Николаевич, а надолго ты уедешь?
— Я скоро вернусь.
— А как скоро?
— Ну, недели две пробуду.
— А далеко ты едешь?
— В чужую землю.
— Мы не станем ходить учиться. Без тебя ученье не в ученье, — говорили ребята.
«Нам казалось, — писал Морозов в своих воспоминаниях, — что две недели очень долго. Ведь мы, если хоть на один час с ним разлучались, то чувствовали, будто целый день его не видели. Если бы он сказал, что уезжает на месяцы, то я не знаю, что с нами было бы. Вся наша школа, вероятно, распалась бы.
...Он уехал, и без него мы остались как сироты. Придешь в школу — пахнет пустошью, — ни игр. ни шуток, и ученье в голову не лезет, все равно, как будто мы похоронили его. Прошла неделя, как уехал Лев Николаевич, прошла другая, а Льва Николаевича все нет и нет. И долго, долго он не приезжал, — не упомню, сколько месяцев, но нам казалось вечность»1.
Ребята не знали, какое горе ожидало их дорогого учителя, и почему ему надо было срочно ехать в чужие края.
«...Весна, и все бы хорошо, — писал он Дружинину от 14 апреля I860 года, — а тут страшное горе собирается над нашей головой. Вы знаете, что один мой брат умер от чахотки, в нынешнем году у брата Николая все те же симптомы и усиливаются со страшной быстротой».
1 июля (1860 г.) Толстой, вместе со своей сестрой Марией Николаевной и ее детьми, уехал в Петербург и оттуда, на пароходе, в Штеттин. Брат Николай, вместе с Сергеем, были уже за границей.
Николай Николаевич давно уже был нездоров, худел, кашлял. Но, вероятно по скромности своей, никогда не жаловался, не обращал на себя внимания и
только когда симптомы болезни сделались уже слишком очевидны, близкие обратили серьезное внимание на его здоровье.
На Кавказе, где, по обычаю, вино лилось рекой и где, в два приема, Николай провел 12 лет, служа на Терской линии, он привык пить.
Фет пишет про него в своих воспоминаниях:
«К сожалению, этот замечательный человек, про которого мало сказать, что все знакомые его любили, а следует сказать — обожали, приобрел на Кавказе столь обычную в то время между тамошними военными привычку к горячим напиткам. Хотя я впоследствии коротко знал Николая Толстого и бывал с ним в отъезжем поле на охоте, где, конечно, ему сподручнее было выпить, чем на каком-либо вечере, тем не менее, в течение трехлетнего знакомства, я ни разу не замечал в Николае Толстом даже тени опьянения. Сядет он, бывало, на кресло придвинутое к столу, и понемножку прихлебывает чай, приправленный коньяком»2.
Не только Фет, но и И. С. Тургенев ценил Николая Толстого « сердечно был к нему привязан. Не было в нем того горячего задора, желания оспаривать чужие мнения, как в его младшем брате, которые так раздражали Тургенева. «То смирение перед жизнью, — говорил нам Иван Сергеевич (Тургенев), — которое Лев Толстой развивал теоретически, брат его применил непосредственно к своему существованию. Он жил всегда в самой невозможной квартире, чуть не в лачуге, где-нибудь в отдаленном квартале Москвы, и охотно делился всем с последним бедняком. Это был восхитительный собеседник и рассказчик, но писать было для него почти физически невозможно. Его затруднял сам процесс письма, как затрудняет простого человека, у которого всегда натружены руки и перо плохо держится в пальцах»3.
В своем имении Чернского уезда (Тульской губ.) Николай Толстой живал только временно. Он жил то в Москве, то по очереди у сестры и братьев Сергея и Льва. Никольское-Вяземское было родовое имение Толстых, переходившее всегда по наследству старшему в роде. Флигель, в котором жил Николай, стоял на горе, откуда открывался великолепный вид на реку, на заливные луга, перелески и поля. Имения Фета и Тургенева были по соседству, и они часто, то верхом, то в колясках, запряженных тройками, посещали друг друга. Соседи радовались, когда видели приближающуюся, скосившуюся от времени, желто-лимонную коляску Николая Николаевича, запряженную тройкой серых лошадей. Над коляской этой все издевались. От старости левые колеса ее настолько подались влево, что далеко выступали вбок, в то время как правые ее колеса ушли под самый кузов. Но, несмотря на это, коляска была прочная, не ломалась и продолжала бегать по изрытым колеями проселочным дорогам, то ныряя ранней весной в рытвины, полные водой, то увязая по ступицы в глубоком черноземе. За ее необыкновенную выносливость и несокрушимость, коляску эту, Фет прозвал «эмблемой бессмертия души», и прозвище это так за ней и осталось.
В своих воспоминаниях Фет описывает, как они с Тургеневым посетили Николая Толстого в его Никольском-Вяземском:
«Слуга графа ввел нас... в довольно просторную комнату в два света. Кругом вдоль стен тянулись ситцевые, турецкие диваны в перемежку с старинными стульями и креслами. Перед диваном, направо от входа, стоял стол, а над диваном торчали оленьи и лосьи рога с развешенными на них восточными черкесскими
ружьями... В переднем углу находился громадный образ Спасителя в серебряной ризе.
Из следующей комнаты вышел к нам милый хозяин со своей добродушно-приветливой улыбкой. — Какой день-то чудесный, — сказал он. — Я только что пришел из сада и заслушивался щебетания птичек. Точно шумный, разноплеменный карнавал, и не понимают друг друга, а всем весело. Каждому свое. Вот Левочка юфанствует, а я с удовольствием читаю Рабле»4.
Во время приездов Николая Николаевича в свой Никольский флигель, — рассказывает далее Фет в своих воспоминаниях, — сонные, голодные мухи, прилипшие к стеклам и стенам, оживали, жужжали, клубясь над едой, попадали в рюмки с водкой, в тарелки с супом. «Про это Лев Николаевич... говорил: «когда брата нет дома, во флигель не приносят ничего съестного, и мухи, покорные судьбе, безмолвно усаживаются по стенам, но едва он вернется, как самые энергические понемногу начинают заговаривать с соседками: «вон он, вон он пришел, сейчас подойдет к шкафу и будет водку пить; сейчас принесут хлебца и закуски... подымайтесь дружжжжж-нее»5.
Примитивная обстановка, отсутствие серебра, мухи, все это не мешало приятелям весело проводить время, Николай Толстой, иронически-ласково улыбаясь, шутил, сыпались каламбуры, шутки, смех.,.
Узнав о болезни Николая Толстого, все друзья его забеспокоились. Тургенев написал Фету из Содена (1 июня 1860 г.): «...То, что Вы сообщили мне о болезни Николая Толстого, глубоко меня огорчило. Неужели этот драгоценный, милый человек должен погибнуть! И как можно было запустить так болезнь...». И в том же письме, в постскриптуме, он пишет: «Если Николай Толстой не уехал, бросьтесь ему в ноги, а потом гоните его в шею за границу. Здесь... такой мягкий воздух, какого в России никогда и нигде не бывает»6.
В письме к тетеньке Татьяне Александровне из Киссингена, куда он приехал с сестрой и ее детьми, Лев пишет: «Мы имели письмо от братьев, в котором Николинька пишет, что ему Соден, кажется, помог».
По-видимому, сам Николай Толстой не сознавал, насколько он болен. В письме к Дьякову от 19 июля нового стиля он писал: «Здоровье мое поправилось, но не совсем»... .
Вряд ли брат Сергей мог бы проигрываться в рулетку, а Лев мог бы беззаботно путешествовать по Германии, посещая школы, лекции в Берлинском университете, тюрьмы, совершать прогулки, если бы они верили в скорую кончину брата Николая. Только после приезда Сергея к нему в Соден с известием, что болезнь брата Николая внушает ему очень серьезные опасения, Лев поехал к Николаю и отвез его на юг Франции, в Гиеэр. Но было уже поздно. 20 сентября (по новому стилю) Николай Николаевич скончался.
«Черная печать вам все скажет, — писал он тетеньке Татьяне Александровне. — То, чего я ждал две недели с часу на час, случилось нынче в 9 часов вечера... Все время он был в памяти... только за несколько минут до смерти он прошептал несколько раз: «Боже мой, Боже мой!». Мне кажется, что он чувствовал свое положение, но обманывал нас и себя».
Брату Сергею он писал: «Мне жалко тебя, что ты не был тут. Как это ни тяжело, мне хорошо, что все это было при мне, и что это подействовало на меня, как должно было. Не так, как смерть Митеньки... Он покорился и стал другой; кроткий, добрый; этот день не стонал, ни про кого не говорил, всех хвалил и мне говорил: «благодарствуй, мой другу. Понимаешь, что это значит в наших отношениях... Мне жалко тебя, что тебя известие это застанет на охоте в рассеянности и не прохватит так, как нас. Это здорово. Я чувствую теперь то, что слыхал часто, что как потеряешь такого человека, как он для нас, так много легче самому становится думать о смерти».
«Николенькина смерть — самое сильное впечатление в моей жизни», — записал Толстой в дневнике 1860 года.
Теплым, мягким светом озарил этот скромный, благородный, талантливый человек одинокую жизнь своего младшего брата, в душе которого навсегда сохранились любовь и уважение к Николаю. На протяжении всей своей жизни Лев Толстой часто вспоминал своего брата, прикасаясь к памяти его, как к чему-то высшему, светлому. «Он был умнее и талантливее меня, — говорил он, — но по великой скромности своей, смирению, никогда не умел этого выказать»*.
Так сильно было это чувство к брату, что оно передалось и всей семье Толстого.
Когда гости и посетители Ясной Поляны, указывая на бюст Николая Толстого, всегда занимавшего почетное место в гостиной, спрашивали, кто этот худой, бритый человек с такими благородными, тонкими чертами лица, близкие и члены семьи Толстого отвечали:
«Это старший, любимый брат Льва Толстого. Удивительный был человек!».
Толстой не желал, как он писал брату Сергею, чтобы в России ему могли «указывать по педагогии на чужие края», и что он «хочет быть на уровне всего, что сделано по этой части». Он стал добросовестно изучать методы преподавания в Европе, не только в
* Личные воспоминания А. Л. Толстой.
начальных и средних школах, но и в университетах. Он слушал лекции в Берлине, беседовал с пасторами, со светилами педагогики и рядовыми учителями, побывал в Германии, Швейцарии, Франции, Англии, Италии, Бельгии, интересовался школами Америки. Иногда в дневнике мы находим коротенькие его заметки и впечатления о заграничных школах.
«Ужасно, — писал он про немецкую школу в Киссингене. — Молитва за короля, побои, все наизусть, испуганные, изуродованные дети».
Толстой искал в заграничных школах подтверждения той теории, которая все более и более становилась его убеждением. Образование должно быть потребностью, как насущный хлеб. Заставлять учиться — нельзя, надо, отвечая на запросы, давать знания в такой форме, чтобы каждый ученик схватывал их с жадностью. Но везде ею ждало разочарование.
«... Видел еще я в Марселе одну светскую и одну монашескую школу для взрослых... Преподавание то же самое: механическое чтение, которого достигают в год и более, счетоводство без знания арифметики, духовные поучения и т. п.»
В доказательство своей теории, что человек легко приобретает знания, если в обучении его нет элемента принуждения, он пишет далее в той же статье: «...Стоит войти в сношение, поговорить с кем-нибудь из простолюдинов, чтобы убедиться, что напротив, французский народ почти такой, каким он сам себя считает: понятливый, умный, общежительный, вольнодумный и действительно цивилизованный. Посмотрите городского работника лет тридцати: он уже напишет письмо не с такими ошибками, как в школе, иногда совершенно правильное; он имеет понятие о политике, следовательно о новейшей истории и географии; он знает уже несколько историю из романов; он имеет несколько сведений из естественных наук; он очень часто рисует и прилагает математические формулы к своему ремеслу. Где же он приобрел все это?» Из книг, на улицах, из газет, в музеях, — отвечает на этот вопрос Толстой.
«Хорошо или дурно это образование? — это другое дело; — пишет далее Толстой, — но вот оно — бессознательное образование, во сколько раз сильнейшее принудительного, вот она, бессознательная школа, подкопавшаяся под принудительную школу и сделавшая содержание ее почти ничем. Осталась только одна деспотическая форма почти без содержания. Я говорю: почти — исключая одно механическое уменье складывать буквы и выводить слова, единственное знание, приобретаемое пяти или шестилетним учением».
Толстой был убежден, что механическое заучиванье — было вредно, и что неправильные приемы — портили детей.
В разговоре с племянником знаменитого педагога Фребеля — социалистом-революционером — Толстой поразил Фребеля утверждением, что «русский народ еще не испорчен, тогда как немцы походят на ребенка, который в продолжение нескольких лет подвергался неправильному воспитанию; и о том, что образование не должно быть обязательным, а если оно — благо, то потребность в нем должна возникать сама собою, как потребность в пище»1.
Легко себе представить ужас «цивилизованных европейцев», гордящихся своей «культурой» и убежденных западников, когда они слышали такое мнение Толстого!
Еще более резкое суждение мы находим в письме Толстого к «Неизвестному»: «... Страшно самому себе дать отчет в том убеждении, к которому я приведен всем виденным... Heraus damit. Вот оно. Только мы, русские варвары, не знаем,
колеблемся и ищем разрешения вопросов о будущности человека и лучших путях образования, в Европе же эти вопросы решенные, — писал не без иронии Толстой, — и, что замечательнее всего, разрешенные на 1000 различных ладов. В Европе знают не только законы будущего развития человека, знают пути, по которым оно пойдет, знают... в чем должно состоять высшее гармоническое развитие человека и как оно достигается. Знают, какая наука и какое искусство более или менее полезны для известного субъекта. Мало того, как сложное вещество разложили душу человека на — память, ум, чувства и т. д., и знают сколько какого упражнения для какой части нужно. Знают, какая поэзия лучше всех. Мало того, верят и знают, какая вера самая лучшая. — Все у них предусмотрено, на развитие человеческой природы во все стороны поставлены готовые, неизменные формы. И это совсем не шутка, не парадокс, не ирония, а факт, в котором нельзя не убедиться человеку свободному, с целью поучения наблюдающему школы одну за другою, как я это делал, хоть бы в одной Германии...»
Самоуверенность, полное довольство собой и своими достижениями для Толстого было всегда непереносимо, оно как бы захлопывало дверцу для дальнейшего совершенствования, продвижения вперед.
«...В протестантской школе вы находите, что учитель имеет предписание не только насчет той последовательности предметов, которую он должен принять, числа часов, которые он должен посвятить молитве, каждому предмету и каждому упражнению, но вы видите, что даже те руководства, т. е. приемы, которые он может употреблять, определены и назначены вперед... вы находите недостатки (так вам кажется) и в самом преподавании и в последовательности его... Вы обращаетесь к учащимся, чтобы подтвердить свои сомнения, и хотите проследить за процессом воспринимания этого преподавания. Но здесь вам трудно понять сразу эти результаты. Организация школы такова, что результаты учения скрыты от учителя. Сто, двести мальчиков в известный час входят, совершают молитву, садятся по лавкам и все двести начинают делать одно и то же. Мальчик не только не может выразить в школе того, что ему понятно или непонятно, приятно или неприятно то или другое... или что ему хочется. Все разнообразие его мысли во время класса подведено к выражениям «могу» — «хочу», которые он передает поднятием руки.
«... Все, что вы видите, это скучающие лица детей, насильно вогнанных в училище, нетерпеливо ожидающих звонка и вместе с тем со страхом ожидающих вопроса учителя, делаемого для того, чтобы против воли принуждать детей следить за преподаванием. Здесь ничего не подтверждает, не разрушает ваши сомнения. Вы прибегаете к другому способу — вопросов и задач математических и сочинений. Но ежели вы при этом поручите ведение вопросов учителю, то результаты ваши будут 0».
«Излишне доказывать, что школа, в которой учатся три года тому, чему можно выучиться в три месяца, есть школа праздности и лени. Ребенок, неподвижно обязанньш сидеть шесть часов за книгой, выучивая в цельш день то, что он может выучить в полчаса, искусственно приучается к самой полной и зловредной праздности».
Раскритиковав начальные и средние учебные заведения в Европе, Толстой переходит к жесточайшей критике университетов.
«В университете... редко кого увидишь с здоровым и свежим лицом, и ни
одного не увидишь, который бы с уважением, хотя бы с неуважением, но спокойно смотрел на ту среду, из которой он вышел и в которой ему придется жить; он смотрит на нее с презрением, отвращением и высокомерным сожалением. Так он смотрит на людей своей среды, на своих родных, так же смотрит и на ту деятельность, которая предстояла бы ему по общественному положению. Только три карьеры исключительно представляются ему в золотом сиянии: ученый, литератор и чиновник.
Из предметов преподавания нет ни одного, который бы был приложим к жизни, и преподают их точно так же, как заучивают псалтырь... Я исключаю только предметы опытные, как-то: химию, физиологию, анатомию, даже астрономию, в которых заставляют работать студентов; все остальные предметы, как-то: философия, история, право, филология, учатся наизусть, только с целью отвечать на экзамене, какие бы ни были экзамены — переходные или выпускные, это все равно».
Не те же ли мысли приходили в голову Толстому, когда он 19-летним юношей оставил университет? Он тогда сам тяготился необходимостью изучения совершенно неинтересных и ненужных ему предметов, в то время как он был лишен возможности заниматься тем, что его действительно интересовало, и чему он мог найти применение в будущем.
Толстой заинтересовался и американскими школами. Тут же, из-за границы, он написал министру народного просвещения Е. П. Ковалевскому, что он выписал для себя на его имя из Северо-Американских Соединенных Штатов программы, педагогические издания и руководства. Позднее, некоторые мысли, выраженные Толстым в 1862 году, в большой степени нашли применение в американских университетах и даже в их средних учебных заведениях. Но в то время Толстого поразила самая система распространения народного образования. В своем «Проек-
те общего плана устройства народных училищ» Толстой пишет: «Успех Америки произошел только от того, что школы ее развивались сообразно времени и среде. Точно так же, казалось бы мне, должна поступить и Россия; я твердо убежден, что для того, чтобы русская система народного образования не была хуже других систем (а она по всем условиям времени должна быть лучше), она должна быть своя и непохожая ни на какую другую систему.
Закон о налоге на школы составлен в Америке самим народом. Ежели не весь народ, то большинство было убеждено в необходимости предложенной системы образования и имело полное доверие к правительству, которому оно поручало устройство школ. Ежели налог и казался насильственным, то только для незначительного меньшинства.
Как известно, Америка единственное в мире государство, не имеющее крестьянского сословия не только de jure, но и de facto*, вследствие чего в Америке не могло существовать того различия в образовании и взгляде на него, которое существует у нас между крестьянским и не крестьянским сословием. Америка кроме того, устраивая свою систему, я полагаю, была убеждена, что у нее есть самый существенный элемент для устройства школ — учителя... Ежели Америка, начав свои школы после европейских государств, более успела в народном образовании, чем Европа, то из этого только следует, что она исполнила свое историческое призвание, и что Россия в свою очередь должна исполнить свое. Россия, перенеся на свою почву американскую, обязательную (посредством налога) систему, поступила бы так же ошибочно, как ошибочно поступила бы Америка при начале своих школ, усвоив себе германскую или английскую систему».
Девять с лишним месяцев пробыл Толстой за границей. Общался с рабочими-ремесленниками, с крестьянами, со многими выдающимися людьми того времени. Многому он научился, но, наблюдая, часто строил свои противоположные выводы на отрицании того, что видел.
«Что прошло в эти четыре месяца? — задает он себе вопрос в дневнике от 13 апреля 1861 г., — трудно записать теперь. Италия, Ницца, Флоренция, Ливорно... Неаполь. Первое живое впечатление природы и древности — Рим — возвращение к искусству — Гиер — Париж — сближение с Тургеневым — Лондон — ничего — отвращение к цивилизации. Брюссель — кроткое чувство семейности... Эйзенах — дорога — мысли о Боге и бессмертии. Бог восстановлен — надежда в бессмертие...»
Острота горестного ропота, которую он испытал после смерти брата, постепенно улеглась, его постоянный, неугасаемый интерес к его детищу, школьной деятельности, и всему, что было связано с ней, помогли ему. По-прежнему он искал людей, могущих разделить непрестанно загорающиеся в нем мысли — но их было не много. Большинство шарахалось от тех дерзновенно-революционных мыслей, нравственно-философских взглядов на воспитание, на жизнь, которые Толстой не стеснялся высказывать.
В Лондоне Толстой познакомился с Герценом. Толстой давно интересовался этим революционером-писателем, высланным из пределов России за свою революционную деятельность. В дневнике от 23 июля Толстой сделал о нем следующую заметку: «Разметавшийся ум, больное самолюбие. Но ширина, ловкость и доброта, изящество — русские». В начале знакомства даже Герцен, несмотря на всю широту
* Не только по закону, но и на деле (лат.).
своих взглядов, внутренне отшатнулся от Толстого. Вероятно Тургенев вполне разделял взгляды Герцена, который писал ему: «Толстой — короткий знакомый; мы уже и спорили; он упорен и говорит чушь, но простодушный и хороший человек... Только зачем он не думает, а все, как под Севастополем, берет храбростью, натиском»2.
Через Герцена Толстой познакомился с видными революционерами — знаменитым ученым экономистом Прудоном и с польским революционером Лелевелем. Смелость, независимость взглядов этих людей произвели на него впечатление, ему было интересно с ними, но... они служили иным идеалам и не затрагивали души Толстого.
Однако, в Дрездене Толстой встретил человека, взгляды которого были настолько ему близки, что он испытал состояние человека, томившегося жаждой духовного общения, отыскавшего вдруг источник живой воды...
Толстой прочел повесть Ауэрбаха «Новая жизнь» и нашел в ней мысли о народе, народном образовании, настолько совпадающие с его собственными, что они могли бы быть изложены им самим.
«Ты сам — лучший учитель. Создай сам, с помощью детей, свою методу, и все пойдет отлично. Всякая абстрактная метода — нелепа. Самое лучшее, что может сделать учитель в школе, зависит от него лично, от его собственных способностей»3, — писал Ауэрбах.
«Легко сказать — мир должен сделаться лучше. Это верно. Но прежде всего должны все мы сделаться лучше, — читаем мы дальше. — Должно быть введено воспитание, которое сделает ненужными тюрьмы и исправительные дома, которое сделает ненужными принудительные законы, когда каждый необходимо будет находить закон сам в себе, когда каждый будет жить сообразно с этим законом так же естественно, как он дышит!»4
В этой повести Ауэрбах описывает аристократа-графа, который под чужой фамилией Евгения Баумана, уходит в глухую деревню, посвящает себя служению народу и делается народным учителем.
«Ауэрбах!!!!!!!!!!!!!!! — восклицает Толстой в своем дневнике. — Прелестнейший человек...»
Свидание Толстого с Ауэрбахом оставило в Толстом надолго радостное и глубокое впечатление. Вернувшись в Россию, Толстой говорил о нем с Некрасовым, прося напечатать перевод его повести.
Засиживаться за границей Толстой не мог. «Сгораю от нетерпения вернуться в Россию, — писал он тетеньке Татьяне Александровне (из Дрездена 18 апреля 1861 г.), — ...я всячески стараюсь как можно больше воспользоваться моим путешествием. И, кажется, мне это удалось. Я везу с собой столько впечатлений и столько знаний, что мне придется долго работать, чтобы уместить все это в порядке в голове».
Много умных и знаменитых людей перевидал Толстой за границей, но все, что он там приобрел. Толстой складывал в копилку только для того, чтобы применить это на деле, по приезде на родину, среди босоногих своих друзей, «Тарасок и Марфуток», среди того народа, в жизнь которого он окунулся, с которым он точно кровно был теперь связан, как с родными, которых родила и вскормила родная ему русская, тульская земля.
Если бы он не думал о них, не продолжал жить их интересами, как мог бы он за границей сделать первый набросок одного из лучших своих рассказов — «Поликушка»?
Как мог бы он уже здесь, за границей, набросать программу и статьи для проектируемого им педагогического журнала «Сельский учитель»?
19 февраля 1861 года в России совершилось великое событие, всколыхнувшее всю страну: был издан манифест об освобождении крестьян, подписанный императором Александром II, заканчивавшийся следующими словами: «Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами Божие благословле-ние на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного».
Для Толстого открывалось новое, большое поле деятельности, к которому он был совершенно неприспособлен, но от которого он не мог отказаться — деятельность мирового посредника.
Разные были помещики на Руси. Были более культурные, старавшиеся и при крепостном праве улучшить быт своих крестьян, справедливые к своим дворовым слугам, заботившиеся о них. Такие помещики радовались освобождению крестьян от крепостного права и содействовали проведению этого закона. Другие боялись разорения, протестовали против наделения крестьян хорошей землей и старались всячески, в ущерб крестьянам, соблюсти свои выгоды. Были и такие, которые ничего не понимали, кроме того, что правительство глубоко их обидело, отняв у них рабов, трудами которых они пользовались, и недоумевали, на каком основании они вдруг лишились права продавать своих людей, наказывать провинившегося кучера, повара, казачка, высечь их на конюшне, или наказать дворовую девку за то, что она непочтительно обращалась с барыниной собачкой, или за то, что девка эта посмела присниться барыне.
При проведении реформы возникали недоразумения, судебные тяжбы. Для выяснения всех этих дел правительство назначило особых лиц — мировых посредников, которые должны были разбирать спорные вопросы, возникавшие между помещиками и крестьянами.
Толстой был назначен мировым посредником 1-го участка Крапивенского уезда Тульской губернии. Назначение его вызвало взрыв недовольства со стороны губернского и уездного предводителей дворянства и многих помещиков. У Толстого была репутация свободомыслящего, резкого, прямолинейного человека и многие тульские помещики боялись и не любили его. Основанная Толстым школа на новых, свободных началах, еще больше подтверждала это мнение. И не успел Толстой начать свою деятельность, как со всех сторон посыпались на него жалобы.
«Зная несочувствие к нему (Толстому) крапивенского дворянства, — писал губернский предводитель министру внутренних дел Валуеву, — за распоряжение его в своем собственном хозяйстве, г. предводитель (уездный) опасается, чтобы при вступлении графа в эту должность не встретились какие-либо неприятные столкновения, могущие повредить мирному устройству столь важного дела»1.
Как с формальной точки зрения, так и по существу дела, предводитель дворянства считал, что губернатор Дараган, назначив Толстого мировым посредником, поступил неправильно. Получив такое донесение, министр немедленно же запросил губернатора, прося разъяснения. Губернатор ответил министру следующим письмом:
«Зная лично графа Толстого, как человека образованного и горячо сочувству-
ющего настоящему делу, и приняв в соображение изъявленное мне некоторыми помещиками Крапивенского уезда желание иметь графа Толстого посредником, я не мог заменить его другим, мне неизвестным лицом, — тем более, что граф Толстой был указан мне и предместником вашего высокопревосходительства в числе некоторых других лиц, пользующихся лучшей известностью» .
Несмотря на всю эту конфиденциальную переписку, назначение Толстого в конце концов было утверждено Сенатом.
Мировым посредникам приходилось решать самые разнообразные дела: то крестьянский скот потравил помещичьи луга и помещик требовал слишком большого выкупа, то крестьяне требовали, чтобы им прирезали не принадлежащую им землю, то помещики отказывались отпускать своих людей на волю.
На одну из таких жалоб помещицы Толстой писал: «Марк (бывший крепостной) немедленно, по моему приказанию, уйдет с женой куда ему угодно. Вас же я покорнейше прошу: 1) удовлетворить его за прослуженные у вас противозаконно со времени объявления положения три месяца с половиной и 2) за побои, нанесенные его жене еще более противозаконно. Ежели вам не нравится мое решение, то вы имеете право жаловаться на мировой съезд и в губернское присутствие».
Легко себе представить возмущение и негодование этой самодурки-крепостницы, привыкшей к полной власти над своими людьми. По всей вероятности о манифесте она имела лишь смутное представление и такое несправедливое решение она приписала не закону, изданному самим царем-батюшкой, а несправедливости и вольнодумству мирового посредника, графа Толстого, не постеснявшегося обидеть бедную, беззащитную дворянку.
Недовольных было много. Не говоря уже о том, что сама по себе реформа требовала большого такта со стороны правительства по отношению к обеим
сторонам, но ни помещики, ни крестьяне не представляли себе ясно своих прав и обязанностей, Толстому же было особенно трудно потому, что эта работа была противна самому его существу. Приходилось судить людей, принимать твердые решения, постоянно отказывать, что было ему всегда особенно трудно. Но он не мог не взять на себя этой тяжелой обязанности, сознавая всю важность реформы, в осуществление которой он сам вложил не мало труда. Своих крестьян он наделил самым большим наделом земли, назначив за нее небольшой выкуп в 4 рубля за десятину.
«Посредничество... поссорило меня со всеми помещиками окончательно и расстроило здоровье, кажется, тоже окончательно», — писал Толстой в дневнике 25 июня 1861 года.
В том же письме Толстой пишет: «Посредничество интересно и увлекательно, но нехорошо то, что все дворянство возненавидело меня всеми силами души и суют мне des batons dans les roues* со всех сторон».
Но несмотря на всю свою чуткость, могла ли фрейлина Ее Величества, сидя при дворе, вдали от всей этой провинциальной жизни, переплетенной кознями, интригами, судебными тяжбами, понять всю сложность работы возникавшей у ее друга в связи с его новой деятельностью?
«Меня ужасно беспокоит мысль, — пишет она Толстому 22 августа 1861 г., — что вас не любят... Я уверена, что вас отдаляет от большинства помещиков громадная разница во взглядах. Но нет ли тут и вашей вины? Дух примирения — великая и полная человеколюбия мудрость. Скажите, ошибаюсь ли я, обвиняя вас в том, что вы принимаете воинственную позу относительно равных вам, между тем как перед другими вы готовы стоять чуть ли не на коленях? И тут любовь к ближнему без различия сословий могла бы уладить многое» .
Во многих случаях, когда того требовала справедливость, Толстой становился на сторону помещиков и решительно отказывал крестьянам, когда они предъявляли противозаконные требования.
Иногда помещики жаловались на Толстого в суд, но в большинстве случаев решения Толстого утверждались. Современники Толстого подтверждали, что он был хорошим мировым посредником, честным и справедливым, но что касается бумаг, канцелярии, то с этим уже Толстой справиться не мог и здесь царил полный беспорядок.
Толстой занимал должность мирового посредника около года. В мае 1862 года, по собственному его ходатайству, сенат «определил артиллерии поручика графа Льва Толстого по болезни уволить от представленной ему по утверждении правительствующего сената должности мирового посредника Крапивенского уезда», чему Толстой был очень рад. Он устал и должность эта все больше и больше тяготила его.
Случилось это весной 1861 года, как раз в то время, как Толстой начал свою деятельность мирового посредника. Событие это назревало годами.
Тургенев и Толстой по-настоящему никогда дружны не были. В самом начале, когда Толстой еще начинающим писателем приехал из Севастополя в Петербург,он готов был искренно полюбить Тургенева, а Тургенев взял его под свое покрови-
* Палки в колеса (фр.).
тельство и смотрел на начинающего писателя немного сверху вниз. Между ними никогда не было спокойных, ровных отношений. Оба они ревниво следили за каждым произведением вышедшим из-под пера другого и спешили наводить казавшуюся им беспристрастной критику. Но произведения их были настолько различны по существу, что как бы объективно они ни старались подходить друг к другу, каждый из них неизбежно был пристрастен.
Мы знаем, что «Записки охотника» имели большое влияние на Толстого-юношу, мы также знаем, с каким восторгом были приняты Тургеневым «Детство» Толстого и его «Севастопольские рассказы», но позднейшие произведения Толстого Тургеневу не нравились.
6 апреля 1859 г. Боткин писал Тургеневу из Москвы: «Толстой еще здесь и работает над своим рассказом («Семейное счастье*), за который он хочет взять с Каткова по 250 с листа. Катков жмется и пищит и спрашивает меня — хорош ли по крайней мере рассказ этот. Я сказал ему по совести, каким он мне показался... Вчера я сказал ему (Толстому) прямо, что это и холодно и скучно. Он совсем другого мнения. Намерение его было представить процесс любви в браке, начинающейся романтическими стремлениями и оканчивающейся любовью к детям. Я заметил ему, что потому-то он так и холоден, что занимается одной отвлеченностью, общностью. Надо признаться, что Толстой самого высокого мнения о своей силе и своих произведениях. «Если рассказ мой не оценят теперь, то через пять лет он получит свою оценку». Я довольно часто вижусь с ним, — но также мало понимаю его, как и прежде. Страстная, причудливая и капризная натура. И притом самая неудобная для жизни с другими людьми. И весь он полон разными сочинениями, теориями и схемами, почти ежедневно изменяющимися»'. Современники-литераторы не понимали Толстого. Можно поистине удивляться, как большие писатели, а следовательно и тонкие психологи, могли так примитивно анализировать сложную натуру Толстого?
«Я с Толстым покончил все свои счеты, — писал Тургенев Боткину 12 апреля того же года. — Как человек он для меня более не существует. Дай Бог ему и его таланту всего хорошего — но мне, сказавши ему: здравствуйте — неотразимо хочется сказать — прощайте — и без свидания. Мы созданы противоположными полюсами. Если я ем суп и он мне нравится, я уже по одному этому наверное знаю, что Толстому он противен — el vice versa».
В письме к Фету Тургенев очень правильно определил свои отношения с Львом Толстым:
«Толстого Николая поцелуйте, — пишет он стихами, —
И Льву Толстому поклонитесь, также
Сестре его. Он прав в своей приписке:
Мне не за что к нему писать. Я знаю:
Меня он любит мало, и его
Люблю я мало. — Слишком в нас различны
Стихии; но дорог на свете много:
Друг другу мы мешать не захотим»1.
Толстой страдал, чувствуя, что из отношений его с Тургеневым ничего не
выходило. Сердце его было готово полюбить Тургенева. В письмах к Фету Толстой
писал про Тургенева: «Чорт его возьми! надоело любить его!» О том же, что
писатели могли «мешать» друг другу, Толстому и в голову не могло прийти.
В своих воспоминаниях Фет приводит, как он выразился, «меткие» слова
Николая Толстого: «Тургенев никак не может помириться с мыслью, что Левочка растет и уходит у него из-под опеки».
Тургенев критиковал решительно все, что делал Толстой. Узнав, что он занялся педагогической деятельностью, Тургенев написал Фету: «А Лев Толстой продолжает чудить. Видно так уж написано ему на роду. Когда он перекувыркнется в последний раз и станет на ноги?»5
«Прочел я «Накануне», — пишет Толстой Фету 23 февраля 1860 г. — Вот мое мнение: писать повести вообще напрасно, а еще более таким людям, которым грустно и которые не знают хорошенько, чего они хотят от жизни. Впрочем, «Накануне» много лучше «Дворянского гнезда» и есть в нем отрицательные лица превосходные: художник и отец. Другие же не только не типы, но даже замысел их, положение их не типическое, или уж они совсем пошлы. Впрочем, это всегдашняя ошибка Тургенева. Девица из рук вон плоха: Ах как я тебя люблю... у нее ресницы были длинные... Вообще меня всегда удивляет в Тургеневе, как он со своим умом и поэтическим чутьем не умеет удержаться от банальности даже до приемов... ежели не жалеть своих самых ничтожных лиц, надо их уже ругать Так, чтобы небу жарко было, или смеяться над ними так, чтобы животики подвело, а не так, как одержимый хандрой и диспепсией Тургенев»... Но тут же Толстой, желающий быть справедливым до конца, добавляет: «Вообще же сказать, никому не написать теперь такой повести, несмотря на то, что она успеха иметь не будет».
В мае 1861 года Тургенев написал Фету, что он хотел бы приехать к нему в имение Степановку вместе с Толстым. «Ивана Сергеевича мне хочется видеть, а вас в десять раз больше», — написал Толстой Фету, получив это приглашение.
По дороге к Фетам Толстой заехал к Тургеневу в Спасское. То, что случилось здесь, Толстой без ужаса не мог вспомнить до глубокой старости. Тургенев предложил Толстому прочитать рукопись его повести «Отцы и дети». После сытного ужина — а Тургенев любил и сам хорошо поесть и других угостить — Тургенев усадил Толстого в мягкое кресло в гостиной, поставил ему стакан воды и сам удалился. «Не знаю, как это случилось, — рассказывал Толстой, — только я крепчайшим сном заснул, а когда проснулся, то увидел в дверях удаляющуюся фигуру Тургенева, со свечей в руке... Я был ужасно смущен!»
Легко себе представить, как глубоко оскорбился Тургенев равнодушием Толстого к его знаменитой повести «Отцы и дети», если он, действительно, заметил, что Толстой заснул во время ее чтения.
Писатели приехали в Степановку 26 мая.
«Утром, в наше обыкновенное время, т. е. в 8 часов, гости вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я в ожидании кофея поместился на другом конце. Тургенев сел по правую руку хозяйки, а Толстой по левую. Зная важность, которую в это время Тургенев придавал воспитанию своей дочери, жена моя спросила его, доволен ли он своею английскою гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английскою пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которой дочь его может располагать для благотворительных целей. «Теперь, — сказал Тургенев, — англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности.
— И это вы считаете хорошим? — спросил Толстой.
— Конечно; это сближает благотворительницу с насущною нуждой.
— А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.
— Я вас прошу этого не говорить! — воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.
— Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден, — отвечал Толстой. Не успел я крикнуть Тургеневу: «перестаньте!», как, бледный от злобы, он
сказал: «так я вас заставлю молчать оскорблением!» Так записал Фет, в действительности же Тургенев сказал: «А если вы будете так говорить, я вам дам в рожу!»6. С этим словом он вскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через секунду он вернулся к нам и сказал, обращаясь к жене моей: «Ради Бога извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь». С этим вместе он снова ушел»7.
Добрые хозяева были в отчаянии. Мария Петровна Шеншина-Фет, добрейшая женщина, славилась своим гостеприимством. Шеншины-Феты, только что устроившиеся в новом имении, уступили своим дорогим гостям лучшие комнаты, приготовили хороший обед, и вдруг разыгралась такая безобразная сцена. Точно годами назревавший нарыв вдруг прорвался. Добрейший Фет не в состоянии был удержать гнева этих двух страстных, взбешеных людей, как тигры набросившихся друг на друга. Фет понимал, какими последствиями грозила эта ссора между двумя величайшими писателями того времени... дуэль, возможная гибель одного из них. В памяти каждого русского человека еще не улеглась в то время боль утраты двух величайших русских поэтов — Пушкина и Лермонтова — в полном расцвете творчества погибших на дуэли, от руки ничтожных соперников.
Надо было немедленно действовать. Фет приказал запрячь коляску Тургенева. Отправив Тургенева, он распорядился на собственных лошадях увезти Толстого в имение Борисова, откуда Толстой тотчас же написал Тургеневу:
«Надеюсь, что ваша совесть вам уже сказала, как вы неправы передо мной, особенно в глазах Фета и его жены. Поэтому напишите мне такое письмо, которое бы я мог послать Фетам. Ежели вы находите, что требование мое несправедливо, то известите меня. Я буду ждать в Богослове».
Фет считал, что Тургенев виноват, и что он должен был извиниться не только перед Толстым, но и перед своими хозяевами, в доме которых произошла вся эта безобразная ссора.
Тургенев согласился и написал Толстому письмо следующего содержания:
«Милостивый государь, Лев Николаевич! — В ответ на ваше письмо я могу повторить только то, что я сам почел своей обязанностью объявить вам у Фета: увлеченный чувством невольной неприязни, в причины которой теперь входить не место, я оскорбил вас без всякого положительного повода с вашей стороны и попросил у вас извинения... Происшедшее сегодня поутру доказало ясно, что всякие попытки сближения между такими противоположными натурами, каковы ваша и моя, не могут повести ни к чему хорошему; а потому я тем охотнее исполняю мой долг перед вами, что настоящее письмо есть, вероятно, последнее проявление каких бы то ни было отношений между нами. От души желаю, чтоб оно вас удовлетворило и заранее объявляю свое согласие на всякое употребление, которое вам заблагорассудится сделать из него.
С совершенным уважением, имею честь остаться, милостивый государь! Ваш покорнейший слуга.
Ив. Тургенев
С. Спасское
27 мая 18618.
Письмо это Тургенев послал с Борисовым, между тем как Толстой сидел на станции Богослово. Не получая письма, Толстой пришел в бешенство и написал Тургеневу письмо с вызовом на дуэль и послал человека в имение своего покойного брата Николая, Никольское-Вяземское, за ружьями и пулями. Дуэль должна была состояться около станции Богослово, на опушке леса. Толстой не спал всю ночь, он был готов стреляться серьезно, не щадя ни себя, ни противника, гнев кипел в его душе... Но вместо Тургенева приехал человек с письмом, в котором Тургенев извинился за свой поступок.
Несмотря на это. Толстой долго не мог успокоиться:
«Желаю вам всего лучшего в отношении с этим человеком, — писал он Фету, — но я его презираю, что я ему написал, и тем прекратил все сношения, исключая, ежели он захочет, удовлетворения. Несмотря на все мое видимое спокойствие, в душе у меня было неладно, и я чувствовал, что мне нужно было потребовать более положительного извинения от г. Тургенева, что я и сделал в письме из Новоселок. Вот его ответ, которым я удовлетворился, ответив только, что причины, по которым я извиняю его, — не противоположности натур, а такие, которые он сам может понять. Кроме того, по промедлению, я послал другое письмо довольно жестокое, с вызовом, на которое еще не получил ответа; но ежели и получу, не распечатав возвращу назад. Итак, вот конец грустной истории, которая ежели перейдет порог вашего дома, то пусть перейдет и с этим дополнением.
Л. Толстой».
Во втором своем письме Толстому Тургенев писал:
«Ваш человек говорит, что вы желаете получить ответ на ваше письмо; но я не вижу, что бы я мог прибавить к тому, что я написал. Разве то, что я признаю
совершенно за вами право потребовать от меня удовлетворения вооруженною рукой: вы предпочли удовольствоваться высказанным и повторенным моим извинением. Это было в вашей воле. Скажу без фразы, что охотно бы выдержал ваш огонь, чтобы тем загладить мое действительно безумное слово. То, что я его высказал, так далеко от привычек всей моей жизни, что я могу приписать это ничему иному, как раздражению, вызванному крайним и постоянным антагонизмом наших воззрений. Это не извинение, я хочу сказать не оправдание, а объяснение. И потому, расставаясь с вами навсегда — подобные происшествия неизгладимы и невозвратимы, — считаю долгом повторить еще раз, что в этом деле правы были вы, а виноват я. Прибавляю, что тут вопрос не в храбрости, которую я хочу или не хочу показывать, а в признании за вами — как права привести меня на поединок, разумеется в принятых формах (с секундантами), так и права меня извинить. Вы избрали, что вам было угодно, и мне остается покориться вашему решению. Снова прошу вас принять уверение в моем совершенном уважении.
Ив. Тургенев»9
Прошло несколько месяцев. Гнев Толстого против Тургенева остыл и, как всегда с ним бывало, когда он ссорился с кем-нибудь, враждебные отношения между ним и Тургеневым тяготили его. Он написал Тургеневу примирительное письмо. Но случилось так, что как раз в это время распространились ложные слухи, дошедшие и до Тургенева, о том, что Толстой рассказывает направо и налево, что Тургенев испугался вызова Толстого и по трусости уклонился от дуэли.
«Милостивый государь, — писал Тургенев Толстому из Парижа. — Перед самым моим отъездом из Петербурга я узнал, что вы распространили в Москве копию с последнего вашего письма ко мне, причем называете меня трусом, не желавшим драться с вами, и т. д. Вернуться в Тульскую губернию было мне невозможно, и я продолжал свое путешествие. Но, так как я считаю подобный ваш поступок, после всего того, что я сделал, чтобы загладить сорвавшееся у меня слово, и оскорбительным, и бесчестным, то предваряю вас, что я на этот раз не оставлю его без внимания и, возвращаясь будущей весной в Россию, потребую от вас удовлетворения.
Считаю нужным уведомить вас, что я известил о моем намерении моих друзей в Москве для того, чтобы они противодействовали распущенным вами слухам.
И. Т.»10
Разумеется, что слухи эти не имели никакого основания.
«О Тургеневе скажу тебе, — писал Толстой Чичерину 28 октября 1861 г., — что мне от души жалко его и что я все возможное сделал, чтобы его успокоить. Драться же с кем-нибудь и особенно с ним через год, за 2000 верст, столько же для меня возможно, как нарядившись диким, плясать на Тверской улице».
Мысли Толстого были заняты другим, острота обиды, злоба — испарились в его душе.
«Милостивый государь, — писал он Тургеневу, — Вы называете в письме своем мой поступок бесчестным; кроме того, Вы лично сказали мне, что вы «дадите мне в рожу», а я прошу у вас извинения, признаю себя виноватым и от вызова отказываюсь.
Граф Л. Толстой. 8 октября 1861. Ясная Поляна».
Много воды должно было утечь, многое надо было пережить, передумать, прежде чем два величайших писателя того времени могли снова встретиться и дружелюбно подойти друг к другу.
17 лет спустя Толстой первый протянул Тургеневу руку примирения.
Работу по посредничеству Толстой исполнял из чувства долга, занятия в школе — были для него радостью. «Поэтическое, прелестное дело, от которого нельзя оторваться, — писал он А. А. Толстой. — Вырвавшись из канцелярии и от мужиков, преследующих меня со всех крылец дома, я иду в школу, но так как она переделывается, то классы рядом в саду, под яблонями, куда можно пройти только нагнувшись, так все заросло. И там сидит учитель, а кругом школьники, покусывая травки и пощелкивая в липовые и кленовые листья. Учитель учит по моим советам, но все-таки не совсем хорошо, что и дети чувствуют. Они меня больше любят. И мы начинаем беседовать часа 3 — 4 и никому не скучно. Нельзя рассказать, что это за дети — надо их видеть. Из нашего милого сословия детей я ничего подобного не видал. Подумайте только, что в продолжении двух лет, при совершенном отсутствии дисциплины ни один и ни одна не были наказаны. Никогда лени, грубости, глупой шутки, неприличного слова. Дом школы теперь почти отделан. Три большие комнаты — одна розовая, две голубые заняты школой. В самой комнате кроме того музей. По полкам, кругом стен, разложены камни, бабочки, скелеты, травы, цветы, физические инструменты и т. д. По воскресениям музей открывается для всех и немец из Иены* (который вышел славный юноша) — делает эксперименты. Раз в неделю класс ботаники, и мы все ходим в лес за цветами, травами и грибами. Пенья четыре класса в неделю. Рисованья шесть (опять немец), и очень хорошо. Землемерство идет так хорошо, что мальчиков уже приглашают мужики. Учителей всех, кроме меня, три. И еще священник два раза в неделю. А вы все думаете, что я безбожник. И я еще учу священника, как учить. Мы вот как учим: Петров день — мы рассказываем историю Петра и Павла и всю службу. Потом умер Феофан на деревне — мы рассказываем, что такое соборование и т. д. И так, без видимой связи, проходим все таинства, литургию и все ново-и ветхозаветные праздники. Классы положены с 8 до 12 часов и с 3 до 6 но всегда идут до двух, потому что нельзя выгнать детей из школы — просят еще...»
Сеть школ в участке мирового посредника расширяется, Толстой выписывает учителей через Чичерина из Москвы, в окрестных глухих деревнях впервые открываются школы, Толстой руководит преподавателями, устраивает собрания. Свои опыты, наблюдения — учителя заносят в дневники. Эти записи в дневниках кратки, но они показывают, насколько сам Толстой и его помощники серьезно и вдумчиво относились к делу, отмечая, как достижения, так и недостатки преподавания.
«Февраль 26, 1862 г. Старший класс. Математика. (Запись рукой Толстого).
Задача уравнения — бассейн. Очень хорошо. Уничтожение знаменателя так и не поняли, от торопливости Владимира Александровича. Сокращали и приводили к одному знаменателю отлично. Задал сложную задачу тройного правила».
Следующая запись сделана учителем Морозовым:
«В младшем классе. Писание.
* Немец — Густав Федорович Келлер.
Начался урок в 8 часов и продолжался до 11 часов — отступление от расписания, по случаю позднего прихода в класс учителя математики. Много написали: Румянцев и Кирюшка из Русской Истории, а прочие из Священной Истории Ветхого Завета. — Румянцев отлично написал, как в изложении, так и орфографически. Кирюшка — дурно. Прочие очень обыкновенно. Каллиграфия в упадке; замечено Графом обратить на это внимание. Да, я боюсь за себя, потому сам не далек».
По-видимому, Толстой имел большое влияние на своих студентов-учителей и большинство из них прониклось его идеями. Все они были хорошие, добросовестные молодые люди, но Толстой часто приходил в отчаяние от их неспособности полностью усвоить те приемы, которые для него были ясны. Но для этого надо было иметь его талант. Он сам ошибался, но, ошибаясь, учился.
«Начал с нумерации со старшими и старшими 2-го класса. Значение значков десятичных, простых дробей и уравнений. Сашка в толпе ничего не может делать. Я вел дело плохо. Как будто ничего не вышло», — писал он.
7 августа 1862 г. Толстой писал Александре Андреевне Толстой про своих молодых помощников: «Все из 12-ти, кроме одного, оказались отличными людьми; я был так счастлив, что все согласились со мной, подчинились, не столько моему влиянию, сколько влиянию среды и деятельности. Каждый приезжал с рукописями Герцена в чемодане и революционными мыслями в голове и каждый, без исключения, через неделю сжигал свои рукописи, выбрасывал из головы революционные мысли и учил крестьянских детей священной истории, молитвам, и раздавал Евангелия читать на дом. Это факты».
Толстой особенно ценил немца Келлера, которого он вывез из Германии. «Эксперименты Келлера интересны и хороши, — отзывался о нем Толстой. — Он мил и полезный малый».
Программа занятий была всесторонняя: кроме чтения и письма, преподавались грамматика, Священная История и Закон Божий, русская история, рисование, черчение, пение, естественная история; кроме того, ученики занимались столярничеством и гимнастикой. На глазах у Толстого ученики постепенно развивались, начинали сознавать, что жизнь не ограничена одной Ясной Поляной, что есть другие народы, страны, обычаи; узнали про Христа и Его учение, стали понимать красоту искусства, стихов, музыки. В своих опытах Толстой всем существом чувствовал, что малейшая фальшь, передержка в искусстве, литературе — не воспринимались его чуткими слушателями. Все истинно прекрасное схватывалось ими с какой-то неутолимой жадностью.
Толстому необходимо было поделиться своим опытом, своими открытиями, выслушать разумную критику и он решил издавать задуманный им еще за границей журнал «Ясная Поляна», несмотря на то, что его предупреждали, что такой журнал не будет иметь успеха и подписчиков будет мало.
В обращении своем «К публике» он пишет:
«Выступая на новое для меня поприще, мне становится страшно за себя и за те мысли, которые годами вырабатывались во мне и которые я считаю за истинные. Я наперед убежден, что многие из этих мыслей окажутся ошибочными. Как бы я ни старался изучать предмет, я невольно смотрел на него с одной стороны. Надеюсь, что мои мысли вызовут противные мнения. Всем мнениям я с удовольствием дам место в своем журнале. Одного я боюсь, чтобы мнения эти не выражались желчно, чтобы обсуждение столь дорогого и важного для всех предмета, как народное образование, не перешло в насмешки, в личности, в журнальную полемику. Я не скажу, что насмешки и личности не могут меня затронуть, что я надеюсь стоять выше их. Напротив, я признаюсь, что боюсь за себя одинаково, как боюсь и за самое дело; боюсь увлечения полемикой личной, вместо спокойной и упорной работы над своим делом».
Номер 1-ый журнала был разрешен цензурой в январе (1862 г.).
Педагогические статьи Толстого произвели впечатление революции в методах преподавания того времени. Уловить эту систему почти невозможно, вся она построена на ежедневных жизненных наблюдениях и тончайшем психологическом анализе обучающихся. В процессе преподавания — учителя учились. Непонимание, скука в классе, глупые ответы учащихся — объяснялись неправильным подходом учителя или плохими, неинтересными руководствами и книгами.
В статье «Ясно-Полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» Толстой писал:
«Учитель всегда невольно стремится к тому, чтобы выбрать самый для себя удобный способ преподавания. Чем способ преподавания удобнее для учителя, тем он неудобнее для учеников. Только тот образ преподавания верен, которым довольны ученики».
В этой же статье Толстой пишет об избытке никому ненужной, слабой литературы, в то время как народной литературы почти нет.
«Для образования народа необходима возможность и охота читать хорошие книги, — хорошие книги писаны языком, которого народ не понимает. Для того, чтобы выучиться понимать, нужно много читать; для того, чтобы охотно читать — нужно понимать... В чем тут ошибка?»
Те же мысли Толстой выражает и по поводу искусства. Искусство создано
для людей, испорченных прогрессом. В статье «Ясно-Полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» Толстой приводит сравнение:
«Человек со свежего воздуха приходит в накуренную, надышанную, низкую комнату; все жизненные отправления его еще полны, организм его посредством дыхания питался большим количеством кислорода, который он брал из чистого воздуха. С тою же привычкой организма он начинает дышать в зараженной комнате; вредные газы сообщаются крови в большом количестве, организм ослабевает (часто делается обморок, иногда смерть). Между тем как сотни людей продолжают дышать и жить в том же зараженном воздухе только потому, что все отправления их сделались незначительнее, — они, другими словами, слабее, меньше живут».
«Нас тысячи, а их миллионы», — пишет Толстой, нападая на прогресс и его представителей. Что сделали эти прогрессивные люди для этих миллионов?
Здесь мы снова можем проследить развитие мыслей об искусстве, зародившихся в 34-летнем Толстом, мыслей, которые с годами укрепились в нем и нашли свое окончательное оформление в статье об искусстве 35 лет спустя.
Ученые педагоги, литераторы, все прогрессивные люди не могли не возмущаться такой, так называемой, ересью. Педагогический журнал Толстого вызвал целый ряд ответных критических статей. На одну из таких статей по вопросу о прогрессе, помещенную г-ном Марковым в «Русском Вестнике» , Толстой ответил статьей «Прогресс и определение образования». Со свойственными ему страстностью и убежденностью, не считаясь с тем взрывом негодования, который статья его должна была вызвать в среде русской интеллигенции, Толстой, со всей своей силой, обрушился на г-на Маркова и на так называемый прогресс, который Марков защищал:
«...Во-первых, признать прогресс, ведущим к благосостоянию, можно только тогда, когда весь народ, подлежащий действию прогресса, будет признавать это действие хорошим и полезным, тогда как теперь в 9/10 населения, в так называемом простом, в рабочем народе, мы постоянно видим противное; и во-вторых, тогда, когда будет доказано, что прогресс ведет к совершенствованию всех сторон человеческой жизни, или, что взятые вместе последствия его влияния, преобладают добрыми и полезными над дурными и вредными. Народ, т. е. масса народа, 9/10 всех людей, постоянно враждебно относятся к прогрессу и постоянно не только не признают его пользы, но положительно и сознательно признают его вред для них...»
«Я прошу серьезного читателя, — пишет дальше Толстой, — прочесть всю 3-ю главу 1-ой части истории Маколея. Вывод сделан смело и решительно, но на чем он основан — решительно не понятно для здравого человека, не отуманенного верой в прогресс. Значительные факты только следующие: 1) Народонаселение увеличилось, — увеличилось так, что необходима теория Мальтуса. 2) Войска не было, — теперь оно стало огромно; с флотом то же самое. 3) Число мелких землевладельцев уменьшилось. 4) Города стянули к себе большую часть народонаселения. 5) Земля обнажилась от лесов. 6) Заработная плата стала наполовину больше, цены же на все увеличились и удобств к жизни стало меньше. 7) Подать на бедных удесятирилась. Газет стало больше, освещение улиц лучше, детей и жен меньше бьют и английские дамы стали писать без орфографических ошибок».
Каждый человек нашего времени саркастически улыбнется, прочитав эти строки — но нельзя не сознаться, что в них скрыта несомненная, глубокая истина,
и невольно встает вопрос: принес ли человечеству счастье тот прогресс, протин которого так горячо восставал Толстой 85 лет тому назад?
В то время Толстого интересовало одно: судьба, счастье, развитие и благосостояние не «тысяч, а миллионов» народа. Он был погружен в дело школы всем своим существом, мысль о жизни в деревне, женитьбе на крестьянской девушке мелькала у него в голове, он настолько был увлечен средой, что все остальные классы общества как бы исчезли из его жизни, даже в писании своем он употреблял часто народные слова.
«Что такое была для меня школа, с тех пор, как я открыл ее. Это была вся моя жизнь, это был мой монастырь, церковь, в которую я спасался и спасся от всех тревог, сомнений и искушений жизни», — так писал он 7 августа 1862 года А. А. Толстой. Педагогическая работа и общение с ребятами давали Толстому громадное чувство удовлетворения и минуты радостного, незабываемого подъема, почти восторга. Такое чувство Толстой испытал, когда он заставил своих ребят «сочинять».
Много раз он задавал ученикам сочинения на различные темы, но выходило слабо. Ребята писали не так, как они рассказывали, а старались написать так, как казалось им, должно понравиться учителю, и Толстой не мог добиться того, чего он хотел — народной, ребячьей художественности. Он чувствовал, что она скрыта в его любимцах, так же как и многие другие способности и таланты, веками дремавшие в русском крестьянском народе. Но как найти этот скрытый, неосознанный, не раскопанный еще клад.
Толстой описывает в статье «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят», — как ребята писали рассказы «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет» и «Солдаткино житье».
Когда Толстой предложил писать, ребята остались равнодушны.
— Ну, — сказал я, — кто лучше напишет, и я с вами.
«Я начал повесть... и написал первую страницу. Всякий непредубежденный человек, имеющий чувство художественности и народности, прочтя эту первую, писанную мною, и следующие страницы повести, писанные самими учениками, отличит эту страницу от других, как муху в молоке: так она фальшива, искусственна и написана таким плохим языком. Надо заметить еще, что в первоначальном виде она была еще уродливее и много исправлена, благодаря указанию учеников», — пишет он дальше.
Постепенно ребята увлеклись и двое из них, Васька Морозов, которого Толстой называет в статье Федькой, и Игнатка Макаров — Семка, увлеклись сочинительством так, что сам Толстой уступил им поле и едва успевал записывать сыпавшиеся на него подробности рассказа.
«Семке нужны были преимущественно объективные образы: лапти, шинелиш-ка, старик, баба, почти без связи между собой; Федьке нужно было вызвать чувство жалости, которым он сам был проникнут.
Он забегал вперед, говорил о том, как будут кормить старика, как он упадет ночью, как потом будет в поле учить грамоте мальчика, так что я должен был просить его не торопиться и не забывать того, что он сказал. Глаза у него блестели почти слезами: черные, худенькие ручонки судорожно корчились; он сердился на меня и беспрестанно понукал: написал, написал? — все спрашивал он меня. Он деспотически-сердито обращался со всеми другими, ему хотелось говорить только одному, — и не говорить как рассказывают, а говорить как пишут,
т. е. художественно запечатлевать словом образы чувства; он не позволял, например, перестанавливать слов, скажет: у меня на ногах раны, то уж не позволяет сказать: у меня раны на ногах. Размягченная и раздраженная его, в это время, душа чувством жалости, т. е. любви, облекала всякий образ в художественную форму и отрицала все, что не соответствовало идее вечной красоты и гармонии. Как только Семка увлекался высказыванием непропорциональных подробностей о ягнятах в коннике и т. п., Федька сердился и говорил: ну тебя, уж наладил! Стоило мне только намекнуть о том, например, что делал мужик, как жена убежала к куму, и в воображении Федьки тотчас же возникала картина с ягнятами, бякающими в коннике, со вздохами старика и бредом мальчика Сережки; стоило мне только намекнуть на картину искусственную и ложную, как он тотчас же сердито говорил, что этого не надо. Я предложил, например, описать наружность мужика, — он не согласился; но на предложение описать то, что думал мужик, когда жена бегала к куму, ему тотчас же представился оборот мысли: «Эх, напалась бы ты на Савоську покойника, тот бы те космы-то повыдергал!» И он сказал это таким усталым и спокойно привычно-серьезным и вместе добродушным тоном, облокотив голову на руку, что ребята покатились со смеху. Главное свойство во всяком искусстве — чувство меры — было развито в нем необычайно. Его коробило от всякой лишней черты, подсказываемой кем-нибудь из мальчиков. Он так деспотически, и с правом на этот деспотизм, распоряжался постройкой повести, что скоро мальчики ушли домой и остался только он с Семкою, который не уступал ему, хотя и работал в другом роде.
Мы работали с 7 до 11 часов; они не чувствовали ни голода, ни усталости, и еще рассердились на меня, когда я перестал писать; взялись сами писать попеременкам, но скоро бросили; дело не пошло. Тут только Федька спросил у меня, как меня звать? Мы засмеялись, что он не знает. «Я знаю, — сказал он, — как вас звать, да двор-то ваш как зовут? Вот у нас Фоканычевы, Зябревы, Ермилины». Я сказал ему: «А печатывать будем?» — спросил он. — Да! — «Так и напечатывать надо: сочинение Макарова, Морозова и Толстова». Он долго был в волнении и не мог заснуть, и я не могу передать того чувства волнения, радости, страха, и почти раскаяния, которые я испытывал в продолжение этого вечера. Я чувствовал, что с этого дня для него раскрылся новый мир наслаждений и страданий, — мир искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет права видеть — зарождение таинственного цветка поэзии. Мне и страшно, и радостно было, как искателю клада, который бы увидал цвет папоротника; радостно мне было потому, что вдруг, совершенно неожиданно, открылся мне тот философский камень, которого я тщетно искал два года — искусство учить выражению мыслей; страшно потому, что это искусство вызывало новые требования, целый мир желаний, несоответственный среде, в которой жили ученики, как мне казалось в первую минуту. Ошибиться нельзя было. Это была не случайность, но сознательное творчество».
В этом маленьком «ошметке», как Васька Морозов сам себя назвал в своих талантливых воспоминаниях, Толстой вдруг нашел художественный талант: «Чувство меры было в нем так сильно, как ни у одного из известных мне писателей, — то самое чувство меры, которое огромным трудом и изучением приобретают редкие художники, — во всей его первобытной силе жило в его неиспорченной детской душе.
Я оставил урок, потому что был слишком взволнован.
«Что с вами, отчего вы так бледны, вы верно нездоровы?» — спросил меня мой товарищ. Действительно, я два-три раза в жизни испытывал столь сильное впечатление, как в этот вечер, и долго не мог дать себе отчета в том, что я испытывал. Мне смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный улей работу пчел, закрытую для взора смертного; мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве. Мне вспоминались дети, которых праздные и развратные старики заставляют ломаться и представлять сладострастные картины для разжигания своего усталого, истасканного воображения, и вместе с тем, мне было радостно, как радостно должно быть человеку, увидевшему то, чего никто не видал прежде его.
Я долго не мог дать себе отчета в том впечатлении, которое я испытал, хотя и чувствовал, что это впечатление было из тех, которые в зрелых летах воспитывают, возводят на новую ступень жизни и заставляют отрекаться от старого и вполне предаваться новому. На другой день я еще не верил тому, что испытал вчера. Мне казалось столь странным, что крестьянский, полуграмотный мальчик вдруг проявляет такую сознательную силу художника, какой, на всей своей необъятной высоте развития, не может достичь Гете. Мне казалось столь странным и оскорбительным, что я, автор «Детства», заслуживший некоторый успех и признание художественного таланта от русской образованной публики, что я, в деле художества, не только не могу указать или помочь 11-летнему Семке и Федьке, а что едва-едва, — и то только в счастливую минуту раздражения, — в состоянии следить за ними и понимать их. Мне это казалось так странным, что я не верил тому, что было вчера».
У Толстого было одно характерное свойство, сохранившееся в нем до глубокой старости, — детская непосредственная веселость, искреннее, почти страстное увлечение спортом, играми, разными забавами. «Игра — серьезное дело» (изречение Т. А. Берс-Кузминской, которое Толстой любил повторять). И в ту минуту, как Толстой играл в городки, боролся, охотился, бегал наперегонки со своими ребятами — это было для него серьезное дело, потому что он всем существом своим отдавался ему и веселился не меньше своих ребят. Яснополянские школьники заражались его весельем. Чего только он ни придумывал! На Рождестве устраивал елку, на новый год — ряженых, на масленице — блины и катанье, по русскому обычаю. Блины ели с маслом, сметаной, селедками, чинно, досыта, и когда, наконец, отваливались, отирая пот от сытости и жары в школьной, нагревшейся от русской печки небольшой кухне, «граф» приказывал запречь несколько розвальней и ехали кататься. Восторг был полный. Наваливаются ребята — полные сани. Заливаются колокольчики, заливаются песнями детские голоса, смех, веселье, а в передних санях — главный затейник-учитель Толстой. Он правит сам. лаской и весельем сияют из-под густых бровей глубокие серые глаза, мощью веет от всего его широкого бородатого лица, могучего, сильного тела. Для ребят он был каким-то высшим, необыкновенным существом, не совсем понятным — их отцы снимали перед ним шапки, для них же, детей, он минутами был чудесно, необъяснимо близок.
Весной этого года Толстой почувствовал усталость, недомоганье, стал кашлять и так как в нем, так же как в его братьях, были задатки туберкулеза, доктор посоветовал ему ехать в Самару, на кумыс. Но он не смог оторваться от
своих ребят и взял с собой самых любимых. Ваську Морозова и Егора Чернова; с ними же поехал и слуга его, Алексей Орехов. Ехали сначала на лошадях до Москвы, потом железной дорогой до Твери, где сели на пароход. Путешествие пароходом по Волге, от Твери до Самары, успокоило его; в степях, в полудиком башкирском кочевье, он почувствовал себя совсем хорошо. С башкирами он быстро подружился. Они приглашали «князя», как они его звали, в свои кибитки, устланные по земляному полу коврами, где руками ели баранину и конину, запивая кумысом. Толстой сам устраивал игры с башкирами, борьбу, из которой всегда выходил победителем. «Он был сильный богатырь и ему не находилось противников. Только один башкир был ему равный по силе, и Льву Николаевичу не удавалось его класть на землю, но и башкиру не удавалось Льва Николаевича положить... — писал В. Морозов в своих воспоминаниях. — Во время таких игр все башкиры из всех кибиток собирались, от большого и до малого... Вечерней зарей около нашей кибитки бывало постоянное сборище...»1
В то время как Толстой, безмятежно отдыхая, проводил время в степи, над головой его, совершенно неожиданно для него, сгущались тучи.
Революционные, атеистические веяния уже тогда носились в воздухе; читали втихомолку Герцена, Маркса, возводили в героев участников восстания декабристов, печатали революционные прокламации. Среди 20 учителей, работавших в школах Толстого, были студенты с революционным прошлым. Так, I декабря 1861 г. прибыл в Ясную Поляну, в качестве учителя, некий поднадзорный студент Соколов. Пробыл он в школе всего около полутора месяцев, но как ни странно, а это незначительное событие повлекло за собой серьезные последствия, которые могли кончиться для Толстого катастрофой.
Жандармский генерал Перфильев, немедленно после отъезда Соколова из Москвы, сообщил тульскому начальнику жандармского отделения Муратову об его отъезде в Тулу. Последний доносит, что Соколов проследовал в Ясную Поляну. Для учреждения слежки за Яснополянской школой командируется в Тулу сыщик Михаил Шипов, позднее известный полиции как Зимин. Это бывший крепостной, из дворовых, князя Долгорукова, шефа жандармов в Петербурге. Шипов был дрянной, опустившийся, пьяный человек, кичившийся своими мнимыми связями с его сиятельством — шефом жандармов. 9 июня Шипова арестовывают за безобразное его поведение. Во время своего ареста в Москве Шипов-Зимин обдумывает план, как бы ему выслужиться перед начальством и при допросах сочиняет постепенно всю историю своего доноса чиновнику московского военного генерал-губернатора о том, что из Москвы в Ясную Поляну привезены «литографические камни со шрифтом и какие-то краски для печатания запрещенных сочинений», и затем, «все эти камни и инструменты из предосторожности были перевезены в Курское имение Толстого, где печатание начнется в августе».
Вслед за первым доносом Шипов шлет через несколько дней дополнительное донесение о том, что Толстого часто посещают раскольники «из Стародубских слобод», и что в августе предполагается печатание манифеста по поводу тысячелетия России. В доме Толстого устроены "потайные двери и лестницы, и вообще дом в ночное время всегда оберегается большим караулом».
Откуда пошли эти выдумки, неизвестно. «Большой караул» состоял из старика ночного сторожа, обходившего усадьбу со своей колотушкой, а слух о «потайных дверях и лестницах» мог возникнуть только от несколько необычной, странной архитектуры Толстовского дома. Из передней, где за перегородкой спал
слуга Толстого, Орехов, шла дверь в кабинет Толстого. Комната эта совершенно изолирована от всякого внешнего шума толстыми каменными стенами и таким же сводчатым потолком, в котором, на определенном расстоянии друг от друга, ввинчены большие, тяжелые железные кольца. Говорили, что здесь была кладовая при князе Волконском, и что на эти кольца вешали коптившиеся на усадьбе окорока. Из кабинета Толстого шла маленькая, узкая дверь в «каменную» комнату с полом неровно уложенным каменными плитами. И отсюда вилась узкая, темная деревянная лестница наверх, где помещались тетенькины покои, гостиная и другие шесть жилых светлых, просторных проходных комнат.
Получив эти донесения, московский генерал-губернатор приказал «сделать тщательное расследование и принять необходимые меры». Дело было передано московскому шефу жандармов, который немедленно предписал шефу жандармов города Тулы, полковнику Дурново, произвести обыск в Ясной Поляне и, если потребуется, в Курской губернии, куда якобы была переправлена тайная типография из Ясной Поляны.
В те времена, помещичьи усадьбы были как бы отдельными маленькими мирами, ничто не нарушало тишины размеренной, неторопливой жизни обитателей. Годами складывались привычки, слуги не торопясь, делали свое дело, вечерами тетенька Татьяна Александровна раскладывала пасьянсы, Мария Николаевна играла на фортепиано, под праздник, перед киотом с образами, зажигались лампады. Без хозяина, который вносил такую кипучую энергию и жизнь и захватывал внимание всех и вся, в доме было тихо и спокойно.
Но вдруг усадьба проснулась — колокольчики, бубенцы, ближе, ближе... Кто-то едет по обсаженному старыми березами пришпекту... подкатывает к дому тройка, одна, другая, подводы заполнили весь двор... Что это? Люди в формах, жандармский полковник, исправник, становые...
Забегали служащие, тетеньке Татьяне Александровне сделалось дурно, Марья Николаевна в ужасе, никто ничего не понимает, срочно послали нарочного за соседями. Обыск! графскую усадьбу обыскивают жандармы!.. Слух этот как молния разнесся по усадьбе, перекинулся на деревню... А власти между тем расставили везде сторожей и принялись за свое грязное дело: перерыли все столы в комнате Толстого, прочли все его интимные письма, дневники, обыскали школы, ломом подняли полы в конюшне, ища типографский станок, на котором Толстой якобы печатал революционные прокламации.
Обыск продолжался два дня, в течение которых учителя держались под арестом. Легко себе представить, какое впечатление произвел этот обыск на учащуюся молодежь! Революционный дух, дух протеста, возмущения против правительства, остывшие во время работы с Толстым, загорелись в них с новой силой.
Не найдя ничего подозрительного, кроме выписки из Герцена у одного из учителей, жандармский полковник распорядился сделать обыск в имении покойного брата Толстого, Николая, в Никольском-Вяземском. Этот обыск также не дал никаких результатов. Все это происходило 6 и 7 июля, а около 20 вернулся из Самары в Москву Толстой.
«Какие это опасения вы имели на мой счет? — пишет он немедленно «бабушке» Александрии. — Это меня интриговало все время и только теперь, получив известия из Ясной Поляны, я все понял. Хороши ваши друзья!.. Мне пишут из Ясной: I июля приехали три тройки с жандармами, не велели никому выходить, должно быть и тетеньке, и стали обыскивать. — Что они искали — до сих пор не известно. Какой-то из ваших друзей, грязный полковник, перечитал все мои письма и дневники, которые я только перед смертью думал поручить тому другу, который будет мне тогда ближе всех; перечитал две переписки, за тайну которых я бы отдал все на свете, — и уехал, объявив, что он подозрительного ничего не нашел. Счастье мое и этого вашего друга, что меня тут не было, — я бы его убил. Мило! Славно! Вот как делает себе друзей правительство. Ежели вы меня помните с моей политической стороны, то вы знаете, что всегда и особенно со времени моей любви к школе, я был совершенно равнодушен к правительству и еще более равнодушен к теперешним либералам, которых я презираю от души. Теперь я не могу сказать этого, я имею злобу и отвращение, почти ненависть к тому милому правительству, которое обыскивает у меня литографские и типографские станки для перепечатывания прокламаций Герцена, которые я презираю, которые я не имею терпения дочесть от скуки. Это факт — у меня раз лежали неделю все эти прелести — прокламации и «Колокол», и я так и отдал, не прочтя. Мне это скучно, я все это знаю и презираю не для фразы, а от всей души. — И вдруг меня обыскивают со студентами... Милые ваши друзья! Я еще не видал тетеньки, но воображаю ее... Тьфу! — Как вы, отличный человек, живете в Петербурге? Этого я никогда не пойму...»
Приехав в Ясную Поляну и узнав подробности обыска из рассказов тетеньки и сестры, Толстой пришел в такое бешенство, что близкие его опасались, как бы он не наделал чего-нибудь такого, что могло бы погубить всю его жизнь. В письме к Александрии от 7 августа, уже из Ясной Поляны, Толстой, со свойственной ему страстностью, выражает свой гнев и возмущение.
«Я вам писал из Москвы: я знал все только по письму; теперь, чем дольше я в Ясной, тем больней и больней становится нанесенное оскорбление и невыносимее
становится вся испорченная жизнь. Я пишу это письмо обдуманно, стараясь ничего не забыть и ничего не прибавить, с тем, чтобы вы показали его разным разбойникам Потаповым и Долгоруким, которые умышленно сеют ненависть против правительства и роняют Государя во мнении его подданных. Дела этого оставить я никак не хочу и не могу. Вся моя деятельность, в которой я нашел счастье и успокоение, испорчена. Тетенька больна так, что не встанет. Народ смотрит на меня уж не как на честного человека, мнение, которое я заслужил годами, а как на преступника, поджигателя или делателя фальшивой монеты, который только по-плутоватости увернулся. «Что, брат? попался! будет тебе толковать нам о честности, справедливости; самого чуть не заковали». О помещиках, что и говорить, — это стон восторга. Напишите мне, пожалуйста, поскорее, посоветовавшись с Перовским или А. Толстым, или с кем хотите, как мне написать и как передать письмо Государю? Выхода мне нет другого, как получить такое же гласное удовлетворение, как и оскорбление (поправить дело уже невозможно), или экспатриироваться, на что я твердо решился. К Герцену я не поеду. Герцен сам по себе, я сам по себе. Я и прятаться не стану, я громко объявлю, что продаю именья, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, — я уеду../.
«Я часто говорю себе, какое огромное счастье, что меня не было. Ежели бы я был, то верно бы уже судился как убийца. — Теперь представьте себе слухи, которые стали ходить после этого по уезду и губернии между мужиками и дворянами. Тетенька с этого дня стала хворать все хуже и хуже. Когда я приехал, она расплакалась и упала; она почти не может стоять теперь. Слухи были такие положительные, что я в крепости или бежал за границу, что люди, знавшие меня, знавшие, что я презираю всякие тайные дела, заговоры, бегства и т. п., начинали верить. — Теперь уехали, позволили нам ходить из дома в дом, однако у студентов отобрали билеты и не выдают; но жизнь наша, и в особенности моя с тетенькой, совсем испорчена. Школы не будет, народ посмеивается, дворяне торжествуют, а мы волей-неволей, при каждом колокольчике думаем, что едут везти куда-нибудь. У меня в комнате заряжены пистолеты и я жду минуты, когда все это разрешится чем-нибудь, — Г-н жандарм постарался успокоить нас, что ежели что спрятано, то мы должны знать, что завтра, может быть, он опять явится нашим судьей и властелином вместе с частным приставом. Одно — ежели это делается без ведома Государя, то надобно воевать и из последних сил биться против такого порядка вещей. Так жить невозможно. Ежели же все это так должно быть и государю представлено, что без этого нельзя, то надо уйти туда, где можно знать, что, ежели я не преступник, я могу прямо носить голову, или стараться разуверить государя, что без этого невозможно».
Бедная Александрии, которую Толстой отождествлял с правительством только за то, что она служила при дворе, и на которую он излил все свое негодование, не оскорбилась, а только до смерти перепугалась, что Лев наделает каких-нибудь неосторожных поступков и написала ему:
«Лев, дорогой мой, во имя всего, что у вас было святого в жизни, умоляю вас не принимать никаких крайних мер, что бы ни случилось, особенно до тех пор, пока вы не успокоитесь совершенно»2.
23 августа Толстой подал через флигель-адъютанта, гр. Шереметева, письмо на Высочайшее имя, с жалобой на действия жандармского отделения. Он между прочим писал:
«По свойственному человеку чувству, я ищу, кого бы обвинить во всем случившемся со мною. Себя я не могу обвинять: я чувствую себя более правым. чем когда бы то ни было; ложного доносчика я не знаю; чиновников, судивших и оскорблявших меня, я тоже не могу обвинять: они повторяли несколько раз, что это делается не по их воле, а по высочайшему повелению... Для того, чтобы знать, кого упрекать во всем случившемся со мною, я решаюсь обратиться прямо к Вашему Величеству. Я прошу только о том, чтобы с имени Вашего Величества была снята возможность укоризны в несправедливости и чтобы были, ежели не наказаны, то обличены виновные в злоупотреблении этого имени»3.
Обыск этот, несомненно, сильно подействовал на Толстого и надолго оставил в нем горькое чувство незаслуженной обиды. И раньше Толстой критиковал действия правительства, но отношение его к правительству и государю было вполне лояльным; незаслуженное оскорбление, произвол, лишний раз заставили его задуматься, натолкнули его на мысли, сделавшиеся убеждением в старости.
Объяснение шефа жандармов, кн. Долгорукого, тульскому губернатору, в ответ на письмо Толстого государю, не могло удовлетворить последнего.
«Хотя некоторые из проживающих у гр. Толстого лиц и оказались неимеющи-ми для жительства законных видов, а у одного хранились запрещенные сочинения, Его Величеству благоугодно, чтобы помянутая мера (т. е. обыск) не имела собственно для графа Толстого никаких последствий»3.
Обыск ли, или другие события, изменившие всю жизнь Толстого, но хотя школа и журнал «Ясная Поляна», на который тоже начали коситься, еще некоторое время и продолжались, но Толстой уже внутренно отходил от своего любимого школьного дела.
Все труднее и труднее становилось жить одному.
Возвращался ли он зимними вечерами из школы, мягко хрустя валенками по узкой, протоптанной снеговой тропинке, еще весь погруженный в мысли о Васьках, Федьках, Парашках, всей грудью вдыхая холодный, чистый воздух, когда мертвую тишину нарушало лишь потрескивание скованных морозом деревьев — он был один.
Шагал ли он ранней весной в высоких болотных сапогах по вязкой глине, любуясь только что освободившимися от снежного покрова яркими зеленями, слушая неумолчное журчание прилетевших жаворонков, низко стелящихся над оживающей, дышащей сыростью землей, когда вместе с пробуждающейся природой просыпались новые надежды, и когда от сознания собственного бытия и красоты Божьего мира хотелось кричать от восторга — он был один.
Сидел ли он в гостиной, где тетенька неторопливо раскладывала пасьянс, а в открытое итальянское окно властно врывались волнующие звуки весны — пенье крестьянской молодежи с деревни, несущиеся с пруда веселые крики ребят, кваканье лягушек, силившихся перекричать переливы и трели изнемогавших от страсти соловьев, когда воздух был насыщен пряным запахом цветущих яблонь и черемухи, и хотелось страстно любить и быть любимым — он был один.
Возвращался ли он знойным летом, потный и усталый, с покоса, где наравне с мужиками косил весь день, а в обеденный перерыв с наслаждением бросался с берега в нагретую солнцем речку Воронку и. освежившись хлебал из общей чашки мужицкую тюрю, радуясь и силе своего тела, и общению с этими самыми
мужиками, и погоде, и тому, что луг так быстро скошен, и хотелось с кем-то поделиться, — он был один.
Слушал ли музыку в восторженном упоении от нахлынувших на него вдохновенных, неуловимых полумыслей, получувств, уносивших его в высший, неосязаемый мир, где смутные образы принимали какие-то очертания и начинали жить — ему некому было сказать об этом — он был один.
«Потом так грустно, как давно не было, — писал он в дневнике. — Нет у меня друзей, нет! Я один!»
Вначале Толстой не предполагал, что в семье Берсов он найдет себе жену. Он ездил к ним, потому что с детства знал Любовь Александровну Иславину-Берс, она была очень дружна с его сестрой, Марией Николаевной, и он любил и уважал ее. Толстой знал и отца Любови Александровны — Александра Михайловича Исленьева.
В молодости Исленьев был страстным игроком. Про него рассказывали, что в один вечер он проигрывал и отыгрывал целые состояния — золото на простынях выносили — что был он лихим офицером, кутилой, страстным охотником и любителем цыган. Необузданная натура его не знала препятствий и когда он встретил княгиню Софию Петровну Козловскую, рожденную графиню Завадов-скую, и они полюбили друг друга, он, не долго думая, решил увезти Софью Петровну и тайно с ней повенчался, так как князь Козловский отказался дать развод своей жене. История эта наделала в свое время много шума в высшем московском обществе, брак был признан незаконным, детям не разрешили носить фамилию Исленьевых, а дали фамилию Иславиных.
Исленьевы счастливо прожили 15 лет. На шестнадцатом году Софья Петровна скончалась, оставив после себя трех дочерей, младшей из которых и была Любочка. Остро пережив бурный период горя, Исленьев скоро утешился, женился вторично на дочери тульского помещика Софье Александровне Ждановой, и жизнь его трех дочерей, особенно младшей, Любочки, в семье мачехи была невеселой.
Когда Любочке было 15 лет, она серьезно заболела горячкой и Исленьев пригласил молодого врача Андрея Евстафьевича Берса ее лечить. В продолжение нескольких недель Берс выхаживал Любочку и за это время они полюбили друг друга. Брак этот с доктором немецкого происхождения считался мезальянсом. Исленьев протестовал, но Любочка настояла на своем и оказалась права, так как Берсы счастливо прожили вместе до конца своей жизни.
Андрей Евстафьевич Берс был придворным врачей и Берсы жили в Москве в Кремлевском дворце. Человек он был умный, способный и порядочный, но вспыльчивый и своенравный. Софья Андреевна Берс-Толстая, отчасти унаследовавшая вспыльчивый характер своего отца, рассказывала, что когда на Андрея Евстафьевича находили припадки гнева, весь дом трепетал. Был случай, когда к обеду подали плохо зажаренный ростбиф, Андрей Евстафьевич пришел в бешенство, схватил блюдо с ростбифом и, к ужасу Любови Александровны, детей и служащих, пустил его в стену, а сам выскочил из-за стола и убежал. К счастью, такие припадки случались очень редко, а к старости и совсем прекратились, но в доме хозяина боялись и уважали.
Детей у Берсов народилось много: три дочери и пять сыновей.
В воспитании детей Любовь Александровна придерживалась традиций того круга, в котором она выросла. В доме жили гувернантки, дети говорили по-французски, по-немецки, было человек 10 служащих: лакеи, горничные, пова-
ра... Семья Берсов была принята во многих аристократических семьях в Москве; по субботам, как полагалось, устраивались танцклассы, то у Берсов, то еще чаще у Марии Николаевны Толстой, где дети Толстые — Лизанька, Варенька и Нико-ленька — танцевали вместе с детьми Берсов. Любовь Александровна приучала своих девочек к хозяйству и они, надев изящные, с кружевами, фартучки, помогали на кухне или в столовой.
Чем старше становились девочки Берсы, тем чаще Толстой посещал их. Здесь он не искал ответов на мучившие его религиозно-философские вопросы, вопросы народного образования, экономического улучшения крестьянского быта — здесь он искал другое: семейный уют, молодое, непосредственное веселье, общество хороших, порядочных девушек. Выскакивая из своего, как он говорил, «отшельничества», он должен был как молодой выпущенный на волю конь, хоть изредка, как выражались в семье Толстых, «взбрыкивать».
У Берсов было весело. Несмотря на буржуазно-спокойный уклад семьи, среди молодежи уже бушевали страсти. Царила та атмосфера, которую Толстой описал в «Войне и мире», в доме Ростовых. Постоянно вертелась молодежь, товарищи старшего сына, Саши Берса, кадеты, гимназисты, юнкера. Все были влюблены. Соня была влюблена в Поливанова, усиленно за ней ухаживавшего, Таня в своего двоюродного брата, Сашу Кузминского. Пели, танцевали, ставили спектакли... Казалось, 34-летний, уже получивший известность писатель, должен был бы нарушать веселье этой зеленой молодежи, но на самом деле Толстой своими приездами вносил еще больше веселья.
«Мы не чувствовали его возраста, — рассказывала впоследствии младшая из дочерей Берсов, Таня. — Когда он приезжал, все оживало: то поведет нас всех в лес на прогулку, сам заблудится, по дороге рассказывает нам какие-нибудь истории. Придем, бывало, домой, еле ноги тащим — измученные, голодные,
конечно опоздав к обеду. Мама недовольна, но Левочка умел состроить такое умильное лицо, так молит о прощении, что она, бывало, в конце концов рассмеется и простит»'.
Та же Таня рассказывает в своих воспоминаниях, как Толстой выдумал ставить оперу. У Тани был чудесный голос — лирическое сопрано, и она пела главную роль., брат ее Саша изображал рыцаря.
«Все шло своим чередом, — пишет Татьяна Андреевна Кузминская, — но вдруг Лев Николаевич шумно и громко заиграл в басу. Дверь отворилась и появился грозный муж в лице фрейлейн Безэ (гувернантка девочек Берс). Одета она была в охотничьи шаровары, с красной мантией через плечо, с приклеенными волосяными подкладками в виде бак. Она грозно пела басом, подбирая немецкие слова: «Trommel, Kummer, Kuche, Liebe»*, — причем грозно наступала на рыцаря. Ее маленькие черные глаза сверкали гневом. На голове была надета большая круглая шляпа, с длинным пером, брови были подрисованы и ее невозможно было узнать. Все это было так неожиданно и комично, что послышался неудержимый хохот Льва Николаевича. Я взглянула на него. Он весь трясся от смеха, перегибаясь в бок к роялю, выделывая при этом в басу громкие рулады. Его смех заразил всех»2.
Кто знавал Толстого — помнит, как он смеялся. Он смеялся, как смеются очень молодые существа, безудержно, прерывая иногда смех стонами изнеможения, всем телом раскачиваясь взад и вперед, смеялся до слез, сморкаясь и вытирая слезы; окружавшие часто, не зная даже в чем дело, глядя на него, тоже начинали смеяться.
Барышни Берс воспитывались строго, по-старинному. Выходить одним на улицу воспрещалось, не только поцеловаться с молодым человеком считалось преступлением, но даже поздороваться за руку было неприлично, девушка должна была, слегка наклонив голову, сделать легкий реверанс, и скромно отойти в сторону. Любовь Александровна приходила в ужас от все более и более внедрявшегося в интеллигентную среду вольнодумства, от всех этих девиц нигилисток, революционерок, шагавших по городу без родителей и гувернанток, а иногда даже и с мужчинами, читавших романы, революционные брошюры и статьи Герцена, и выбиравших себе мужей по своему вкусу, без совета и согласия родителей.
Все три барышни Берс были очень хорошенькие. Старшей, Лизе, было 18 лет, когда Толстой участил свои поездки в семью доктора. Лиза была самая образованная, много читала, хорошо знала математику, интересовалась философией, писала, и Толстой даже пробовал привлечь ее к работе над своим педагогическим журналом. На младших сестер своих Лиза смотрела сверху вниз — «Что, мол, эти легкомысленные девчонки понимали в жизни, кроме глупых игр, флирта и сентиментальных мечтаний». Все ее рассуждения были всегда логичны, замечания основательны, она была всегда права, когда жаловалась родителям на проступки своих братьев и сестер; но эта логичность и правота и вызывали страшное раздражение в молодежи, державшейся от нее в стороне. Бывало Соня и Таня, забыв о Лизином присутствии, размечтаются о чем-нибудь, строят планы о будущем, и вдруг спокойный металлический голос Лизы сразу рассеивает поэзию, рушит воздушные замки: «Вот дуры!» — бросает она, очень
Барабан, горе, кухня, любовь (нем.).
довольная тем, что своим замечанием прекратила всю эту глупую болтовню.
Младшая, Таня, была совершенной противоположностью своей старшей сестры. Худенькая и грациозная, с правильными чертами лица, которое немного портил слишком большой, чувственный рот, веселая, как ртуть подвижная, она была, несомненно, самая привлекательная из трех сестер. Она никого не боялась в доме, даже своего строгого отца, всегда всех тормошила, придумывала какие-то шалости, потихоньку читала романы, влюблялась и мечтала быть танцовщицей. Толстой прозвал ее Мадам Виардо за ее чудесный, чистый и необычайно приятный голос.
Из всех трех сестер Соня была самая красивая. Она была одного роста с Таней, тоненькая, прекрасно сложенная, причем особенностью ее сложения были узкие бедра, высокая талия, тонкости которой позавидовала бы любая кокетка, с тонкими, красивыми ногами, и только короткие, широкие пальцы на руках портили общую картину. Никакие румяна или белила не могли бы заменить нежности и красоты здорового, свежего румянца на ее щеках, придать большей белизны ее коже. Соня не так щедро расточала улыбки, как Таня, но когда она улыбалась или заливалась беззвучным смехом, что, впрочем, бывало очень редко, и сквозь полуоткрытые губы сверкали ослепительно-белые, здоровые зубы, и глаза сияли радостью и весельем — она была очень привлекательна. Соня была такая же живая, как Таня, походка быстрая, легкая, но движения ее не были такими ловкими, как у Тани. Соня была очень близорука и поэтому всегда казалась немного робкой и нерешительной. Очков тогда не носили — это портило бы лицо девушки, но она не щурилась, как это делают многие близорукие люди, наоборот, она широко раскрывала свои громадные, черные, чуть-чуть выпуклые вопрошающие глаза, придававшие особую прелесть выражению ее лица.
Т. А. Кузминская — Таня в своих воспоминаниях писала:
«Соня никогда не отдавалась полному веселью или счастью, чем баловала ее юная жизнь и первые годы замужества. Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им. Ей все казалось, что сейчас что-нибудь помешает ему или что-нибудь другое должно придти, чтобы счастье было полное. Эта черта ее характера осталась у нее на всю жизнь»3.
Отец знал в ней эту черту характера и говорил: «Бедная Сонюшка никогда не будет вполне счастлива*4.
Это же свойство неоправданной мечтательной грусти проскальзывает и в Сонином дневнике:
«Мне было так хорошо, так отрадно, так весело, — пишет она, и дальше, не объясняя почему, она вдруг впадает в грустное настроение. — Но недолго длилось все это, теперь стало так тяжело жить на свете»".
В Лизе не было никакой сентиментальности, в Тане ее было мало, в Соне это чувство было очень сильно. Она умилялась над красивым цветочком, трогательной книгой, над самой собой и своими чувствами.
И Таня, и Соня не представляли себе жизни без поэтического романа, Лиза относилась к вопросу здраво, рассудительно и ядовито подсмеивалась над сестрами.
Вся семья Берсов была очень практична. Образование для мальчиков, хорошие службы впереди, удачные замужества для трех дочерей — составляли мечты родителей.
Толстой в семье Берсов назывался «le Comte» и родители мечтали о том, что
старшая Лиза, которую пора было уже выдавать замуж, выйдет за этого, хотя и не очень молодого, но нашумевшего уже своими писаниями человека из аристократической семьи. Партия была хорошая.
Толстой как-то сказал своей сестре Марии Николаевне:
«Машенька, семья Берс мне особенно симпатична, и. если бы я когда-нибудь женился, то только в их семье»6.
Чем чаще ездил Толстой к Берсам, тем больше распускали свои языки гувернантки, бонны, тетушки, подружки, делая свои умозаключения. Ради кого мог так часто ездить в дом «le Comte»? Сомнения не было, конечно он приглядывался к старшей, самой разумной и рассудительной, Лизе. Постепенно окружающие внушили и самой Лизе эту мысль. Таня сразу подметила, что как только должен был появиться «le Comte», Лиза подолгу застаивалась перед зеркалом и вообще стала заниматься своей наружностью. Это было непохоже на Лизу и очень забавно, и Таня с любопытством продолжала свои наблюдения.
В дневнике своем от 22 сентября 1861 г. Толстой пишет: «Л(иза) Б(ерс) искушает меня; но это не будет. Один расчет недостаточен, а чувства нет». А в письме к А. А. Толстой от 10 февраля 1862 г. он писал: «Почти влюбился». Но он скоро понял, что чувство его не было настоящим и его тяготило создавшееся убеждение семьи, что он должен жениться на Лизе. «У Берсов свободнее, меня немного отпустили на волю», — пишет он в дневнике 20 мая 1862 г.
В начале августа семья Берс — Любовь Александровна, три девушки и маленький Володя — предприняли большое путешествие в Тульскую губернию, к Толстым в Ясную Поляну и к родителям Любови Александровны — Исленьевым, в их имение Ивицы. Железной дороги между Москвой и Тулой тогда еще не было и Берсы наняли большую, так называемую Анненскую карету для этой поездки.
В Ясной Поляне Любовь Александровну встретила ее друг Мария Николаевна, уже собиравшаяся выехать с детьми за границу, тетенька Татьяна Александровна и сам гостеприимный хозяин Толстой. Можно себе представить, какое оживление внесли Берсы в тихий, почти патриархальный уклад Ясной Поляны. Пошла суета. Надо было всех разместить, накормить, забегали слуги, затормошилась тетенька, но больше всех хлопотал сам хозяин. Устраивая всех на ночлег, он сам непривычными, большими руками с особой нежностью стелил постель Соне на длинном дедовском кресле, в комнате «под сводами». Он радовался, что всем было хорошо, что по дому раздавались веселые, молодые голоса, звуки рояля, пение. Ему хотелось показать Берсам свои любимые места в Ясной Поляне и окрестностях, заливные луга, перелески, дремучую Засеку с ее вековыми дубами. Здесь, в казенном лесу, на поляне, устроили пикник... Все забавляло девушек Берс: и верховая езда, и прогулки, и охотничьи собаки, крутившиеся по усадьбе, и замечательная линейка «катки», как она называлась — специальное Яснополянское сооружение, необычайно длинный и тряский экипаж, на котором могло уместиться человек 12, спиной друг к другу, по шесть человек с каждой стороны, и зреющие на горячем августовском солнце яблоки и груши, и молодые учителя, неумело гарцующие на лошадях перед молодыми девушками...
Все это было чудесно, как в сказке, и всем было весело, особенно Соне, которая невольно, женским тонким чутьем своим чувствовала, что она нравится и что «le Comte» уделяет ей все больше и больше внимания. И то, чего не хотели замечать Любовь Александровна и сама Лиза, давно уже было подмечено востроглазой Таней: «le Comte» явно ухаживал за Соней.
Из Ясной Поляны Берсы поехали к Исленьевым в имение Ивицьт. Когда-то блестящий, красивый, с бурным прошлым старик, теперь тихо доживал свой век в деревне, со своей второй женой.
После отъезда Берсов Ясная Поляна опустела. Толстому стало скучно, чувство более сильное, чем желание быть с молодежью, потянуло его за ними. Не прошло и двух дней, как он верхом приехал в Ивицы. А здесь уже шел дым коромыслом. Из соседних имений понаехала молодежь, горевшая любопытством познакомиться с московскими барышнями. Опять устраивались пикники, прогулки, по вечерам молодежь танцевала, старики играли в карты.
Толстой старался быть с Соней, Лиза ревновала, сердилась на Соню, жених, которою она так долго и усиленно завлекала в свои сети, отходил от нее все дальше и дальше.
Уже вечер близился к концу и Любовь Александровна гнала своих дочерей спать, когда Толстой вдруг окликнул Соню. В гостиной старички только что кончили играть в карты и на зеленом сукне еще не были стерты цифры, написанные мелом. Толстой позвал Соню к одному из столов, очистил щеточкой карточные записи и стал писать начальные буквы слов, ожидая, что Соня поймет их значение.
Сцена эта записана в «Анне Карениной» и в дневнике Софьи Андреевны Толстой. Трудно сказать, какая запись более соответствует действительности. Несомненно одно: чувство невысказанной любви владело обоими, нервное напряжение, желание понять друг друга дошло до крайних пределов и когда Толстой, взявши мелок, начал писать лишь начальные буквы слов, Соня ловила все слово. Иногда она останавливалась и Толстой подсказывал ей и писал дальше... Это было почти что объяснение в любви. «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья»... «В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру, Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой» , — писал Толстой дальше, опять лишь начальными буквами. И когда Соня опять прочла и назревало объяснение, раздавшийся недовольный материнский голос, требовавший, чтобы Соня шла спать, нарушил его...
На обратном пути из Ивиц в Москву Берсы опять заехали ненадолго в Ясную Поляну и оттуда поехали в Москву. Толстой поехал с ними.
В Москве Толстой продолжал бывать у Берсов. Отношения с Лизой явно тяготили его: «Боже мой! Как бы она была красиво несчастлива, ежели бы была моей женой», — писал он в дневнике от 8 сентября 1862 года, — Вечером она долго не давала мне нот. Во мне все кипело». «Лизу я начинаю ненавидеть вместе с жалостью». — писал он в дневнике от 10 сентября 1862 г.
Старик Берс сердился. По его понятиям, надо было выдавать дочерей по старшинству. Ничего не было хорошего в том, что Толстой стал явно ухаживать за второй дочерью Соней. Соня выскочит замуж, сделает хорошую партию, а старшая, глядишь, и засидится. Любовь Александровна страдала за Лизу, волновалась за Соню. Таня жалела Лизу, сочувствовала Соне, все больше и больше привязывалась к le Comte'y, а Толстой терзался сомнениями, анализируя с обычной своей прямотой и честностью захватившее его чувство. «Ночевал у Берсов. — писал он в дневнике от 23 августа 1862 года. — Ребенок! Похоже! А путаница большая! О, коли бы выбраться на ясное и честное кресло!.. Я боюсь
себя; что ежели и это желание любви, а не любовь? Я стараюсь глядеть только на ее слабые стороны и все-таки оно. Ребенок! Похоже».
Его наружность, возраст — мучили его и. не переставая, терзал вопрос: любит ли она его? Узнав, что Соня писала дневник и повесть, Толстой стал просить, чтобы она дала ему прочитать свои писания. Она отказалась дать дневник, но дала повесть. Это было наивное описание жизни трех девушек Берс, их увлечений, описание романа между Соней и молодым Поливановым, а сам le Comte фигурировал в этой повести как князь Дублицкии «необычайно непривлекательной наружности».
«Начал работать и не могу, — -писал Толстой 9 сентября. — Вместо работы написал ей письмо, которое не пошлю. Уехать из Москвы не могу, не могу... До трех часов не спал. Как 16-летний мальчик мечтал и мучился»9.
«Проснулся 10 сентября в 10, усталый от ночного волнения. Работал лениво и, как школьник ждет воскресенья, ждал вечера. Пошел ходить... и в Кремль. Ее не было... приехала строгая, серьезная. И я ушел опять обезнадеженный и влюбленный больше чем прежде. Au fond* сидит надежда. Надо, необходимо надо разрубить этот узел. Господи! Помоги мне, научи меня. — Опять бессонная и мучительная ночь, я чувствую, я, который смеюсь над страданиями влюбленных. Чему посмеешься, тому и послужишь. Сколько планов я делал сказать ей, Танечке, и все напрасно... Господи, помоги мне, научи меня. Матерь Божья, помоги мне...» «Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить, — писал он в дневнике от 12 сентября 1862 года. — Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится. Был у них вечер. Она прелестна во всех отношениях. А я — отвратительный Дублицкий. Надо было прежде беречься. Теперь уже я не могу остановиться. Дублицкии — пускай, но я прекрасен любовью. Да. Завтра пойду к ним утром. Были минуты, но я не пользовался ими. Я робел, надо было просто сказать. Так и хочется сейчас идти назад и сказать все и при всех. Господи, помоги мне».
Напряжение росло.
«Завтра пойду, как встану, и все скажу или застрелюсь, — писал он 13 сентября. — Четвертый час ночи. Я написал ей письмо, отдам завтра, т. е. нынче 14-го. Боже мой, как я боюсь умереть. Счастье, и такое, мне кажется невозможно. Боже мой! Помоги мне!»
16 сентября Толстой, по обыкновению, был у Берсов — это была суббота. Приехал Саша Берс из кадетского корпуса, понаехала молодежь. Выбрав минутку, когда в комнате никого не было, Толстой передал Соне письмо: «Я хотел с вами поговорить, — начал он, — но не мог. Вот письмо, которое я уже несколько дней ношу в кармане. Прочтите его. Я буду здесь ждать вашего ответа»9, — сказал он ей.
Соня помчалась в комнату, где она жила со своими сестрами. Но Лиза, поняв, что что-то происходит особенное, побежала за ней. Она не дала Соне дочитать письма. «Что он тебе пишет, что?» — приставала она к сестре. «Le Comte» сделал мне предложение, — ответила Соня и побежала к матери. Лиза была вне себя. — «Откажись, откажись», — кричала она ей вдогонку...
«Софья Андреевна, — писал Толстой, — мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю: нынче все скажу, и ухожу с той же тоской, раскаянием,
* В глубине (фр.).
страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю: зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собой это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или не достанет духу сказать вам все. Ложный взгляд вашего семейства на меня состоит в том, как мне кажется, что я влюблен в вашу сестру Лизу. Это несправедливо. Повесть ваша засела у меня в голове, оттого что, прочтя ее, я убедился в том, что мне, Дублицкому, не пристало мечтать о счастье, что ваши отличные поэтические требования любви... что я не завидую и не буду завидовать тому, кого вы полюбите. Мне казалось, что я могу радоваться на вас, как на детей. В Ивицах я писал: «Ваше присутствие слишком живо напоминает мне мою старость и невозможность счастья, и именно вы». Но и тогда и теперь я лгал перед собой. Еще тогда я мог бы оборвать все и опять пойти в свой монастырь одинокого труда и увлечения делом. Теперь я ничего не могу, а чувствую, что напутал у вас в семействе; что простые, дорогие отношения с вами, как с другом, честным человеком, потеряны. И я не могу уехать и не смею остаться. Вы честный человек, руку на сердце, не торопясь, ради Бога, не торопясь, скажите, что мне делать? Чему посмеешься, тому поработаешь. Я бы помер со смеху, если бы месяц тому назад мне сказали, что можно мучаться, как я мучаюсь, и счастливо мучаюсь это время. Скажите, как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете сказать: «да», а то лучше скажите: «нет», ежели в вас есть тень сомнения в себе. Ради Бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услыхать «нет», но я его предвижу и найду в себе силы снести. Но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, — это будет ужасно!»10
Соня не думала ни одной минуты. Как ураган помчалась она в комнату матери, где ждал ее Толстой.
— Ну что? — спросил он.
— Разумеется, да, — ответила Соня.
Через неделю была свадьба. Любовь Александровна была в ужасе, когда Толстой решительно потребовал, чтобы свадьба не откладывалась ни на один день. «Приданое?» Какое это имело значение в глазах Толстого? Соня всегда была прекрасно одета, что еще нужно? Но все же приданое поспешно шилось и сам Толстой старался добросовестно исполнять все, что требовало от него положение жениха: возил подарки, заказывал фотографии, купил дормез для свадебного путешествия. Все это он делал, потому что так полагалось, но другие мысли мучили его — его прошлая жизнь, его моральная загрязненность по сравнению с той кристально чистой девушкой, которую он избрал себе в жены. Что она знала о жизни? Подозревала ли она о его прошлых грехах, увлечениях? «Вы не любили?» — спросила она как-то у него. А что если она, узнав правду, откажется от него? И он решил дать ей прочитать свои дневники. «И напрасно, — писала Соня в своем дневнике, — я очень плакала, заглянув в его прошлое»11.
В день свадьбы, по принятому обычаю, жених не должен был видеть своей невесты. Каков же был ужас Любови Александровны, когда она, зайдя в комнату Сони, нашла там Толстого и горько плачущую Соню. Оказалось, что в последнюю минуту Толстой вдруг усумнился в Сониной любви и приехал объясняться: «Нашел когда ее расстраивать, — напала Любовь Александровна на Левочку. — Сегодня свадьба, ей и так тяжело, да еще в дорогу надо ехать, а она вся в слезах»12. И она прогнала его.
Свадьба была назначена в семь часов вечера. Соня в подвенечном платье, сидела и ждала шафера жениха, который должен был приехать за невестой и объявить, что жених в церкви. Но пробило семь часов, никто не приезжал. Прошло еще полчаса, час... Соня, под впечатлением тяжелого разговора, происшедшего утром между ней и женихом, волновалась, мучалась сомнениями... В восемь тридцать приехал Алексей — лакей Толстого. Оказалось, что слуги уложили все графские рубашки и жениху нечего было надеть.
Но вот, наконец, шафер приехал, Соню в облаках тюлевого венчального платья усадили в карету вместе с тетушкой Пелагеей Ильиничной и маленьким братом Володей — мальчиком с образом — и повезли в дворцовую церковь.
Понаехало множество гостей, церковь была битком набита, но свадьба была невеселая. Соня растерялась и заробела. Лиза избегала жениха и невесту и явно страдала. Любовь Александровна едва сдерживала слезы, неожиданно приехал отверженный молодой, красивый, в гвардейском мундире Поливанов, которому Саша Берс объявил грустную новость о сонином замужестве. Плакал маленький Петя, плакали старые слуги, и горько разливалась в слезах Таня, понявшая какое одиночество ждет ее после отъезда сестры...
После венчания, приняв поздравления, молодые переоделись. Соня казалась худенькой и бледной в своем темно-синем дорожном платье. К крыльцу подкатил новый дормез, запряженный шестеркой лошадей, верный слуга Алексей вскочил на запятки и молодые уехали.
Они ехали меньше суток. В Ясной Поляне их торжественно встретила тетенька Татьяна Александровна, с образом Знамения Божьей Матери, и Сергей Толстой, с хлебом и солью. Молодые молча поклонились им в ноги, перекрестились, поцеловали образ и нежно расцеловались с тетенькой.
С этого дня все переменилось для Толстого, все приобрело иной смысл, иное значение — рядом с ним была любимая и любящая жена. Он уже был не один!
Многое писалось об отношениях Толстого с женой. Некоторые авторы невольно защищали ту или иную сторону, обвиняя либо Толстого, либо его жену в той драме, которой завершилась их совместная, сорокавосьмилетняя жизнь. Думаю, что писать беспристрастно об этом вопросе — задача невыполнимая, и, бросая это обвинение многочисленным авторам, писавшим о Толстом, я не думаю исключать себя из их числа. Я вполне сознаю, что в своей книге «Трагедия Толстого» я сделала ту же ошибку, недостаточно вдумавшись в глубину и сложность создавшихся отношений между моими родителями. Я резко встала на сторону отца, обвиняя мать. Но я надеюсь, что теперь, дожив до старости и поняв многое, что раньше, по молодости лет, было мне недоступно, я смогу подойти к этому сложному вопросу более беспристрастно, попытаться, насколько возможно, проникнуть в тайны психологических тонкостей этих двух сложных, сильных и цельных характеров. С одной стороны, мне это легче сделать, чем посторонним людям. Вспыльчивость, излишняя уступчивость отца, страстность обоих родителей, резкость матери, граничащая иногда с бестактностью, ее живость, поверхностность в решении тех или иных глубоких вопросов — все эти свойства перемешались, воплотились в моем существе. С другой стороны, дочери тяжело писать об интимной жизни своих родителей, писать не только об их достоинствах, но и об их недостатках.
Я постараюсь в этой книге дать беспристрастное описание действующих лиц,
их жизни, психологии, без собственной оценки. Личность автора, его суждения должны, по возможности, отсутствовать. Насколько эта чрезвычайно трудная, почти невыполнимая задача мне удастся — не знаю!
Соня не знала жизни. Она выросла в спокойной семейной кремлевской обстановке, поэтизируя, мысленно играя, как недавно еще она играла в куклы, в будущую свою семейную жизнь, в роман с «ним», со своим будущим мужем — молодым, красивым, поэтичным. То, что случилось, было неожиданно, молниеносно, совсем не то, о чем она мечтала. Вихрем ворвался в ее жизнь этот не молодой уже, не совсем понятный, могучий человек, опалил ее своей безудержной страстью, перенес ее к себе в чуждый ей, незнакомый мир. Все было совсем, совсем другое. И старенькая тетенька со своими приживалками, любопытными, жадными глазами рассматривавшими и оценивавшими молодую графиню, и новые служащие, к которым надо было привыкнуть и которых надо было приучить к себе, и грубые деревенские бабы и мужики, и чуждые учителя, и тишина, и вязкая грязь во дворах и на дорогах — все было дико и непривычно.
На другой день после приезда, по старинному обычаю, деревенские бабы пришли величать молодых. Громкое, веселое пение слышно было еще издали с деревни. Ближе, ближе толпа по пришпекту подходила к дому. Впереди толпы, разряженной в яркие сарафаны, в расшитые рубахи, в клетчатые, отороченные золотыми, красными и зелеными лентами паневы, шли две бабы, держа в руках разукрашенных яркими лентами петуха и курицу.
Молодые вышли на крыльцо. Соня смущенно, своими близорукими глазами, разглядывала яркую толпу. Бабы пели, хлопая в ладоши приплясывали и всячески выражали свой восторг. «Вот так граф! Какую красавицу молодайку подхватил себе в Москве!» Своими простыми, грубоватыми замечаниями они смущали, вгоняли в краску молодую графиню, не знавшую что делать с трепыхавшими в ее руках пестрыми птицами.
С первых же дней Соня изо всех сил старалась приспособиться к новой жизни. Как ребенок, она забавлялась разборкой своих вещей, устройством уютной комнаты, важно сидела за пузатым самоваром, разливая чай, как большая, и с гордостью подписывала свои письма «гр. (афиня) С. Толстая»1.
«Она нынче в чепце с малиновыми бантами, ничего! — приписывает Толстой к письму Тане Берс — И как она утром играла в большую и в барыню — похоже и отлично»2.
Он был влюблен как 17-летний юноша. «Неимоверное счастье! — писал он в дневнике от сентября 25 1862 г. — Не может быть, чтобы это все кончилось только жизнью!»
«Любезный, дорогой друг и бабушка! — писал он 28 сентября 1862 года Александрии Толстой. — Пишу из деревни, пишу и слышу наверху голос жены, которая говорит с братом и которую я люблю больше всего на свете... Когда буду спокойнее, напишу вам длинное письмо — не то что спокойнее, — я теперь спокоен и ясен, как никогда не бывал в жизни, — но когда буду привычнее».
Перемена в жизни его была так огромна, что он никак не мог опомниться. «Фетушка, дяденька, и просто милый друг Афанасий Афанасьевич, — писал он Фету 9 октября 1862 г. — Я две недели женат и счастлив, и новый, совсем новый человек. Хотел я сам быть у вас, но не удается. Когда я вас увижу? Опомнившись, я дорожу вами очень и очень... Заезжайте познакомиться со мной».
Но безоблачного счастья не бывает. Стали набегать тучки, вспыхивали недоразумения, ссоры. Соня была слишком молода, чтобы понять своего мужа таким, каков он был: широким и бурным, как море, страстным грешником с порывами святого; беззубого и старого, но веселого и беззаботного, как ребенок, иногда до примитивности простого и наивного и столь многосложного, что и сам он терялся и путался в своих глубинах.
«Всегда, с давних пор, — писала она в дневнике, — я мечтала о человеке, которого я буду любить, как о совершенно целом, новом, чистом человеке. Я воображала себе, это были детские мечты, с которыми до сих пор трудно расстаться, что этот человек будет всегда у меня на глазах, что я буду знать малейшую его мысль, чувство... Все его (мужа) прошедшее так ужасно для меня, что я. кажется, никогда не помирюсь с ним...» «Он не понимает, что его прошедшее — целая жизнь с тысячами разных чувств хороших и дурных, которые мне уже принадлежать не могут, точно так же, как не будет мне принадлежать его молодость, потраченная Бог знает на кого и на что. И не понимает он еще того, что я ему отдаю все, что во мне ничего не потрачено, что ему не принадлежало только детство» .
Ссоры вспыхивали, но в основном не нарушали его счастья. В безумном увлечении своем он не чувствовал того, что она чутким женским инстинктом уже начала понимать. «Я вижу, — пишет она в дневнике от 9 октября 1862 г., — это правда, что я ему даю мало счастья. Я вся как-то сплю, и не могу проснуться. Если б я проснулась, я стала бы другим человеком. А что надо для этого — не знаю. Тогда бы он видел, как я люблю его, тогда я могла бы говорить, рассказать ему, как я его люблю, увидела бы, как бывало, ясно, что у него на душе, и знала бы, как сделать его совсем счастливым. Надо, надо скорей проснуться» .
Тоской, горечью, душевной неудовлетворенностью и детской беспомощностью проникнуты Сониньт дневники. И это две, три недели после свадьбы! «Не
хочу попадать в общую колею и скучать, — пишет она в дневнике 13 ноября, — да и не попаду. Я бы хотела, чтобы муж имел на меня больше влияния. Странно, я его ужасно люблю, а влияния еще чувствую мало».
«Качаюсь между прожитым и настоящим с будущим, — пишет она в дневнике от того же числа (ноября 13). — Муж меня слишком любит, чтобы уметь дать направление, да и трудно, сама выработаюсь...»5
Разная среда вскормила их. Она была городская, он, муж, не то что любил, но он был частью деревенской жизни, без которой он, по самой сути своего существа, не мог жить и быть счастливым.
«Он мне гадок со своим народом, — пишет Соня в дневнике от 23 ноября. — Я чувствую, что или я, т. е. я, пока представительница семьи, или народ с горячей любовью к нему Л. Это эгоизм. Пускай. Я для него живу, им живу, хочу того же, а то мне тесно и душно здесь, и я сегодня убежала, потому что мне все и все стало гадко. И тетенька, и студенты, и Н. П.*, и стены, и жизнь, и я чуть не хохотала от радости, когда убежала одна тихонько из дому. Л. мне не был гадок, но я вдруг почувствовала, что он и я по разным сторонам, т. е. что его народ не может меня занимать всю, как его, а что его не может занимать всего я, как занимает меня он. Очень просто. А если я его не занимаю, если я кукла, если я только жена, а не человек, так я жить так не могу и не хочу»6.
Соня охотно и весело помогала мужу в некоторых понятных и доступных ей областях хозяйства.
Толстой в то время был страстно увлечен улучшением хозяйства Ясной Поляны: то в перелеске за речкой Воронкой устраивал пасеку, где старый, бородатый, белый, как лунь, старик ухаживал за пчелами, то целые поля засаживал деревьями, то разводил яблоневый сад, покупал овец, мечтал завести каких-то необычайных японских свиней и писал своему тестю, «что не может быть счастлив, если не купят ему японских поросят»7.
Управляющего не было и он сам распоряжался рабочими и Соня была его ближайшим помощником. Повесив на пояс связку ключей, она с важным, значительным видом выдавала провизию из кладовых и амбаров, одно время проверяла удой коров, хлопотала по дому.
Старания ее трогали его и он любовался ею. Как умел, он старался развлекать ее. В тихие морозные дни или вечера он катал ее в санях на тройке и радовался, когда она, укутавшись в меховую шубку и баранью полость, раскрасневшись, наслаждалась, как ребенок, и его любовью, и красотой природы и быстротой езды. Но развлечений было мало. Она скучала по родным, по молодежи и по городу. Народ — мужики, бабы, грубые существа созданы, по ее понятиям, только для того, чтобы работать на господ, учителя раздражали ее не совсем чистыми ногтями и тем, что ели с ножа, тетенькины приживалки надоедали ей, а он, муж, то и дело отвлекающийся от нее своими чуждыми интересами, был непонятен и труден.
«Страшно с ним жить, — пишет она в дневнике от того же числа, — вдруг народ полюбит опять, а я пропала, потому и меня любит, как любил школу. природу, народ, может быть, литературу свою, всего понемногу... А тут все тетенька, Н. П., опять тетенька, опять Н. П., студенты вперемежечку. Муж не мой и немой сегодня»8.
* Наталья Петровна Охотницкая — приживалка при тетеньке Татьяне Александровне.
Ко всему этому, как на грех, случилась беда. По обыкновению, бабы с деревни пришли на барский двор мыть полы. Одной из них была Аксинья Базыкина...
«Мне кажется, я когда-нибудь себя хвачу от ревности», — записывает Соня в дневнике от 16 декабря 1862 года, и дальше с чувством горькой иронии приводит слова своего мужа из его дневника: «,,Влюблен, как никогда!" И просто баба, толстая, белая, ужасно... И она тут в нескольких шагах. Я просто как сумасшедшая... Могу ее сейчас же увидеть. Так вот как он любил ее. Хоть бы сжечь журнал его и все его прошедшее...»
Сцена ревности — примирение, страстные объяснения в любви...
Временами ей казалось, что она свыкается со своей жизнью. «Я понемногу мирюсь со всеми. И студентами, и народом, и тетенькой, — конечно, и всем, что прежде бранила. Сильно влияние Левы, и радостно мне чувствовать его над собой»10.
Порою он тосковал без художественной работы, он чувствовал, что он слишком погрязал в семейной жизни, в хозяйстве, школьное дело начинало тяготить его. «По правде сказать, — писал он Лизе, — журнальчик мой начинает тяготить меня, особенно необходимые условия его: студенты, корректуры, etc., etc., а так и тянет теперь к свободной работе de longue haleine* — роман или т. п.»
И 1 октября 1866 года он записывает в дневнике: «со студентами и с народом распростился».
Октября 15-го он снова подтверждает это решение: «Журнал решил кончить, школы — тоже, кажется...».
Цензурное разрешение о напечатании журнала № 9 «Ясная Поляна», полученное 5 ноября, со статьей «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят», которой он был так увлечен, уже мало волновало его. Интересы школы отошли на задний план.
Октября 15-го он записывает: «Все это время я занимаюсь теми делами, которые называются практическими только. Но мне становится тяжела эта праздность. Я себя не могу уважать».
Несмотря на шероховатости семейной жизни, он был счастлив и, что самое главное, женитьба успокоила его.
«Куда это идет? — писал он Александрии Толстой. — Не знаю, только с каждым днем мне спокойнее и лучше... я отрекся от своего прошедшего, как никогда не отрекался, чувствую свою мерзость всякую секунду, примериваясь к ней, к Соне, «но строк печальных не смываю»**. Так страшно, ответственно жить вдвоем... Ужасно страшно мне жить теперь, так чувствуешь жизнь, чувствуешь, что всякая секунда жизни вправду, а не такая как прежде была — так покаместь».
А в дневнике от 5 января 1863 г. он записывает:
«Часто мне приходит в голову, что счастье и все особенные черты его уходят, а никто его не знает и не будет знать, а такого не было и не будет ни у кого, и я сознаю его... Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу: она смотрит на меня и любит. И никто, — главное, я не мешаю ей любить, как она знает, по-своему. Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем, и она скажет: "Левочка, — и остановится, — отчего трубы в
* На продолжительное время (фр.).
** Из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание».
камине проведены прямо?" или: "лошади не умирают долго?" и т. п. Люблю, когда мы долго одни и я говорю: "Что нам делать? Соня, что нам делать?" Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня, и вдруг, в мгновение ока, у нее и мысль и слово иногда резкое: «оставь, скучно». Через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю я, когда она меня не видит и не знает, и я ее люблю по-своему. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык. Люблю, когда я вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное, и испуганное, и детское, и страстное лицо. Люблю когда...»
Оба они ревновали друг друга до безумия. Он ревновал ее ко всякому мужчине, с которым она разговаривала, ко всем, кто смел восхищаться ею; она же не в силах была простить ему его прошлое, горько упрекала его за прошлые увлечения, ревновала его ко всякой молодой женщине, с которой он встречался, даже к собственной сестре Тане.
Иногда он не выдерживал и раздражался: «Мы в Москве, — писал он в дневнике от 27 декабря 1862 г. — Как всегда я отдал дань нездоровьем и дурным расположением. Я очень был недоволен ею, сравнивал ее с другими, чуть не раскаивался, но знал, что это временно и выжидал, и прошло».
Несколько дней спустя он записывает: «Соня трогает боязнью... Я всегда буду ее любить».
Но «приливы и отливы», как Толстой называл эти перемежающиеся настроения, в основном не нарушали их счастья, не мешали им прочно любить друг друга.
Оба они были до глубины честные люди, оба смотрели на брак, как на нечто святое, нерушимое, приходили в отчаяние от ссор и радовались, когда каждый по-своему справлялся с трудностями своих характеров и наступал мир.
Но было одно основное различие в их отношениях. Толстой считал, что он старый, искушенный в прошлых падениях великий грешник, недостойный ее и это мучило его. Соня не могла отрешиться от мысли, что она принесла себя в жертву человеку старше ее, с нечистым прошлым, и мысли эти терзали ее.
В дневнике от 23 января Толстой писал: «все страх, что она молода и многого не понимает и не любит во мне, и что много в себе она задушает для меня, и все эти жертвы инстинктивно заносит мне на счет».
Сплошь да рядом в дневнике появляются подобные записи: «Я все больше и больше люблю. Нынче седьмой месяц и я испытываю давно не испытанное сначала чувство уничтожения перед ней. Она так невозможно чиста и хороша и цельна для меня».
Уже будучи матерью. Соня была еще настоящим ребенком. «Зажгла две свечи, села за стол, и мне стало весело. Я малодушна, пуста. Мне нынче беспечно, лениво и весело. Мне все смешно и все нипочем, — писала она в дневнике от 19 декабря 1863 г. — Меня злит, что Лева мало занимается и даже совсем не чувствует и не понимает, что я его так люблю; и за это мне хотелось бы ему что-нибудь сделать. Он стар и слишком сосредоточен. А я нынче так чувствую свою молодость, и так мне нужно чего-нибудь сумасшедшего. Вместо того, чтобы ложиться спать, мне хотелось бы кувыркаться. А с кем?»11
Первый сын Толстого родился 27 июня 1863 года и назвали его Сергеем.
Событие это оставило громадный след в душе Толстого и, как всегда, нашло отражение много лет спустя в его романе «Анна Каренина», когда Левину показали «это странное, качающееся и прячущее свою голову за края пеленки красное
существо». Его поразило, что «были тоже нос, косившиеся глаза и чмокающие губы... Этот прекрасный ребенок внушал ему только чувство гадливости и жалости. Это было совсем не то чувство, которого он ожидал. Личико старческое вдруг еще более сморщилось, и ребенок чихнул».
То, «что он испытывал к этому маленькому существу, было совсем не то, что он ожидал, — пишет дальше Толстой, — Ничего веселого и радостного не было в этом чувстве; напротив, это был новый, мучительный страх. Это было сознание новой области уязвимости. И это сознание было так мучительно первое время, страх за то, чтобы не пострадало это беспомощное существо, был так силен, что из-за него и незаметно было странное чувство бессмысленной радости и даже гордости, которое он испытывал, когда ребенок чихнул».
Успокоившись, Толстой постепенно возвращался к литературному творчеству: заканчивал «Казаков», писал «Поликушку», пытался писать рассказ из крестьянской жизни — идиллию — «Тихон и Маланья», писал историю пегого мерина Холстомера, в которой он переносит нас, со свойственной ему художественной силой, в психологию лошади и заставляет нас переживать вместе с ним горести этого мерина.
Успех «Казаков» вдохновил Толстого. Особенно порадовал его отзыв Фета, который писал: «Сколько раз я Вас обнимал заочно при чтении "Казаков"... "Казаки" в своем роде chef d'oeuvre»12.
«Казаки» вызвали целый ряд критических статей. Все критики в один голос отмечали выдающиеся художественные достоинства повести, и почти все осуждали автора за его страстный протест против цивилизации. «Перед вами поэма, — писала Евгения Тур, — где воспеты не с дюжинным, а с действительным талантом отвага, удаль, жажда крови и добычи, охота за людьми, бессердечность и беспощадность дикаря-зверя. Рядом с этим дикарем-зверем унижен, умален, изломан, изнасилован представитель цивилизованного общества... Автор силится доказать, что дикие велики и счастливы, образованные — низки, мелки и несчастливы»13.
Тургенев также выражал свое восхищение повестью «Казаки»: «Перечел я роман Л. Н. Толстого "Казаки" и опять пришел в восторг. Это вещь поистине удивительная и силы чрезмерной» — писал он Борисову 5 июня 1864 г.14
А Толстой между тем писал Фету: «Я живу в мире столь далеком от литературы и ее критики, что, получая такое письмо, как Ваше, первое чувство мое — удивление. Да кто же это такое написал "Казаков" и "Поликушку"? Да и что рассуждать о них? Бумага все терпит, а редактор за все платит и печатает. Но это только первое впечатление; а потом вникнешь в смысл речей, покопаешься в голове и найдешь так где-нибудь в углу между старым забытым хламом, найдешь что-то такое неопределенное, под заглавием художественное... даже удовольствие найдешь покопаться в этом старом хламе и в этом старом когда-то любимом запахе. И даже писать захочется... Теперь я пишу историю пегого мерина; к осени, я думаю, напечатаю».
«Неопределенное» приобретало все более и более реальные формы. Осенью 1863 года он писал другу своему Александрии Толстой: «Вы узнаете мой почерк и мою подпись; но кто я теперь и что я, вы, верно, спросите себя. Я муж и отец, довольный вполне своим положением и привыкнувший к нему так, что для того, чтобы почувствовать свое счастие, мне надо подумать о том, что бы было без него. Я не копаюсь в своем положении (grübeln оставлено) и в своих чувствах, и
только чувствую, а не думаю о своих семейных отношениях. Это состояние дает мне ужасно много умственного простора. Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа есть у меня. Работа эта — роман из времени 1810 и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени. Доказывает ли это слабость характера или силу — я иногда думаю: и то и другое, — но я должен признаться, что взгляд мой на жизнь, на народ и на общество теперь совсем другой, чем тот, который у меня был в последний раз, как мы с вами виделись. Их можно жалеть, но любить, мне трудно понять, как я мог так сильно. Все-таки я рад, что прошел через эту школу; эта последняя моя любовница меня очень формировала. — Детей и педагогику я люблю, но мне трудно понять себя таким, каким я был год тому назад. Дети ходят ко мне по вечерам и приносят с собой для меня воспоминания о том учителе, который был во мне и которого уже не будет. Я теперь писатель всеми силами своей души, и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал».
В 1918 году, в самый разгар революции, я приняла деятельное участие в создании Общества изучения творений Л. Н. Толстого. В Общество вошли известные историки литературы и ученые того времени: А. Ф. Кони, Н. К. Пиксанов, А. Е. Грузинский, А. А. Шахматов, В. И. Срезневский, М. А. Цявловский и другие. Всеми этими учеными, при содействии некоторых толстовцев и моего брата Сергея, была произведена большая научная работа по разработке 12 ящиков рукописей Толстого, приведению их в порядок, фотографированию, переписке и подготовке первого полного юбилейного собрания сочинений Толстого, издание которого впоследствии и было предпринято Государственным издательством Советского Союза. Предполагалось, что издание это, включающее в себя все письма и дневники Толстого, составит около 82 томов и будет выпущено в 1928 году, к 100-летнему юбилею со дня рождения Толстого. Однако, прошло с тех пор уже более 24 лет, а Государственное издательство до настоящего времени выпустило лишь 41 том этого исключительного по своей ценности издания, которое действительно является капитальным трудом в смысле исследования творчества Толстого лучшими русскими учеными в области русской литературы.
12 ящиков, хранящихся в Московском Румянцевском музее, были разобраны Обществом изучения творений Л. Н. Толстого, среди них были рукописи «Войны и мира».
Моя мать всю жизнь бережно хранила черновые записи Льва Николаевича и никогда не выбрасывала ни одной бумажки, написанной его рукой. Рукописи «Войны и мира» складывались в одну из нежилых комнат в Яснополянском доме и многие годы никто их не трогал. Но случилось так, что когда старший сын Сергей подрос, ему понадобилась эта комната и, очищая ее от всякого хлама, он не заметил, что в числе других ненужных бумаг, он выкинул в канаву рукописи «Войны и мира». К счастью, моя мать это заметила и спасла их. Со временем она заказала 12 деревянных ящиков, в которые, без особого порядка, сложила все толстовские рукописи и отдала их на хранение в Румянцевский музей в Москве.
Рукописи «Войны и мира» мало пострадали в канаве. Все они были разобраны, напечатаны и по ним мы можем судить о той грандиозной работе, которую Толстой проделал над своим романом.
Участвуя в разборке рукописей отца, что было делом нелегким, так как отец
писал неразборчиво и вносил невероятное количество поправок, зачеркивал, вставлял между строк, на полях, на обороте листов — мне удалось до известной степени проследить и самый процесс его творчества, который всемерно подтверждается проф. А. Е. Грузинским, работавшим над редакцией «Войны и мира»1.
В самой первой стадии творчества — Толстой обдумывает. Рождаются смутные образы, замыслы, он ищет, нащупывает, обрисовывает, стирает, добавляет новые штрихи. Образы еще расплывчаты, неясны, они еще под вопросом. Постепенно Толстой познает их и они начинают жить, думать, чувствовать, действовать, грешить и Толстой уже владеет ими, любит их. В письме к Александре Андреевне Толстой, в январе 1865 года. Толстой пишет: «На днях выйдет 1-ая половина 1-ой части романа 1805 года. Скажите мне свое чистосердечное мнение. Я бы хотел, чтобы вы полюбили моих этих детей. Там есть славные люди. Я их очень люблю».
Некоторые первоначальные наброски Толстого так слабы с литературной точки зрения, что вы иногда сомневаетесь, что они принадлежат его перу. Но Толстому это безразлично. Небрежно, не заботясь о стиле, он набрасывает события, сцены, обрисовывает несколькими фразами характеры своих героев, он торопится, боится забыть мысли, тонкие, едва уловимые, ему одному понятные штрихи. Так, например, в дневнике от 16 сентября 1864 г. есть такая запись: «К роману. 1) любит мучить того, кого любит — все теребит. 2) Отец с сыном ненавидят друг друга. В глазах неловко».
К чему это относится? Может быть, к отношениям старика Болконского к дочери и сыну?
Но есть варианты превосходные, вы читаете их, захлебываясь от эстетического наслаждения, вы спрашиваете себя, зачем он их выпустил, но вдумавшись, понимаете, что места в романе им нет.
История декабристов всегда занимала Толстого. Его интересовали и увлекали жертвенность и самоотвержение жен, последовавших за своими мужьями в ссылку, психология вернувшихся из Сибири декабристов, отвыкших от суеты светской жизни. Начавши писать историю 1825 года и написав три главы, он бросил и решил писать роман, начав его с 1805 года.
«В 1856 г. я начал писать повесть с известным направлением и героем, который должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию, — писал Толстой в одном из черновых предисловий к "Войне и миру". — Невольно от настоящего я перешел к 1825 г. — эпохе несчастий и заблуждений моего героя — и оставил начатое. Но и в 1825 г. герой мой был уже возмужалым семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости, и молодость его совпадала с славной для России эпохой 1812 г. Я в другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 г., которого еще запах и звук слышны и милы нам. но которое теперь уже настолько отдалено от нас, что мы можем думать о нем спокойно. Но и в третий раз я оставил начатое, но уже не потому, что мне нужно было описывать первую молодость моего героя, напротив, между теми полуисторическими, полу общественными, полувымышленными великими характерными лицами великой эпохи, личность моего героя отступила на задний план и на первый план стали, с равным интересом для меня, и молодые и старые люди, и мужчины и женщины того времени. В третий раз я вернулся назад по чувству, которое, может быть, покажется странным большинству читателей, но которое, надеюсь, поймут именно те, мнением которых я дорожу: я сделал это по
чувству, похожему на застенчивость, и которое я не могу определить одним словом. Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с бонапартовской Францией, не описав наших неудач и нашего срама. Кто не испытывал того скрытого, но неприятного чувства застенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений о 12-м годе? Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений.
Итак, от 1856 г. возвратившись к 1805 г., я с этого времени намерен провести уже не одного, а многих моих героинь и героев через исторические события 1805, 1807, 1812, 1825 и 1856 гг. Развязки отношений этих лиц я не предвижу ни в одной из этих эпох. Сколько я ни пытался сначала придумать романическую завязку и развязку, я убедился, что это не в моих средствах, и решился в описании этих лиц отдаться своим привычкам и силам... Я старался только, чтобы каждая часть сочинения имела независимый интерес».
«Я бесчисленное количество раз начинал и бросал писать ту историю из 12 года, которая все яснее и яснее становилась для меня и которая все настоятельнее и настоятельнее просилась в ясных и определенных образах на бумагу, — писал Толстой в одном из своих черновых набросков предисловия к «Войне и миру»... Я знал, — писал он дальше, — что никто никогда не скажет того, что я имел сказать, не потому, что то, что я имел сказать, было очень важно для человечества, но потому, что известные стороны жизни, ничтожные для других... по особенности своего развития и характера (курсив мой — А. Т.) (особенности, свойственной каждой личности) считал важным.
Больше всего меня стесняют предания — как по форме, так и по содержанию. Я боялся писать не тем языком, которым пишут все, боялся, что мое писание не подойдет ни под какую форму — ни романа, ни повести, ни поэмы, ни истории; я
боялся, что необходимость описывать значительных лиц 12 года заставит меня руководиться историческими документами, а не истиной, и от всех этих боязней время проходило, и дело мое не подвигалось, и я начинал остывать к нему. Теперь, помучившись долгое время, я решил откинуть все эти боязни и писать только то, что мне необходимо высказать, не заботясь о том, что выйдет от всего этого и не давая моему труду никакого наименования».
Кузминская пишет в своих воспоминаниях, как «по вечерам Лев Николаевич приходил в комнату тетеньки и делал там пасьянсы, загадывая вслух:
— Если этот пасьянс выйдет, то надо изменить начало.
Или:
— Если этот пасьянс выйдет, то надо назвать ее... — но имени не говорил...»2.
В семье Берс были взволнованы идеей Толстого писать роман из времен
12 года. «Вчера вечером, — пишет Андрей Евстафьевич Берс (5 сентября 1863 года), — мы много говорили о 1812 годе по случаю намерения твоего написать роман, относящийся к этой эпохе»3. И, желая поощрить зятя, Андрей Евстафьевич начинает собирать материалы по 1812 году, достает ему книги, подлинные письма М. А. Волковой к В. И. Ланской 1812 — 1814 годов.
18 сентября 1863 г. он пишет Толстому:
«...Так-то бывало, отец мой начнет нам рассказывать об 1812 годе; действительно, это была замечательная и интересная эпоха; ты.избрал для романа твоего высокий сюжет, дай Бог тебе успеха»4. <...>
Проследить процесс рождения и развития творчества «Войны и мира» — невозможно, так же невозможно, как войти в душу другого человека. Целый ряд неуловимых оттенков мыслей, отношений, чтение тех или иных произведений, семейные отношения, люди, встречавшиеся на его пути — все это и многое другое накапливалось и постепенно находило отражение в творчестве. Кто знает, смог бы ли Толстой описать войну, если бы сам не участвовал в сражениях? Описать переживания картежника, если бы сам не проигрывал целые состояния в карты? Понять психологию светского общества, если бы не принадлежал к нему сам? Понять рыцарскую честь своих героев, их удальство, храбрость, кутежи, если бы в нем самом не было этих черт, понять азарт, страсть охотника, если бы он сам не увлекался этой страстью? Таня, его свояченица, в своих воспоминаниях описывает, как во время одной из охотничьих поездок у нее свернулось седло и она повисла головой вниз. «Левочка, падаю, — кричала из всех сил Таня, когда Лёвочка бешено скакал мимо нее за зайцем. — Душенька, подожди! — крикнул ей Толстой в ответ, продолжая скакать мимо беспомощно висевшей Тани5. Мог ли бы Толстой описать Наташу Ростову, проникнуть в психологию влюбленной девушки, если бы день за днем не наблюдал романических переживаний своей привлекательной свояченицы Тани? Или описать разумную, скучную Соню, черты которой мы наблюдали в Лизе Берс? Смог ли бы он описать героев войны двенадцатого года, Николая Ростова, если бы с детства не наслышался рассказов о походах своего отца в войне 12-го года?
Еще в письме от 11 ноября 1862 года Софья Андреевна писала сестрам: «Девы, скажу вам по секрету, прошу не говорить, Левочка может быть нас опишет, когда ему будет 50 лет»6.
Толстой не любил, когда его спрашивали, кто его герои, с кого он списал Наташу Ростову. Но мы невольно замечаем, что не только описаны характер и многие черты Тани Берс в Наташе, но и целый ряд эпизодов из жизни Тани. «Я
взял Таню, перетолок ее с Соней, и вышла Наташа» . Трудно сказать, умная ли была Таня Берс-Наташа Ростова, хорошая или плохая, красивая или нет, но в Тане была такая неуловимая прелесть, такой огонь, радость жизни, что она увлекала за собой всех — и старых, и малых, и всюду, где бы она ни появлялась, становилось весело.
Ссорились ли люди между собой — вихрем влетала Таня в комнату, не обдумывая скажет что-то смешное, добродушно обругает ссорящихся, пожалеет — и все улаживается. Плачет ли ребенок, Таня подхватит его на руки, запоет, затормошит, или даст ему подзатыльник — и ребенок утешится; ворчит ли старая нянюшка, хмурятся ли родители, скучают ли гости — стоит Тане войти, как всем делается весело и непринужденно-радостно.
Такова была одна из «дев» — Таня Берс.
Таня всегда и всюду была верным спутником Толстого. Ранней весной она ходила с ним на тягу вальдшнепов, ездила с ним верхом, на охоту с борзыми в отъезжее поле. Таня любила спорт, игры, Соня же была ко всему этому совершенно равнодушна. Когда Соня за компанию ездила на охоту, она любовалась природой, задумывалась, равнодушно рассматривала в лорнет, близорукими своими глазами, скачущего зайца и спускала собак, когда было уже слишком поздно и зверь благополучно удирал, а Соня к великому возмущению настоящих охотников, радовалась, что бедный зайчик ушел. Вечерами Толстой садился за фортепиано и Таня пела. И в пении, и в голосе ее был тот же неуловимый шарм, мелодичность и сдержанная страсть, как и во всем ее существе. Недаром Фет посвятил ей одно из лучших своих стихотворений:
Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна — любовь, что нет любви иной.
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой8.
Толстой, прослушав как-то раз пение дедушки Исленьева, сказал про Исленьево-Берсовскую породу: «Экая жизненная энергия, эта Исленьевская кровь, и во всех вас, черных Берсах, течет она!»4 Черными назывались те, у кого были темные глаза и черные волосы. В письме от 7 декабря 1864 г., в письме к жене Толстой дает следующую характеристику семье Берсов:
«Все черные вашей семьи мне милы и симпатичны. Любовь Александровна ужасно похожа на тебя. Она на днях делала колпак для лампы, точно как ты, примешься за работу и уже тебя не оторвешь. Даже нехорошие черты у вас одинаковы. Я слушаю иногда, как она с уверенностью начинает говорить то. чего не знает, и утверждать положительно и преувеличивать, — и узнаю тебя. Но ты мне всячески хороша. Я пишу в кабинете и передо мной твои портреты в 4 возрастах. Голубчик мой. Соня! Какая ты умница во всем том, о чем ты захочешь подумать. От этого-то я и говорю, что у тебя равнодушие к умственным интересам, и не только не ограниченность, а ум, и большой ум. И это у всех вас, мне особенно симпатичных, черных Берсах. Есть Берсы черные: Любовь Александровна, ты, Таня; и белые — остальные. У черных ум спит, — они могут, но не хотят, и от этого у них уверенность, иногда некстати, и такт. А спит у них ум оттого, что они сильно любят, а еще и оттого, что родоначальница черных Берсов была не развита, т. е. Любовь Александровна. У белых же Берсов участие большое к умственным интересам, но ум слабый и мелкий. Саша пестрый, полубелый».
Детская любовь Тани к Кузминскому не удовлетворяла ее. Красивый, стройный юноша, прямой и честный, но узкий и суховатый, не мог ей дать того, что тянуло Таню к Толстовской семье. Таня была счастлива только тогда, когда она была в Ясной Поляне у сестры или в Покровском, у Марьи Николаевны Толстой, с дочерьми которой, Лизанькой и Варенькой — «зефиротами», как их прозвали — она была очень дружна. Дома Таня скучала, ее разумная сестра Лиза, со своими скучными и неувлекательными романами, была для нее не интересна.
Во время поездки в Петербург, куда в первый раз в жизни ее повез отец, Таня встретилась со своим дальним родственником, Анатолем Шостаком, которому она дала следующую характеристику: «он был один из тех людей, которых часто встречаешь в свете. Он был самоуверен, прост и чужд застенчивости. Он любил женщин и нравился им. Он умел подойти к ним просто, ласково и смело. Он умел внушить им, что сила любви дает права, что любовь есть высшее наслаждение. Преград для него не существовало. Не бывши добрым, он был добродушен. В денежных делах честен и даже щедр. В обществе он был остроумен и блестящ, прекрасно владел языками и слыл за умного малого»10.
Анатоль влюбился в Таню и ни минуты не сомневался, что Таня разделяет его чувства. Он действовал наверняка. Пожатие руки, смелая, восторженная фраза — все это кружило голову 16-летней девочке. Узнав, что Таня в Ясной Поляне, Анатоль приехал туда. Толстые с беспокойством следили за происходящим. В своих воспоминаниях Таня описывает, как во время верховой поездки они с Анатолем отстали от других и как, в лесу, Анатолий целовал ее. По тому времени это было недопустимой вольностью. Таня не сумела скрыть своего «поступка», особенно от Лёвочки, который видел Таню насквозь и все понимал без лишних слов. Толстые были возмущены поведением Анатоля, зная, что он не имел намерения на ней жениться, и предложили ему уехать из Ясной Поляны.
Этот эпизод, в измененном виде, был описан Толстым в «Войне и мире».
Бурное, хотя и поверхностное увлечение Тани Анатолем быстро прошло и заменилось на этот раз самым серьезным, как она говорила, увлечением во всей ее жизни — она полюбила Сергея Николаевича Толстого.
Любовь вспыхнула между ними с невероятной силой. Не соображая, не задумываясь, Сергей Николаевич, в безумии своего увлечения сделал Тане предложение и они решили жениться, несмотря на препятствия, серьезности которых Таня даже и не представляла себе. В глубине души Сергей Николаевич чувствовал, что он не имеет права дать себе волю. У него была семья. Многие годы он жил со своей цыганкой Машей — маленькой, кроткой, смуглой женщиной, покорившей его своим чудесным голосом. У них было уже трое детей. Кроме того, закон запрещал двум братьям жениться на двух сестрах... Но Сергей Николаевич лишился способности рассуждать логично и невольно обманывал и себя и Таню, надеялся неизвестно на что, мучил ее и себя.
Особенно их сблизила одна ночь. Таня гостила у Марии Николаевны Толстой в Пирогове. Сергей Николаевич предложил Тане прокатиться с ним в его Пирогово, расположенное по ту сторону реки. Но когда они собрались ехать обратно, надвинулась страшная гроза, сверкала молния, гремел гром, дождь лил, как из ведра. Ехать назад нельзя было. Сергей Николаевич и, Таня оказались одни в его новеньком домике. Сергей Николаевич порывался уйти наверх, к себе, но Таня боялась. Полночи они просидели разговаривая, наконец, Таня заснула безмятежным детским сном, а Сергей Николаевич всю ночь просидел рядом, за
ширмами, один со своими волнительными и радостными мыслями от сознания ее любви, и отчаяния от невозможности счастья, связанности своей с другой женщиной — беспомощной, робкой, преданной матерью трех его детей.
Толстые остро переживали эту драму между самыми близкими им людьми. еще острее переживали ее старики Берсы.
Наконец, перемучившись, узнав всю правду о семье Сергея Николаевича, Таня решительно отказала ему.
Как подстреленная птица, Таня опустила крылья, перестала петь, исхудала, побледнела, кашляла, боялись за ее легкие.
Толстой писал жене из Пирогова уже после разрыва брата с Таней:
«Я спал внизу, должно быть, на том диване, на котором Таня за ширмами держала его (Сережу). И эта вся поэтическая и грустная история живо представилась мне. Оба хорошие люди, и оба красивые и добрые: стареющий и чуть ли не ребенок, и оба теперь несчастливы; а я понимаю, что это воспоминание этой ночи — одни, в пустом и хорошеньком доме, — останется у обоих самым поэтическим воспоминанием...
...Вообще мне стало грустно на этом же диване и о них, и Сереже, особенно глядя на ящичек с красками, тут в комнате, из которого он красил, когда ему было 13 лет. Он был хорошенький, веселый, открытый мальчик, рисовал и все, бывало, пел разные песни, не переставая. А теперь его, того Сережи, как будто нет».
И если вы внимательно прочтете «Войну и мир», вы невольно сравните образ Тани Берс с образом Наташи Ростовой, со всей ее привлекательностью, поразительным голосом, страстностью, бурными увлечениями, ее тоской по князю Андрею.
«Левочка, — сказала один раз Татьяна Андреевна Кузминская, — я понимаю, как ты можешь описывать помещиков, отцов, генералов, солдат, но как ты можешь влезть в душу влюбленной девушки, как ты можешь описывать переживания матери — хоть убей — не понимаю» (Из личных воспоминаний. — А. Т.). Да, понять это трудно, и возможно, что если бы Толстой ежечасно не наблюдал Таниных переживаний, и сам не переживал бы с нею вместе ее бурных увлечений, не наблюдал бы психологии жены и матери в собственной своей жене — он не написал бы «Войны и мира».
В конце 1863 года Толстой на время отвлекся от «Войны и мира» и впервые испытал свои силы в новой для него форме творчества.
Он никогда не признавал стриженых, эмансипированных, мужеподобных женщин с папиросами в зубах, отклоняющихся, как он говорил, от прямого своего назначения жены и матери или от служения людям в той области, где они своей мягкостью, женским чутьем могли принести самую большую пользу человечеству. Такие женщины всегда увлекались так называемыми передовыми движениями — социализмом, нигилизмом, революционной работой и тем, что в то время называлось «хождением в народ». Толстой не сочувствовал этому течению, оно было ему скорее противно, и в своей комедии в пяти действиях, «Зараженное семейство», он осмеял этих «передовых» людей, — почтенное интеллигентное семейство, увлекавшееся новыми идеями. Но комедия эта — первый опыт Толстого в драматическом искусстве — на сцену принята не была. Толстой кончил комедию в начале 1864 года и повез ее в Москву, но успеха она никакого не имела и Островский не пожелал ее ставить в Малом театре. «Когда я еще только
расхварывался, — писал Островский Некрасову 7 марта 1864 года. — утащил меня к себе Л. Н. Толстой и прочел мне свою новую комедию; это такое безобразие, что у меня положительно завяли уши от его чтения»11.
Толстому очень хотелось поскорее выпустить свою комедию в свет. «Почему ты так спешишь? — с иронией спрашивал его Островский, — боишься люди поумнеют?»
Было ли это мнение и мнение других современных литераторов основано исключительно на несовершенстве комедии с чисто литературной точки зрения, или же существенную роль в непринятии ее играло ее отрицательное отношение к либеральным веяниям эпохи, сказать трудно. Но возможно, что даже если бы «Зараженное семейство» было бы шедевром литературно-драматического творчества, его бы не приняли к постановке.
Соня была погружена в свои материнские заботы. Сереже не было еще двух лет, а в октябре ожидалось появление второго ребенка. Таня хандрила. Толстой снова погрузился в писание своего романа. «Скоро год, как я не писал в эту книгу, — пишет он в дневнике от 16 сентября 1864 года. — И год хороший. Отношения наши с Соней утвердились, упрочились. Мы любим, т. е. дороже друг для друга всех людей на свете, и мы ясно смотрим друг на друга. Нет тайн и ни за что не совестно. Я начал с тех пор роман, написал листов 10 печатных, но теперь нахожусь в периоде поправления и переделывания. Мучительно. Педагогические интересы ушли далеко. Сын очень мало близок мне. На днях вспомнил начатый материнский дневник о Соне, и надо его дописать для детей».
Толстой писал урывками, порою с увлечением и сильно. В лето 1864 года он много разъезжал то на охоту, то к соседям, к Фету, к брату Сергею.
Один раз, отправляясь к соседу Бибикову, Толстой приказал оседлать молодую, горячую лошадь Фанни, его любимые борзые собаки увязались с ним. Толстой никогда не ездил торными дорогами, он или выбирал узкие тропинки, или ездил полями, по скошенным жнивьям. Так было и на этот раз. На беду из-под межи выскочил заяц. Толстой крикнул «ату его!» и вместе с собаками помчался за зверем. Молодая, неопытная лошадь попала передними ногами в рытвину, на всем скаку упала и Толстой перелетел через ее голову.
В полуобморочном состоянии, с трудом поднявшись и изнемогая от боли в плече и руке, Толстой добрался до большой дороги, где его подобрали крестьяне и положили в крестьянскую избу на деревне. Он боялся, что известие о его падении напугает Соню, ожидавшую ребенка.
Вывихнутая рука поправилась быстро, но ключица оказалась переломанной. Вправляли ее Тульские доктора, вправили плохо, и кость срослась неправильно. Толстой продолжал страдать и плохо владел правой рукой.
4 октября у Толстых родилась здоровенькая девочка, которую назвали Татьяной. Жизнь начала входить в нормальное русло. Толстой снова принялся за свой роман — его тянуло к писанию. Но рука болела, плохо поднималась и, тщетно испробовав всякие домашние средства, Толстой решил ехать в Москву лечиться.
В Москве он остановился у Берсов. По совету Андрея Евстафьевича. показал сломанную ключицу нескольким врачам, по их совету делал гимнастику, массаж, но улучшения не было. Наконец, после ряда совещаний с врачами, Толстой решился на операцию. 29 ноября Толстой диктует письмо жене:
«Вот тебе отчет за два дня. Когда мне сказали, и я поверил, что гимнастика одна сделает пользу, я стал махать рукой, и должен признаться, что она пришла в
скверное состояние, что я очень уныл, и в этом унынии поехал к Редлиху; когда Редлих, у которого была выгода брать с меня деньги, на гимнастике, сказал, чтобы я правил, то я окончательно решился; по чистой правде, решился я накануне в театре, когда музыка играет, танцовщицы пляшут, Мишель Боде владеет обеими руками, а у меня, я чувствую, вид кривобокий и жалкий, в рукаве пусто и ноет; а главное же, нервное расстройство, под влиянием которого и приехал из Ясной, совершенно прошло, и я вспомнил твои слова: не слушаться Андрея Евстафьевича, что он меня собьет; так и вышло.
В этот день я особенно деятельно ходил по книжным лавкам, докторам, и хотя и чувствовал, что всех Берсов смутил своим решением править, я был очень весел, поехал в оперу, мне было очень приятно и от музыки, и от вида различных господ и дам, которые для меня все типы. Бояться хлороформа и операции мне было даже совестно думать, несмотря на то, что ты обо мне такого низкого мнения; неприятно мне было остаться без руки немного для себя, но право больше для тебя, особенно после разговора с Таней, который меня еще больше в этом убедил. Я шел наверное на то, что не исправят; но делал это, чтобы избавить себя от своих же упреков в будущем...»
«Операцию тебе описала Таня, которая обо всем могла иметь большее понятие, чем я; я знаю только, что не чувствовал никакого страха перед операцией и чувствовал боль после нее, которая скоро прошла от холодных компрессов.
Ухаживали и ухаживают за мной так, что желать нечего, и только совестно; но несмотря на все, вчера с расстроенными нервами после хлороформа, особенно после твоих писем, которые пришли четверть часа после операции, я Бог знает как хотел, чтобы ты тут была...
Боль утихла очень скоро, и к вечеру было только неловко и скверно от оставшегося во мне хлороформа. В этот вечер мне все хотелось ходить, и как можно больше делать...»
В это время рукопись «1805 года» уже была сдана и должна была появиться в № 1 «Русского Вестника» за 1865 год.
Вот что пишет Толстой жене от того же 29 ноября:
«Забыл, было, описать свидание с Любимовым перед оперой; он приехал от Каткова и, опять слюняво смеясь, объявил, что Катков согласен на все мои условия, и дурацкий торг этот кончился, т. е. я им отдал по 300 рублей за лист первую часть романа, которую он с собою и увез. Но когда мой porte-feuille опустел и слюнявый Любимов понес рукописи, мне стало грустно именно оттого за что ты сердишься, что нельзя больше переправлять и сделать еще лучше».
7 декабря Толстой пишет жене: «Как ты мила, что поняла мое чувство, отдавая рукопись. Вот такие черты для меня самые главные и лучшие доказательства твоей хорошей любви ко мне...» Толстой был счастлив, что Соня поняла, что отдав рукопись издателю, он точно оторвал от себя часть своего существа.
Около двух недель Толстой продолжает лечить ключицу под наблюдением врачей. Но он не теряет времени: посещает библиотеки, собирает книги и продолжает, с помощью трех сестер, работать над романом. Соня переписывает рукопись, сидя в Ясной Поляне. Он никогда не любил диктовать, его это стесняло, связывало, но желание писать было так сильно, что он изредка диктовал сестрам Берс, особенно Тане, которая была ему ближе.
«Я вчера объяснял Тане, — пишет Толстой жене 1 декабря, — почему мне легче переносить разлуку... с тобой и детьми (я чувствую однако здесь, что я их
еще мало люблю), у меня есть постоянная любовь или забота о моем деле писания. Ежели бы этого не было, я чувствую, что я бы не мог решительно пробыть дня без тебя, ты это верно понимаешь, потому что то, что для меня писание, для тебя должны быть дети».
Но, как всегда, у Толстого подъемы сменяются разочарованием и в том же письме он писал Соне:
«Я всегда податлив на похвалу, и твоя похвала характера княжны Марьи меня очень порадовала. Но нынче я перечел все присланное тобою, и мне показалось все это очень гадко, и я почувствовал лишение руки; хотел поправить кое-что, перемарать — и не мог; вообще разочаровался сегодня насчет своего таланта, тем более, что вчера диктовал Лизе ужасную ерунду. Я знаю, что это только временное настроение, которое пройдет...»
А 6 декабря он пишет жене: «Нынче, поутру, около часа диктовал Тане, но не хорошо; спокойно и без волнения, а без волнения наше писательское дело не идет».
Все же, к концу 1864 года 38 глав романа «1805 год» были написаны и отданы в печать. Судьба величайшего творения Толстого, «Войны и мира», была уже предрешена. Он уже не мог оставить своего романа. Всю силу творческого своего гения, всю умственную жизненную энергию, весь свой опыт он должен был посвятить созданию этого своего «детища», неведомыми, сложными процессами зародившегося в нем.
23 января 1865 года Толстой писал Фету:
«А знаете, какой я вам про себя скажу сюрприз: как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку, когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я — литератор. И я литератор, но уединенный, потихонечку литератор».
Роман Толстого произвел громадное впечатление. Люди зачитывались им и с нетерпением ждали продолжения. Появился целый ряд критических статей. И хотя Толстой не любил критиков, они мешали ему, но все же он был к ним не безразличен, мнением же некоторых людей он очень дорожил. Так 23 января 1865 г. он пишет Фету:
«Пожалуйста подробнее напишите свое мнение. Ваше мнение, да еще мнение человека, которого я не люблю тем более, чем более я вырастаю большой, мне дорого — Тургенева. Он поймет. Печатанное мною прежде я считаю только пробой пера... печатаемое теперь мне хоть и нравится более прежнего, но слабо кажется, без чего не может быть вступление. Но что дальше будет — бяда!!! Напишите, что будут говорить в знакомых вам различных местах и, главное, как на массу. Верно, пройдет незамеченно. Я жду этого и желаю. Только бы не ругали, а то ругательства расстраивают».
«...Я очень рад, что вы любите мою жену, хотя я ее и меньше люблю моего романа, а все-таки, вы знаете — жена».
Но Тургенев остался верен себе и Толстой напрасно ждал от него беспристрастной и справедливой оценки своего творчества.
«Вторая часть "1805 года" тоже слаба, — писал он Фету от 25 марта 1866 года, — как это все мелко и хитро, и неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том, трус, молили я или нет? Вся эта патология сражения. Где тут черты эпохи? Где краски исторические? Фигура Денисова бойко начерчена — но она была бы хороша, как узор на фоне, а фона-то и нет»1.
В письме от 27 июня 1866 года Тургенев выражается еще более резко по поводу «Войны и мира». «Роман Толстого плох (курсив мой. — А.Т.) не потому, что он также заразился «рассудительством», этой беды ему бояться нечего; он плох потому, что автор ничего не изучил, ничего не знает и под именем Кутузова и Багратиона выводит нам каких-то, рабски списанных, современных генеральчиков»2.
Но по мере напечатания романа Тургенев несколько смягчает свой отзыв. Так, он пишет Анненкову из Баден-Бадена 13 апреля 1868 г.:
«Доставили мне 4-ый том Толстого. Много там прекрасного, но и уродства не оберешься! Беда, коли автодиктат, да еще во вкусе Толстого, возьмется философствовать: непременно оседлает какую-нибудь палочку, придумает какую-нибудь одну систему, которая, по-видимому, все разрешает очень просто, как например, исторический фатализм, да и пошел писать! Там, где он касается земли, он, как Антей, снова получает все свои силы: смерть старого князя, Алпатыч, бунт в деревне, все это — удивительно»3.
Но еще позднее, как это случалось не раз с Тургеневым в отношении к произведениям Толстого, Тургенев дает уже иную оценку «Войне и миру». В 1868 году мы находим в его письмах следующие отзывы: «Я только что кончил 4-ый том «Войны и мира». Есть вещи невыносимые, и есть вещи удивительные; и удивительные эти вещи, которые в сущности преобладают, так великолепно хороши, что ничего лучшего у нас никогда не было написано никем, да вряд ли было написано что-нибудь столь хорошее... 3-ий том почти весь chef d'oeuvre».4
«...Есть целые десятки страниц сплошь удивительных, первоклассных — все бытовое, описательное — (охота, катанье ночью и т. д.)... есть в этом романе вещи, которых, кроме Толстого, никому в целой Европе не написать и которые возбудили во мне озноб и жар восторга»5.
Толстой жаждал беспристрастной критики, искал ее как губка, впитывал в себя все разумные, доброжелательные указания своих друзей.
«...Есть важный промах, который подрезывает крылья жадному интересу, с каким читаешь вещи вечные — писал Фет Толстому от 16 июля 1866 г. — ...Не думаю, чтобы князь Андрей был приятным сожителем, собеседником и т. п., но всего менее он герой, способный представлять нить, на которую поддевают внимание читателей... Пока князь Андрей был дома, где порядочность его была подвигом рядом с пылким старцем-отцом и дурой женой, он был интересен, а когда он вышел туда, где надо было что-либо делать, то Васька Денисов далеко заткнул его за пояс. Мне кажется, что я нашел ахиллову пяту романа, а впрочем, кто его знает»6.
С большим опозданием, но и с большим доброжелательством и вниманием Толстой отозвался на это письмо. «Я не отвечал на ваше последнее письмо 100 лет тому назад, — писал он Фету, — и виноват за это тем более, что помню, в этом письме вы мне пишете очень мне интересные вещи о моем романе и еще пишете irritabilis poetaram gens*. Ну уж не я. Я помню, что порадовался, напротив, вашему суждению об одном из моих героев — князе Андрее — и вывел для себя поучительное из вашего суждения. Он однообразен, скучен и только un homme comme il faut во всей первой части. Это правда, но виноват в этом не он, а я. Кроме замысла характеров и движения их, кроме замысла столкновений характе-
* Гневливый род поэтов. — Гораций.
ров, есть у меня еще замысел исторический, который чрезвычайно усложняет мою работу, и с которым я не справляюсь, как кажется. И от этого в первой части я занялся исторической стороной, а характер стоит и не движется. И это недостаток, который я ясно понял вследствие вашего письма и, надеюсь, что исправил. Пожалуйста, пишите мне, милый друг, все, что вы думаете обо мне, т. е. о моем писании — дурного. Мне всегда это в великую пользу, а кроме вас у меня никого нет...»
Боткин писал Фету после выхода «1805 года», что в романе слишком много французского языка, и что фон романа «занимает слишком большое место», т. е. дает совершенно обратную характеристику Тургеневской, в которой последний считает, что в романе фона нет (14 февраля 1865 г.)7.
26 марта 1868 г. тот же Боткин писал Фету, что «успех романа Толстого действительно необыкновенный», что «все читают его, и не только просто читают, но и приходят в восторг. Как я рад за Толстого!» — восклицает он, и далее приводит критику литераторов, что Бородинская битва описана совсем неверно, что «философия истории мелка и поверхностна», что отрицание «преобладающего влияния личности в событиях есть не более как мистическое хитроумие, но помимо всего этого художественный талант автора вне всякого спора»8.
Но прочитав 5-й том романа, Боткин изменил свое мнение: «Но неужели Толстой остановится на 5-ой части? Мне кажется, это невозможно, — писал он Фету в июне 1869 г. — Какая яркость и вместе глубина характеристики! Какой характер Наташи и как выдержан! Да, все в этом превосходном произведении возбуждает глубочайший интерес. Даже его военные соображения полны интереса, и мне в большей части случаев кажется, что он совершенно прав. И потом, какое это глубоко русское произведение!»9
Приводить бесчисленное множество критических статей по поводу романа
Толстого — не стоит. Наравне с хвалебными статьями появлялись статьи русских консервативных кругов, упрекавших Толстого, что он низвел великих русских полководцев, государственных деятелей с их славных пьедесталов. Слышались упреки противоположного лагеря либеральной интеллигенции, что Толстой совершенно не описал в «Войне и мире» эту среду, упрекали Толстого в неисторичности романа, в большом употреблении французского языка и во многом другом. Временами Толстой переставал читать критические статьи — они какой-то стороной мешали ему, как мешает художнику, когда зритель с любопытством косится на полотно его неоконченной картины и начинает обсуждать детали.
Толстой писал «Войну и мир» около семи лет, с 1863 года, когда он впервые задумал свой роман, и до декабря 1869 года, когда был напечатан 6-ой и последний том «Войны и мира». Чем дольше он писал, тем более он сживался со своими героями, с их жизнью, с веяниями и настроениями того времени.
«Я зачитался историей Наполеона и Александра, — писал он в дневнике от 19 марта 1865 года. — Сейчас меня облаком радости и сознания возможности сделать великую вещь охватила мысль написать психологическую историю романа Александра и Наполеона. Вся подлость, вся фраза, все безумие, все противоречие людей их окружавших и их самих. Наполеон, как человек, путается и готов отречься 18 брюмера перед собранием. De nos jours les peuples sont trap eclaires pour produire quelque chose de grand*. Александр Македонский называл себя сыном Юпитера, ему верили. Вся египетская экспедиция — французское тщеславное злодейство. Ложь всех bulletins** сознательная. Пресбургский мир escamote.*** На Аркольском мосту упал в лужу, вместо знамя. Плохой ездок. В Итальянской войне увозит картины, статуи. Любит ездить по полю битвы. Трупы и раненые — радость. Брак с Жозефиной — успех в свете. Три раза поправлял реляцию сражения Риволи — все лгал. Еще человек первое время и сильный своей односторонностью — потом нерешителен — что было! А как? Вы простые люди, а я вижу в небесах мою звезду. — Он не интересен, а толпы, окружающие его и на которые он действует. Сначала односторонность и beau jeu**** в сравнении с Маратами и Баррасами, потом ощупью — самонадеянность и счастье и потом сумасшествие — faire entrer dans son lit la fille des Cesars*****. Полное сумасшествие, расслабление и ничтожество на Св. Елене. Ложь и величие потому только, что велик объем, а мало стало поприще и стало ничтожество. И позорная смерть!
Александр, умный, милый, чувствительный, ищущий с высоты величия объема, ищущий высоты человеческой. Отрекающийся от престола и дающий одобрение, не мешающий убийству Павла (не может быть). Планы возрождения Европы. Аустерлиц, слезы, раненые. Нарышкина изменяет, Сперанский, освобождение крестьян, Тильзит — одурманение величием. Эрфурт. Промежуток до 12 года не знаю. Величие человека, колебания. Победа, торжество, величие, grandeur пугающие его самого, и отыскивания величия человека — души. Путаница во внешнем, а в душе ясность. А солдатская косточка — маневры, строгости. Путаница наружная, прояснение в душе. Смерть. Ежели убийство, то лучше всего.
* В наше время народы слишком просвещенны, чтобы можно было создать что-нибудь
великое (фр.).
** Реляций (фр.).
*** Достигнут обманом (фр.).
**** Благоприятные условия (фр.).
***** разделить ложе с дочерью цезарей (фр.).
Надо написать свой роман и работать для этого».
В первой части 3-го тома «Войны и мира» точка зрения на фатализм истории определилась совершенно ясно. Возможно, что если бы Толстой дожил до нашего времени, он еще раз убедился бы в правильности своего воззрения. Разве и теперь так же, как 125 лет тому назад, история фатально не выкидывает на верхи не только слабых, ничтожных, недальновидных политиканов, но и преступников, правящих миром, независимо от воли или желания масс, которыми они управляют. Так же, как и в 1812 году, историки не могли учесть и понять причин тех или иных явлений, точно так же и современность не может оценить происходящие в наше время события, оценка которым будет дана лишь позднее, будущими историками.
«Для нас — потомков, не историков, не увлеченных процессом изыскания, и потому с незатемненным здравым смыслом созерцающих событие, причины его представляются в неисчислимом количестве, — пишет Толстой. — Чем больше мы углубляемся в изыскание причин, тем больше нам их открывается, и всякая отдельно взятая причина или целый ряд причин представляются нам одинаково справедливыми сами по себе, одинаково ложными по своей ничтожности в сравнении с громадностью события, и одинаково ложными по недействительности своей (без участия всех других совпавших причин) произвести совершившееся событие...
Ежели бы Наполеон не оскорбился требованием отступить за Вислу и не велел наступать войскам, не было бы войны; но ежели бы все сержанты не пожелали поступить на вторичную службу, тоже войны не могло бы быть.
Тоже не могло бы быть войны, ежели бы не было интриг Англии и не было бы принца Ольденбургского, и чувства оскорбления в Александре, и не было бы самодержавной власти в России, и не было бы французской революции и последовавших диктаторства и империи, и всего того, что произвело французскую революцию, и так далее. Без одной из этих причин ничего не могло бы быть. Стало быть, причины эти все — миллиарды причин — совпали для того, чтобы произвести то, что было. И, следовательно, ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. Должны были миллионы людей, отрекшись от своих человеческих чувств и своего разума идти на Восток с Запада и убивать себе подобных, точно так же, как несколько веков тому назад с Востока на Запад шли толпы людей, убивая себе подобных.
Действия Наполеона и Александра, от слова которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось или не совершилось — были так же мало произвольны, как и действие каждого солдата, шедшего в поход по жребию или по набору. Это не могло быть иначе потому, что для того, чтобы воля Наполеона и Александра (тех людей, от которых, казалось, зависело событие) была исполнена, необходимо было совпадение бесчисленных обстоятельств, без одного из которых событие не могло бы совершиться. Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провиант и пушки, надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей, и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных, разнообразных причин.
Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы не понимаем). Чем более мы стараемся разумно объяснить эти явления в истории, тем они становятся для нас неразумнее и непонятнее».
И хотя Толстой давал собственное освещение историческим событиям 1812 года, он чрезвычайно добросовестно относился к точности изложения исторических событий. Он сам пишет: «Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня образовалась целая библиотека книг, заглавия которых я не нахожу надобности выписывать здесь, но на которые всегда могу сослаться».
Но сами исторические лица не мертвые, они оживают под его пером. И для того, чтобы они зажили, ему нужно было знать, что у Наполеона были короткие, пухлые руки, что во время Бородинской битвы у него был насморк, что он плохо ездил верхом. Ему нужно было знать, что Кутузов, растрогавшись, всхлипывал от умиления, что он любил иногда крепко, по-русски, ругнуться, что он с трудом влезал на лошадь и пр. и пр. и Толстой читал, дополняя своим богатым воображением характеры этих бесчисленных действующих лиц, которые действительно оживали и, читая роман, вы с ними вместе, как с близкими, любите, плачете, смеетесь, страдаете, ненавидите...
По рукописям Толстого мы знаем, какое громадное значение он придавал даже такой мелочи, как имени или фамилии того или иного героя. Так Ростов в первоначальных рукописях был «Простов», и Толстой откидывает одну букву — «Ростов». Фамилия эта сочетается с тем типом, который ему нужен. Пьер Безухов — темно-синий в воображении Наташи, другим он быть не может и Наташа обижается, когда старая графиня не сразу понимает, что она хочет этим сказать.
Толстой жадно ловил всякие сведения об описываемой им эпохе. Он даже дал объявление в «Московских Ведомостях»: «За 2.000 рублей серебром желают приобрести полный экземпляр «Московских Ведомостей» со всеми к ним приложениями. Доставить на Тверскую, в номер Голяшкина»'".
Живые свидетели того времени представляли для него еще большую ценность. Среди домашних было несколько современников 1812 года: обе тетушки, Александра и Пелагея Ильиничны, тетенька Татьяна Александровна и экономка Прасковья Исаевна, бывшая крепостная князя Николая Андреевича Волконского.
Толстой долго не мог изобразить сцену в Москве, когда московский главнокомандующий, Ростопчин, желая отвлечь недовольную, разнузданную толпу, отдал ей на растерзание молодого Верещагина, арестованного по подозрению в шпионаже. Толстой просил бывшего учителя одной из своих школ, Петерсона, разыскать ему в библиотеке весь материал, относящийся к этому событию. «Я собрал множество рассказов об этом событии, газетных и других, — рассказывает Н. П. Петерсон, — так что пришлось поставить особый стол для всей этой литературы. Лев Николаевич что-то долго не приходил, а когда пришел, и я указал ему на литературу о Верещагине, то он сказал, что читать ее не будет, потому что в сумасшедшем доме встретил какого-то старика, очевидца этого события, и тот ему рассказал, как это происходило» .
Но этого ему мало. Толстому нужно воочию видеть места, где происходили те или иные события, описанные им в романе.
Лысые Горы, пруд, где купались солдаты, где строил с помощью итальянца архитектора свои каменные постройки старик Болконский, с тенистым парком —
описать было не трудно, Толстой описывал Ясную Поляну. Он знал дом на Поварской, где жили Ростовы*. Но как описать Бородинский бой, не побывав на месте, не представив себе расположение войск? И Толстой поехал в Бородино со своим шурином, Степой Берсом.
«Сейчас приехал из Бородина, — писал он своей жене 27 сентября 1867 года. — Я очень доволен, очень, своей поездкой, и даже тем, как я перенес ее, несмотря на отсутствие сна и еды порядочной. Только бы дал Бог здоровья и спокойствия, а я напишу такое Бородинское сражение, какого еще не было!»
Соня огорчалась, что Лёвочка так часто уезжал от нее, что он мало интересовался той жизнью, которой она была всецело поглощена — плохим здоровьем Сережи, который то болел поносом, то кашлял, маленькой Таней, которую она кормила сама, появлением на свет (мая 22, 1866 г.) второго сына, Ильи. Любовь к детям, особенно к черноглазой, живой Тане, росла в Толстом постепенно, по мере проявления в них разума и индивидуальности.
Если случалось что-нибудь серьезное в отсутствие Лёвочки, Соня терялась.
В ноябре 1866 года к Толстым приехала англичанка к старшим детям. «Очень молода, — писала Соня мужу в Москву 12 ноября 1866 г., — довольно мила, приятное лицо, даже хорошенькая очень, но наше обоюдное незнание языков — ужасно. Нынче сестра ее у нас ночует, покуда она переводит нам, но что будет потом, — Бог знает, я даже совсем теряюсь, особенно без тебя, мой милый друг. На этот раз вспомнила твое правило, что надо подумать, как все это покажется через год легко и ничтожно. А теперь даже очень трудно. Дети обошлись, Таня сидела у нее на руках, глядела картинки, сама ей что-то рассказывала, Сережа с ней бегал, говорил, что «она как со мной играет!» Потом Таня представляла в детской, как англичанка говорит, и, вероятно все это образуется, но покуда как-то все это очень неестественно, тяжело, неловко и страшно...»12.
Но с англичанкой скоро действительно все «образовалось», потому что в следующем письме Соня пишет, что они все ездилн кататься и «Ханна была до того счастлива, что прыгала в санях и говорила все «so nice», т. е. верно это значило, что хорошо. И тут же в санях объяснила мне, что очень любит меня и детей и что country хороша и что она «very happy». Я ее понимаю довольно хорошо, но с большим напряжением и трудом. Она сидит, шьет панталончики детям, а детей укладывает старая няня. Когда они перейдут к ней, будет гораздо лучше, и то теперь у ней вполовину меньше дела. Зато мне польза; я скоро выучусь, я уверена; а это очень было бы приятно. Обедает она покуда тоже с нами и чай пьет. Я до тебя еще ничего не переменю, еще успеем. А она и желает и, кажется, понимает свои будущие обязанности. Но она не нянька, она держит себя совсем как равная, но не тяготится никакой работой и очень добродушная, кажется...» 13.
Иногда Соня ревновала своего мужа, но всегда неосновательно. В дневнике от
19 июля 1866 г. Соня пишет:
«У нас новый управляющий с женой. Она молода, хороша, нигилистка. У ней с Левой длинные, оживленные разговоры о литературе, об убеждениях, вообще длинные, неуместные, мучительные для меня и лестные для нее разговоры. Он проповедывал, что в семью, в intimite, не надо вводить постороннее, особенно красивое и молодое существо, а сам первый на это попадается. Я, конечно, не
* Дом гр. Соллогуба на Поварской.
показываю и вида, что мне это неприятно, но уже в жизни моей теперь нет минуты спокойной...»14.
Результат этих «лестных», как Софья Андреевна пишет, разговоров с женой управляющего, был совершенно неожиданный.
Как всегда, в Ясную Поляну временами стекалась молодежь: «зефироты» — Лизднька и Варенька Толстые, Таня Берс и вечная затейница, веселая, остроумная Мария Николаевна Толстая. Осенью 1866 года решили ставить спектакль и просили Толстого написать им пьесу.
Толстой написал пьесу «Нигилист». Тема — ничем не оправданная ревность мужа, глупо приревновавшего свою жену к студенту-нигилисту. Молодежь с восторгом принялась за постановку комедии. Соня играла мужа, Таня — жену, Лиза Толстая — старшая из зефироток — играла героя, студента-нигилиста, а Мария Николаевна Толстая играла странницу, причем Толстой ей только наметил выходы, а она, играя, импровизировала, да так талантливо, что Толстой, сидевший в публике, был в полном восторге и покатывался со смеха. К сожалению, полного текста этой комедии не сохранилось. Но после этого спектакля ревность Сони к красивой «нигилистке» угасла.
В перерывах между заботами о детях, кормлением, прогулками, хлопотами по домашнему хозяйству, ночами, сидя за старинным с шкапчиками столиком красного дерева, Соня круглыми, четкими буквами переписывала роман, с волнением следя за его развитием. Она писала на одной стороне листа, оставляя широкие поля для поправок, которыми испещрял Толстой свои рукописи. И так она переписала всю «Войну и мир» приблизительно 7 раз. И лишь небольшую часть «Войны и мира» переписал специально нанятый для этого писарь.
Когда Толстой уезжал в Москву, между ним и женой всегда велась оживленная переписка. Соня писала о детях, о хозяйстве, Толстой писал ей о событиях, связанных с его работой.
«Завтра пойду к Башилову, — писал он ей от II ноября 1866 года, — в типографию и в Румянцевский Музей читать о масонах».
Башилов был художник — родственник Берсов, и Толстой вел с ним переговоры относительно иллюстраций к «Войне и миру», которую он решил сам издать.
Через четыре дня он пишет жене: «После кофе пошел в Румянцевский музей и сидел там до трех, читал масонские рукописи, очень интересные. И не могу тебе описать, почему чтение нагнало на меня тоску, от которой не мог избавиться весь день. Грустно то. что все эти масоны были дураки».
А из Ясной Поляны писал А. Е. Берсу 2 ноября 1865 года: «Дописываю теперь, т. е. переделываю и опять и опять переделываю свою 3-ю часть. Эта последняя работа отделки очень трудна и требует большого напряжения; но я по прежнему опыту знаю, что в этой работе есть своего рода вершина, которой, достигнув с трудом, уже нельзя остановиться и, не останавливаясь, катишься до конца дела. Я теперь достиг этой вершины и знаю, что теперь, хорошо ли, дурно ли, но скоро кончу эту третью часть. Не кончив же эту часть, мы не тронемся в Москву. Так уж это мы tacitu consensu* признали. В Москве займусь печатанием отдельной книжки вероятно. Впрочем, меня не занимает никогда, как я напечатаю, только бы было написано, т. е. кончено для меня, чтобы меня не тянула больше эта работа, и я мог бы заняться другой».
* По молчаливому соглашению.
Писал Толстой большей частью в Ясной Поляне, приезжая только на зимние месяцы в Москву.
«У меня в голове страшный дурман, — писал Толстой Бартеневу, взявшемуся держать корректуры романа, 26 ноября 1867 года, — я четвертый день не разгибаясь работаю, и теперь второй час ночи».
А Софья Андреевна в своем дневнике от 12 января 1867 года пишет: «Лёвочка всю зиму раздраженно, со слезами и волнением пишет»|5.
За это время в семье Толстых произошел ряд событий.
В январе 1865 года умер муж Марии Николаевны Толстой. Правда, что она уже не жила с ним, так как он часто изменял ей, был человек легкомысленный, но было время, когда Толстой был дружен с ним, и эта смерть не могла не произвести на него впечатления.
Чрезвычайно прозаично разрешился бурный роман между Таней и Сергеем Николаевичем Толстым. Сергей Николаевич в июне 1867 года обвенчался со своей маленькой, кроткой цыганкой Марией Михайловной Шишкиной, а Таня вернулась к своей детской первоначальной любви и 24 июля 1867 года перевенчалась со своим двоюродным братом Сашей Кузминским.
В этот период творчества Толстой жил двумя жизнями: жизнью 1812 года и своей собственной: семьей, хозяйством, охотой. Проходили дни, недели, Толстой не дотрагивался до своего романа. Временами же его собственная жизнь отходила на второй план и Толстой так напряженно работал, что совершенно отрывался от окружающей жизни. Он писал до полного изнеможения, с таким напряжением, что голова его раскалывалась от боли. Порою безудержная мысль его залетала далеко за пределы его романа. Это были мысли о России, о войне, о государственности, несправедливости, глупости и тщете так называемого общественного мнения, о бедности крестьянства и, как часто бывает, мысль наяву продолжала работать и во сне.
13 августа 1865 года Толстой видел сон, который он записал в своей записной книжке:
«Всемирно-народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности.
«La proprieti c'est le vol»* останется больше истиной, чем истина английской конституции, до тех пор, пока будет существовать род людской. — Это — истина абсолютная, но есть и вытекающие из нее истины относительные — приложения. Первая из этих относительных истин есть воззрение русского народа на собственность. Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда, и собственность, более всякой другой стесняющую право приобретения собственности другими людьми, собственность поземельную. Эта истина не есть мечта — она факт, выразившийся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимает одинаково ученый русский и мужик, который говорит: пусть запишут нас в казаки, и земля будет вольная...» (Все это видел во сне 13 августа).»
Летом 1866 года около Ясной Поляны стоял пехотный полк. Офицеры этого полка сообщили Толстому, что бывшего писаря, Василия Шибунина, приговорили к военно-полевому суду. По сведениям, собранным Толстым, начальник Шибунина, холодный, жестокий поляк, не возлюбив своего писаря, постоянно придирался к нему и несправедливо разжаловал Шибунина из писарей и унтер-офицера в рядовые. Шибунин не выдержал несправедливых придирок своего командира и в
припадке гнева ударил его. Ему грозил расстрел и Толстой взялся защищать его. Единственным доводом, который мог спасти Шибунина от смертной казни — было признание его ненормальным, что Толстой и пытался доказать в своей речи. Но дело было проиграно, суд приговорил Шибунина к расстрелу и ходатайство Толстого, посланное им через Александру Андреевну военному министру Милютину, также было отвергнуто. Шибунина расстреляли 9 августа.
Как это часто бывает, казнь эта не подняла авторитета начальства. Многие, присутствовавшие при казни, плакали и народ говорил о «мученичестве» Шибунина. Пока он сидел под арестом, крестьяне снабжали его всем необходимым, а после его расстрела началось паломничество на его могилу, служились панихиды до тех пор, пока не вмешалось начальство. Службы были запрещены и могилу сравняли с землей.
Вопрос о праве одного человека убивать другого снова стал перед Толстым. Возможно даже, что казнь Шибунина каким-то образом косвенно отразилась в «Войне и мире». В шестидесятых и семидесятых годах мы еще чувствуем некоторые противоречия в Толстом. Традиции класса, военного круга, преданность Государю еще сильны в нем, но в «Войне и мире» так же, как в «Севастопольских рассказах», вы уже чувствуете его отвращение к войне. Все положительные герои «Войны и мира» прямо или косвенно чувствуют преступность убийства на войне. Во всех них живет Толстой.
Чем богаче и многограннее натура, чем разностороннее черты и свойства человека, тем больше он способен поглощать мысли и чувства других существ и понимать их. В главных героев Толстого вложены и плохие и хорошие свойства самого Толстого. Но несмотря на это, каждый из них сохраняет свои, только ему одному присущие характерные черты. Некоторые свойства Толстого сгущены, некоторые преуменьшены, иные лишь скользящей тенью проходят в его героях, но семена заложены во всех.
«Я не знаю, что будет потом, не хочу и не могу знать, — думает князь Андрей перед Аустерлицким боем. — Но ежели хочу этого, хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, то ведь я не виноват, что я хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. Да, для одного этого! Я никогда никому не скажу этого, но, Боже мой! что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди — отец, сестра, жена, — самые дорогие мне люди, — но, как ни страшно и неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать, за любовь вот этих людей... я люблю и дорожу только торжеством над всеми ими, дорожу этой таинственной силой и славой, которая вот тут надо мной носится в этом тумане...* С самого своего детства Толстой хотел славы людской, и по его же собственным словам боролся с грехом честолюбия до глубокой старости.
«Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба, — думает князь Андрей. — Ничего, ничего нет, кроме него. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!» и «гладя в глаза Наполеону», склонившемуся над раненым русским офицером, «князь Андрей думал... о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих».
Князь Андрей поправляется, возвращается домой и снова просится в полк.
Его жизненный путь не закончен. Этот гордый человек с уязвленным самолюбием, обманутый любимой им девушкой, должен дойти до известных духовных высот — смирения, всепрощения; черт, так сильно развитых в самом Толстом.
Смертельно раненого во время Бородинского боя, князя Андрея отвезли в госпиталь. Среди раненых, в том, которому ампутировали ногу, князь Андрей узнает того человека, который был виною его горя, человека, которого он искал случая вызвать на дуэль — Анатоля Курагина.
«Около того раненого, очертания головы которого казались знакомыми князю Андрею, суетились доктора; его поднимали, успокаивали, «Покажите мне... Ооооо! о! оооо! — слышался его прерываемый рыданиями, испуганный и покорившийся страданию стон... Раненому показали в сапоге с запекшейся кровью отрезанную ногу»... Князь Андрей не сразу понял, кто был этот человек, чем-то «близко и тяжело» связанный с ним. «И вдруг новое, неожиданное воспоминание из мира детского, чистого и любовного представилось князю Андрею. Он вспомнил Наташу такою, какою он видел ее в первый раз на бале 1810 года с тонкой шеей и тонкими руками, с готовым на восторг, испуганным, счастливым лицом, и любовь и нежность к ней еще живее и сильнее, чем когда-либо, проснулись в его душе. Он вспомнил теперь ту связь, которая существовала между им и этим человеком, сквозь слезы, наполнившие распухшие глаза, мутно смотревшим на него. Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце.
Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал нежными любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями.
«Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам, да. та любовь, которую проповедывал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно. Я знаю это!»
Так думал князь Андрей. Так и не иначе думал бы Толстой.
Разве мы не узнаем Толстого в Николае Ростове, когда он, сознавая в глубине души, что он делает преступление, проигрывает десятки тысяч и потом, рыдая, умоляет отца о прощении и решает, вернувшись в полк, выплатить отцу в течение пяти лет проигранные им деньги.
Во время смотра, «когда Государь объехал почти все полки, войска стали проходить мимо него церемониальным маршем, и Ростов на вновь купленном у Денисова Бедуине проехал в замке своего эскадрона, т. е. один и совершенно на виду перед Государем... Ростов, отличный ездок* два раза всадил шпоры своему Бедуину и довел его счастливо до того бешеного аллюра рыси, которою хаживал разгоряченный Бедуин. Подогнув пенящуюся морду к груди, отделив хвост и как будто летя на воздухе и не касаясь до земли, грациозно и высоко вскидывая и переминая ноги, Бедуин, тоже чувствовавший на себе взгляд Государя, прошел превосходно.
Сам Ростов, завалив назад ноги и подобрав живот и чувствуя себя одним куском с лошадью, с нахмуренным, но блаженным лицом, портом, как говорил Денисов, проехал мимо Государя.
— Молодцы павлоградцы! — проговорил Государь.
"Боже мой! Как бы я счастлив был, если бы он велел мне сейчас броситься в огонь", — подумал Ростов».
...Ростов «был влюблен и в царя, и в славу русского оружия, и в надежду будущего торжества. И не он один испытывал это чувство в те памятные дни. предшествующие Аустерлицкому сражению: девять десятых людей русской армии в то время были влюблены, хотя и менее восторженно, в своего царя и в славу русского оружия».
Великолепный, лихой ездок, всю жизнь знавший это непередаваемое словами ощущение слитности с лошадью, разве Толстой, несмотря на ненависть свою к убийству, отрицание войны, не сохранил до глубокой старости это чувство глубокой любви к своей Родине, чувство патриотизма, теоретически и беспощадно им отрицаемое в последние годы его жизни?
И одновременно с этим всеобъемлющим чувством любви к «славе русского оружия», разве у Ростова в тайниках его сердца не было отвращения к жестокостям войны?
За лихую атаку французских драгун, когда командовавший эскадроном Николай Ростов обратил их в бегство — он был награжден Георгиевским крестом. Все произошло с невероятной быстротой. Николай «видел, что драгуны близко, что они скачут, расстроены; он знал, что они не выдержат, он знал, что была только одна минута, которая не воротится, ежели он упустит ее... С чувством, с которым он несся наперерез волку, Ростов, выпустив во весь мах своего донца, скакал наперерез расстроенным рядам французских драгун».
Наметив жертву — французского драгунского офицера, Ростов сбил его с лошади и ударил его саблей. И «в то же мгновение как он сделал это, все оживление Ростова вдруг исчезло... Лицо его, бледное и забрызганное грязью, белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами, было самое не для поля сражения, не вражеское лицо, а самое простое комнатное лицо. Еще прежде, чем Ростов решил, что он с ним будет делать, офицер закричал: «je me rends»*
...Ростов все думал об этом своем блестящем подвиге, который, к удивлению его, приобрел ему Георгиевский крест и даже сделал ему репутацию храбреца, и никак не мог понять чего-то. «Так они еще больше нашего боятся! — думал он. — Так только-то и есть всего то, что называется геройством? И разве я это делал для отечества? И в чем он виноват с своею дырочкой и голубыми глазами? А как он испугался! Он думал, что я убью его. За что же мне убивать его? У меня рука дрогнула. А мне дали Георгиевский крест. Ничего, ничего не понимаю!»
Разве Толстого не смущали те же мысли во время Севастопольской войны?
Принято считать, что в Николае Ростове Толстой описал своего отца Николая Ильича Толстого, а что в Пьере Толстой описал самого себя. Но облик Николая Ростова, его сангвинический, горячий характер, его привычки, склонности гораздо больше напоминают самого Толстого, чем Пьер.
Рассеянный, грузный, неуклюжий Пьер Безухов в очках, внешне ничем не напоминает Толстого, но мягкость его, уступчивость, внутреннее созерцание своей духовной жизни, стремление к самосовершенствованию, восторженность постижения истины, его понимание и любовь к Платону Каратаеву — это Толстой.
Пьер испытывал восторг, вступая в масонскую ложу. «Противоборствовать злу, царствующему в мире... — повторил Пьер, и ему представилась его будущая деятельность на этом поприще. Ему представлялись такие же люди, каким он был
* Сдаюсь (фр.).
сам две недели тому назад, и он мысленно обращал к ним поучительно-наставническую речь. Он представлял себе порочных и несчастных людей, которым он помогал словом и делом; представлял себе угнетателей, от которых он спасал их жертвы. Из трех поименованных ритором целей, эта последняя — исправление рода человеческого, особенно близка была Пьеру. Некое важное таинство, о котором упомянул ритор, хотя и подстрекало его любопытство, не представлялось ему существенным; а вторая цель, очищение и исправление себя, мало занимала его, потому что он в эту минуту с наслаждением чувствовал себя уже вполне исправленным от прежних пороков и готовым только на одно доброе».
Но в масонстве Пьер не нашел ответа. И он так же, как сам Толстой, продолжает искать. Его мучили противоречия жизни, ложь, оправдывающая жестокости и зло.
«Елена Васильевна, никогда ничего не любившая кроме своего тела, и одна из самых глупых женщин в мире, — думал Пьер, — представляется людям верхом ума и утонченности, и перед ней преклоняются. Наполеон Бонапарт был презираем всеми до тех пор, пока он был велик, и с тех пор как он стал жалким комедиантом — император Франц добивается предложить ему свою дочь в незаконные супруги. Испанцы воссылают мольбы Богу через католическое духовенство в благодарность за то, что они победили 14-го июня французов, а французы воссылают мольбы через то же католическое духовенство о том, что они 14-го июня победили испанцев. Братья мои масоны клянутся кровью в том, что они всем готовы жертвовать для ближнего, а не платят по одному рублю на сборы для бедных и интригуют Астрея против Ищущих Манны, и хлопочут о настоящем шотландском ковре и об акте, смысла которого не знает и тот, кто писал его, и которою никому не нужно. Все мы исповедуем христианский закон прощения обид и любви к ближнему — закон, вследствие которого мы воздвигли в Москве сорок сороков церквей, а вчера засекли кнутом бежавшего человека, и служитель того же самого закона любви и прощения, священник, давал целовать солдату крест перед казнью». Так думал Пьер, и эта вся общая, всеми признаваемая ложь, как он ни привык к ней, как будто что-то новое, всякий раз изумляла его. — «Я понимаю эту ложь и путаницу, — думал он, — но как мне рассказать им все, что я понимаю? Я пробовал и всегда находил, что и они в глубине души понимают то же, что и я, но стараются только не видеть ее».
Пьеру необходимо было пройти через ряд испытаний, физических лишений, для того чтобы обрести ту истинную веру, которую он так усиленно искал. Попав в плен к французам, после того как он бродил по охваченной пожаром Москве, с безумной мыслью убить Наполеона, Пьер впервые испытал тяжелые физические лишения и угрозу быть расстрелянным. Тут же, в плену, он сблизился с простыми солдатами, народом, чудесным воплощением которого был Платон Каратаев, который «любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком, — не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера...»
«...Отсутствие цели давало ему то полное, радостное сознание свободы, которое в это время составляло его счастье.
Он не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру, — не веру в какие-нибудь правила, или слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого Бога. Прежде он искат его в целях, которые он ставил себе. Это искание цели
было только искание Бога; и вдруг он узнал в своем плену не словами, не рассуждениями, но непосредственным чувством, то, что ему давно уж говорила нянюшка: что Бог вот ОН, тут, везде. Он в плену узнал, что Бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами Архитектоне вселенной. Он испытывал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами, тогда как он напрягал зрение, глядя далеко от себя. Он всю жизнь свою смотрел туда куда-то, поверх голов окружающих людей, а надо было не напрягать глаз, а только смотреть перед собой...»
«Жизнь есть все. Жизнь есть Бог. — думал Пьер. — Все перемещается и движется, и это движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания Божества. Любить жизнь, любить Бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий».
Прошло более 80 лет с того времени, как Толстой поставил последнюю точку к своему роману. «Войну и мир» продолжают переводить, печатать и читать во всех странах культурного мира. Невольно спрашиваешь себя: почему?
Со времен Толстого техника писания далеко подвинулась вперед, многие события отошли в далекое прошлое, изменились нравы, обычаи, люди достигли невероятных высот в цивилизации. Почему же роман Толстого все же представляет интерес?
Только потому, что в своем романе Толстой поднимает вопросы вечные. Для Толстого не важны величие и слава Наполеона, освещение историками тех или иных событий. Он ищет правды, своей голой Толстовской правды и не смущается тем, что правда эта не сходится с мнением толпы.
«...Последний отъезд великого императора от геройской армии, — пишет Толстой, — представляется нам историками, как что-то великое и гениальное. Даже этот последний поступок бегства, на языке человеческом называемый последнею степенью подлости, которой учится стыдиться каждый ребенок, и этот поступок на языке историков получает оправдание.
Тогда, когда уже невозможно далее растянуть столь эластичные нити исторических рассуждений, когда действие уже явно противно тому, что все человечество называет добром и даже справедливостью, является у историков спасительное понятие о величии...
И никому в голову не придет, что признание величия, неизмеримого мерой хорошего и дурного, есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости.
Для нас, с данною нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды».
20 июня 1869 года у Толстых родился четвертый ребенок и его, в честь отца, назвали Львом, хотя, по какому-то странному капризу судьбы, мальчик этот меньше других был похож на своего отца.
Несмотря на то, что дети были еще очень маленькие, характеры их уже определялись. Старший, Сергей, был серьезный, вдумчивый мальчик с голубыми, близорукими глазами, до наивности, правдивый, неповоротливый и робкий. Он не любил оправдываться даже тогда, когда был виноват, и черноглазая, живая Таня командовала им, хотя и была на год моложе. Таня знала, как подойти к англичанке Ханне и выпросить у нее то, что ей нужно было, как понравиться папа, как первой взлезть к нему на плечо, и как выпросить лишние 10 минут у мама, когда надо
было идти спать. Скорее всех она научилась лопотать по-английски, скорее мама и Сережи, и Ханна обожала ее. А когда Ханна тихим голосом напевала «Home, sweet home» и, вспоминая свою любимую Англию, плакала, Таня ей подпевала и плакала вместе с ней. Голубоглазый, краснощекий Илья был здоровее и толще всех. Он мало болел, любил поесть, редко капризничал и плакал, и мало причинял забот своей матери. Последний, Лев, чуть ли не с самого своего рождения болел.. Много бессонных ночей, ухаживая за этим болезненным, нервным ребенком, провела мать над его кроваткой, и благодаря этому, она с какой-то болезненностью привязалась к нему и эта исключительная привязанность осталась у нее на всю жизнь. И лицом и способностями, и своими вкусами в жизни Лев был похож на мать.
За годы женитьбы Толстые изменились и внешне и внутренне Софья Андреевна уже была опытная, спокойная мать, основным интересом которой была семья. Она многому научилась. Она уже умела различать сыпь от золотухи, рассматривая своими близорукими глазами детей, умела поставить им клизму или вовремя дать касторку. Она расширилась, немного пополнела и красота ее была еще выразительнее, чем раньше. Иногда ей бывало обидно, что муж мало входил в интересы детской и не принимал к сердцу того, что у Сережи опять понос, и что Леля не спал и кричал всю ночь. Но зато все были в полном восторге, когда он возился с детьми. Он поднимал и сажал их на свои сильные плечи, таскал их по комнате, и Таня, уцепившись своими крошечными ручками за его шею, визжала от удовольствия и страха.
Дети росли в здоровой деревенской обстановке. Ханна водила их гулять во всякую погоду, ежедневно обтирала их холодной водой, к ужасу русской няни Марии Афанасьевны — горячую ванну принимали редко — водопровода не было и воду нагревали в чугунах и наливали ведрами.
Толстой любил сажать детей на лошадей. Как только они могли держаться в седле, они уже ездили верхом самостоятельно, но когда они были маленькие, отец сажал их впереди себя на лошадь и летом возил их так купаться на речку Воронку. Зимой катались на коньках. И отец, уча детей, увлекался сам и учился вырезывать на льду фигуры тройки и восьмерки.
В этот период времени Толстой мало писал. Он пробовал, начинал, но быстро бросал, чувствуя, что это не то... Казалось, что выкачав, опустошив себя, отдав все, что в нем было на создание «Войны и мира», он не мог'начать ничего нового, не отдохнув и не пополнив запаса мыслей. Он жадно искал этой новой умственной и духовной пищи. 30 августа 1869 года Толстой писал Фету: «Знаете ли, что было для меня нынешнее лето? Неперестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю (прочел и Канта), и, верно, ни один студент в свой курс не учился так много и столь многого не узнал, как я в нынешнее лето. Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр — гениальнейший из людей... Не возьметесь ли и вы за перевод его? Мы бы издали вместе. Читая его, мне непостижимо, каким образом может оставаться имя его неизвестно. Объяснение только одно, то самое, которое он так часто повторяет, что, кроме идиотов, на свете почти никого нет».
Но мало того что Толстой углубился в немецких философов, он читал и литературных классиков: Шекспира, Гете, Мольера, Пушкина, Гоголя. Одно время Толстой интересовался драматическими произведениями, снова примерива-
ясь писать для театра. Но и это не удалось. По-видимому, время для нового художественного произведения еще не настало. С. А. Толстая в дневнике от декабря 9-го, 1870 года, пишет: «Сегодня в первый раз начал писать, мне, кажется, серьезно. Не могу выразить, что делалось у него в голове все время его бездействия... В настоящую минуту Л. сидит с семинаристом в гостиной и берет первый урок греческого языка. Ему вдруг пришла мысль учиться по-гречески. Все это время бездействия, по-моему умственного отдыха, его очень мучило. Он говорил, что ему совестна его праздность не только передо мною, но перед людьми и перед всеми. Иногда ему казалось, что приходит вдохновение, и он радовался. Иногда ему кажется — это находило на него всегда вне дома и вне семьи — что он сойдет с ума, и страх сумасшествия до того делается силен, что после, когда он мне это рассказывал, на меня находил ужас»1.
По-видимому, в этой записи Софья Андреевна ссылалась на «Арзамасскую тоску», которую Толстой испытал в одну из своих поездок, когда он намеревался купить имение в Пензенской губернии. Кто из нас не знает этой «Арзамасской тоски», когда во время путешествия приходится останавливаться в чужом городе, далеко от своих, в мещанской обстановке гостиницы. По улицам снуют чужие люди, им нет до тебя дела, и безучастие, и равнодушие их действуют на тебя хуже всякого одиночества.
«Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, — писал Толстой жене, — и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал... и никому не дай Бог испытать».
В «Записках сумасшедшего» — неоконченном произведении 80-х годов — Толстой так описывает это ощущение.
«Да что это за глупость, сказал я себе. — Чего я тоскую? чего боюсь?» —
Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут. — Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она — вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал. Тогда бы я боялся, а теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь, и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно!!»
Впечатление этой жуткой ночи было до такой степени глубоко, что Толстой никогда не мог его забыть. И с тех пор всякое мрачное настроение в семье Толстых всегда называлось «Арзамасской тоской», и Толстой десять лет спустя, в рассказе «Записки сумасшедшего», описал переживания этой ночи.
Занятия греческим языком не были ни дурью, ни прихотью, как Софья Андреевна писала в своем дневнике. Толстой, действительно, самым серьезным образом стал изучать греческий язык.
«Я ничего не пишу, а только учусь, — писал он Фету в начале января 1871 года. — Но как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь. Во-первых, я наслаждаюсь; во-вторых, убедился, что из всего истинно прекрасного и простого прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как и все (исключая профессоров, которые хоть и знают, не понимают); в-третьих, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной вроде «Войны» я больше никогда не стану... Ради Бога, объясните мне, почему никто не знает басен Эзопа, ни даже прелестного Ксенофонта, не говорю уже о Платоне, Гомере, которые мне предстоят. Сколько я теперь уже могу судить, Гомер только изгажен нашими, взятыми с немецкого образца, переводами. Пошлое, но невольное сравнение: отварная и дистиллированная теплая вода — и вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже со щепками и соринками, от которых она еще чище и свежее... Можете торжествовать: без знания греческого — нет образования».
Греческие классики были источником той живительной «с блеском и солнцем» воды, которая, вливаясь в него, давала ему новые запасы для будущего творчества.
«Живу ведь в Афинах, — писал Толстой тому же Фету 6 февраля 1871 года. — По ночам во сне говорю по-гречески».
«Льву Николаевичу вздумалось изучить древнегреческий язык, — писал Степан Андреевич Берс в своих воспоминаниях, — и познакомиться с классиками. Я достоверно знаю, что он изучил язык и познакомился с произведениями Геродота в течение трех месяцев, тогда как прежде греческого языка совсем не знал. Побывав тогда в Москве, он посетил покойного профессора Катковского лицея, П. М. Леонтьева, чтобы передать ему свои впечатления о древнегреческой литературе. Леонтьев не хотел верить возможности такого быстрого изучения древнего языка и предложил почитать вместе с ним a livre ouvert*. В трех случаях между ними произошло разногласие в переводе. После уяснения дела, профессор признал мнение Льва Николаевича правильным»2.
Несколько раз за этот промежуток времени Толстой пробовал писать. Одно время он задумал написать роман из времен Петра. Со свойственной ему добросовестностью он принялся изучать материалы Петровских времен. Возможно, что когда он ближе познакомился с личностью Петра, она оттолкнула его;
* Без словаря (фр.).
кроме того, ему трудно было перенестись во времена Петра I, писать языком того времени, и после «Войны и мира» он, по-видимому, не решался опять взять на себя такой колоссальный труд.
12 февраля 1871 года у Толстых родилась вторая дочь. После родов Софья Андреевна сильно болела горячкой, чуть не умерла. Девочку — маленькую и худенькую, с голубыми глазами и широким лбом — назвали Марией. Софья Андреевна устала н от детей, и от своей болезни. Сам Толстой все время прихварывал, то болели зубы, то ноги. А весной появился сухой, упорный кашель, сильно изнурявший его. Точно тень набежала на отношения Толстых, оба устали, порою раздражались друг на друга. В сущности они, каждый по-своему, были одиноки. Софья Андреевна не находила достаточного сочувствия в муже в своих горестях. Она еще была очень молода, ей хотелось иногда другой, городской жизни, удовольствий, музыки, зрелищ, она скучала без сестры Тани, без ее жизнерадостного беззаботного веселья. Ей надоело сидеть безвыходно в детской, рожать и кормить. Она старалась ближе подойти к мужу, понять его, она любила в нем писателя, любила его художественные вещи и сердцем чувствовала их, но все же были некоторые стороны его мышления, которые постичь она не могла. Да и были ли люди, которые могли бы угнаться за разносторонностью его мышления, его духовной жизни? Каждая прочитанная книга, были ли то Четьи Минеи или былины, или древнегреческие классики, вызывали в нем рой ему одному понятных мыслей и настроений. Еще в 1865 году, ноября 14, он писал Александре Андреевне Толстой: «Много у нас — писателей, есть тяжелых сторон труда, но зато есть эта, верно вам неизвестная, volupte* мысли — читать что-нибудь, понимать одной стороной ума, а другой — думать и в самых общих чертах представлять себе целые поэмы, романы, теории философии».
Было несколько друзей, с которыми он делился своими мыслями, но и они, вероятно, не понимали его до конца.
Афанасий Афанасьевич Фет-Шеншин был одним из тех друзей, которые понимали и ценили Толстого-художника, и Толстой часто изливал ему свою душу. Фет был настоящий художник-поэт, хотя наружность его была весьма не поэтическая. Это был большой и тяжелый человек, с окладистой бородой, крупными чертами лица, отвисшей нижней губой и большими ушами — очень некрасивый. Даром речи он не обладал. Каждую фразу Фет начинал от мычания — «мммммм» — часто останавливался среди рассказа и чем больше волновался, тем чаще речь его прерывалась мычаньем, начинавшимся с глубоких басовых звуков и переходивших к высоким нотам, и обратно, как завыванье, в зависимости от степени его волнения. Фет любил хорошо покушать и жена его, Мария Петровна, уютная, полная женщина, славилась тем, что всегда умела угостить какими-то необыкновенно вкусными кушаньями, разными сладостями, вареньями и соленьями.
Кроме Фета, у Толстого был друг, князь Сергей Семенович Урусов. По-видимому, между Толстым и Урусовым не было особенно глубоких отношений. Урусов был оригинальный человек, во многом не подходивший к общему трафарету, человек необычайной смелости и прямолинейности. «Это был человек очень странный и своеобразный, — писал Илья Толстой в своих воспоминаниях об отце. — Ростом он был почти великан. Во время Севастопольской кампании он командовал полком и, говорят, отличался полным бесстрашием. Он выходил из траншей и, весь в белом, гулял под дождем снарядов и пуль»3. А Лев Николаевич,
* Наслаждения (фр.).
в письме к «Шведским поборникам мира» в 1899 юду, передает следующий случай с кн. С. С. Урусовым:
«Я помню, во время осады Севастополя, я сидел раз у адъютантов Сакена, начальника гарнизона, когда в приемную пришел кн. С. С. Урусов, очень храбрый офицер, большой чудак и вместе с тем один из лучших европейских шахматных игроков того времени. Он сказал, что имеет дело до генерала... Он приходил к Сакену за тем, чтобы предложить вызов англичанам сыграть партию в шахматы на передовую траншею перед 5-ым бастионом, несколько раз переходившую из рук в руки и стоившую уже несколько сот жизней».
Может быть, именно эта оригинальность Урусова, его непохожесть на всех остальных людей ею круга и нравилась Толстому.
Когда печаталась «Война и мир». Урусов одно время держал корректуру романа.
Несколько позднее у Толстого завязались очень близкие отношения с Николаем Николаевичем Страховым. Эта дружба продолжалась до самой смерти Николая Николаевича Страхова — ученого математика, философа в то время редактора журнала «Заря».
Николай Николаевич первый оценил «Войну и мир» и в четырех выпусках журнала «Заря» дал блестящий отзыв о романе. Серьезность и беспристрастность этих статей, в которых Страхов дает «Войне и миру» восторженный отзыв, были огромной радостью для Толстого.
«Ревниво осматриваем мы наше сокровище, — писал Страхов, — это неожиданное богатство нашей литературы, честь и украшение ее современного периода: нет ли где недостатков? Нет ли пропусков, противоречий? Нет ли каких-нибудь важных несовершенств, за которые мы, конечно, с избытком были бы вознаграждены сильными сторонами «Войны и мира», но которые нам все-таки больно было бы видеть в этом произведении? Нет. нет ничего, что могло бы помешать полной радости, что смущало бы наш восторг. Все лица выдержаны, все стороны дела схвачены, и художник до последней сцены не отступил от своего безмерно широкого плана, не опустил ни одного существенного момента и довел свой труд до конца без всякого признака изменения в тоне, взгляде, в приемах и силе творчества»4.
«Полная картина человеческой жизни. Полная картина тогдашней России. Полная картина того, что называется историей и борьбой народов. Полная картина того, в чем люди полагают свое счастье и величие, свое горе и унижение. Вот что такое «Война и мир»5.
Когда в ноябре 1870 года Н. Н. Страхов обратился к Толстому с просьбой дать ему что-нибудь из его писаний для «Зари», Толстому было неприятно ему отказывать, но в это время он уже задумал писать свою «Азбуку» и «Книги для чтения», и ничею художественного не писал, о чем и сообщил Страхову. В этом письме Толстой выражал Страхову свою «сильнейшую симпатию» и просил его заехать к нему в Ясную Поляну, если он будет проезжать по Московско-Курской железной дороге.
Первый раз Страхов посетил Толстых в августе 1871 года, уже после возвращения Льва Николаевича из Самарской губернии, и с тех пор он сделался одним из постоянных посетителей Ясной Поляны.
Николай Николаевич Страхов был одним из редких людей, глубоко понимавших Толстого и, главное, что Толстой всегда чрезвычайно ценил, Страхов беззаветно и по-настоящему любил ею. По своим натурам это были два разных
человека. Страхов никогда не горячился, не раздражался, слушая пламенные, горячие речи Толстого. Большими, ласковыми глазами смотрел он на своего друга, губы из-под густых усов и бороды чуть кривились в насмешливой и умной улыбке, и он не спеша, с истинным пониманием отвечал Толстому своим тихим, ровным голосом.
С течением времени Страхов все больше и больше входил в интересы Толстого, помогал ему в его работе при составлении его «Азбуки» и «Книг для чтения» и был одним из тех редких ценителей творчества Толстого, к которым он прислушивался.
После долгих уговоров своей жены Толстой, наконец, решил обратить внимание на свое ухудшающееся здоровье и 11 июня 1871 года со Степаном Берсом уехал в Самарскую губернию, чтобы полечиться любимым своим средством — кумысом.
Толстой не умел и не любил лечиться, пить кумыс, лежать, отдыхать, и вначале он скучал.
«Я поместился, — писал он жене от 15 июня 1871 года, — в кибитке, купил собаку за 15 рублей и собираюсь с терпением выдержать свой искус, но ужасно трудно. Тоска, и вопрос: зачем занесло меня сюда, прочь от тебя и детей...»
«Живем мы в кибитке, — пишет Толстой в следующем письме 18 июня, — пьем кумыс (Степа тоже, все его угощают); неудобства привели бы в ужас твое Кремлевское сердце: ни кроватей, ни посуды, ни белого хлеба, ни ложек. Так что, глядя на нас, ты бы легче переносила несчастья пережаренной индейки или недосоленного кулича».
Но постепенно Толстой освоился с обстановкой и начал вживаться: он находил какие-то новые интересы, осматривал земли, примериваясь их купить, ходил на охоту, стрелял уток, без конца пил кумыс, ел с башкирами баранину руками, так как никаких вилок и ножей не было, и находил величайшую прелесть в бесконечных просторах степей, поросших ковылем, с пасущимися на них табунами тысяч и тысяч лошадей. Башкиры звали Толстого и везде радушно принимали его: «Куда приезжаешь, — писал Толстой жене 16 июля, — хозяин закалывает жирного курдюцкого барана, становит огромную кадку кумыса, стелет ковры и подушки на полу, сажает на них гостей и не выпускает, пока не съедят его барана и не выпьют его кумыс. Из рук поит гостей и руками (без вилки) в рот кладет гостям баранину и жир, и нельзя его обидеть».
Чем ближе был день отъезда, тем нежнее становились письма Толстого к жене. Он соскучился по ней, по детям и рвался домой. Бездельная растительная жизнь в степях, где он не мог писать, где он даже не читал своих греков, и где он пробовал, для собственного развлечения, рисовать портреты башкирцев — ему надоела. Он писал письма трем старшим детям — Сергею, Тане и Илье, стараясь написать каждому из них то, что было им интересно.
«Письма твои, однако, — писал он жене 16 июля, — мне уже, вероятно, вреднее всех Греков, тем волнением, которое они во мне делают». И он кончает это письмо словами: «Сейчас плакать хочется, так тебя люблю».
Софья Андреевна была уверена, что одной из причин переутомления мужа были его занятия греческим языком. В одном из своих писем Софья Андреевна пишет мужу: «Пьешь ли ты кумыс, толстеешь ли и бросил ли ненавистных греков?» А в следующем письме она писала: «Если ты все сидишь над
греками, — ты не вылечишься. Они на тебя нагнали эту тоску и равнодушие к жизни настоящей»7.
«Дня же лишнего тебя не видать я ни за что не просрочу, — писал он в последнем письме от 20 июля. — Так то мне тяжела семейная жизнь! и крики детей, как ты предполагаешь! Жду не дождусь, когда услышу дуэты Лели и Маши...»
Любовь ли Толстого к степи, башкирцам и к кумысу, страсть ли его к покупке новых имений или желание приобрести какой-то капитал для своей все разрастающейся семьи, но поездка эта в Самарскую губернию кончилась тем, что Толстой очень вьподно купил 2500 десятин земли в Бузулукском уезде Самарской губернии за 20.000 рублей.
Толстой оказался плохим педагогом, когда он занимался со своим собственным сыном Сергеем. Оба нервничали: отец возмущался тупостью сына, а Сережа так старался, так напрягался и боялся не угодить, что окончательно тупел. Занимаясь с сыном, Толстой снова заинтересовался педагогикой. Его поразило несовершенство учебников, убожество книг для чтения.
С тех пор как Толстой прекратил занятия с детьми и издание педагогического журнала он несколько раз возвращался к мыслям о школе, ему хотелось привести в систему и изложить тот опыт, который был им накоплен в школе в 60-х годах. В сентябре 1868 года Толстого посетил американский консул Скайлер. Разговор коснулся педагогики. В своих воспоминаниях Скайлер писал;
«Что всегда особенно озабочивало его (Толстого) и занимало его внимание — было найти лучшую методу для обучения детей чтению. Он много расспрашивал меня о новых методах, употребляемых в Америке, и по ею просьбе я мог доставить ему — я думаю, благодаря любезности г. Гаррисона из «Nation» — хороший выбор американских начальных и элементарных способов обучения чтению. В одном из них, я помню, что произношение различных гласных и некоторых согласных было представлено наглядно буквами, в общем виде похожими на обыкновенные буквы, но с особенными отличиями, которые тотчас бросались в глаза. Эти книги Толстой пробовал применить при изготовлении своей Азбуки»...1
В архиве имеется записная книжка, дающая представление о кропотливой работе Толстого над азбукой. Так, например, одну страницу Толстой испещрил примитивными рисунками. На букву «В»: «Волки любят овец», и нарисована картинка, как волк гонится за овцой. Следующая буква «Г»: «Грибы нашли», и опять смешной рисунок — три больших гриба и две девочки ищут грибы и т. д. Но серьезную работу над Азбукой Толстой начал только три года спустя — в сентябре 1871 года, и ушел в нее с головой.
12 января 1872 г. он писал Александре Андреевне Толстой: «...А писать нечего: внешняя жизнь моя все та же, т. е. по изречению les peuples heureux n'ont pas d'histoire*. У меня все также хорошо дома, детей пятеро и работы столько, что всегда нет времени. Пишу я эти последние года Азбуку и теперь печатаю. Рассказать, что такое для меня этот труд многих лет — Азбука, очень трудно. Нынешней зимой надеюсь прислать вам и тогда вы, по дружбе ко мне, может
* Счастливые народы не имеют истории (фр.).
быть, прочтете. Гордые мечты мои об этой Азбуке вот какие: по этой Азбуке только будут учиться два поколения русских всех детей, от царских до мужицких. и первые впечатления поэтические получат из нее, и что, написав эту Азбуку, мне можно будет спокойно умереть».
В своем представлении Толстой был отчасти прав, так как исправленная и сокращенная «Азбука» и «Книги для чтения» сделались излюбленными книгами не только детей, но и преподавателей школ, и расходились эти книги по всей России в миллионах экземпляров.
«Работы все больше и больше впереди, — писал Толстой Александре Андреевне в апреле 1872 года. — Если бы мне 20 лет тому назад сказали: придумай себе работу на 23 года, я бы все силы ума употребил и не придумал бы работы на три года. А теперь скажите мне, что я буду жить в 10 лицах по сто лет, и мы все не успеем всего переделать, что необходимо. Азбука моя печатается с одного конца, а с другого все пишется и прибавляется. Эта Азбука одна может дать работы на 100 лет. Для нее нужно знание греческой, индийской, арабской литератур, нужны все естественные науки, астрономия, физика, и работа над языком ужасная. Надо, чтобы все было красиво, коротко, просто и, главное, ясно».
Первая, неисправленная «Азбука» составлена следующим образом: 1 часть — Алфавит, обучение чтению и письму; 2 — Книга для чтения; 3 — Обучение церковно-славянскому языку по особой системе, придуманной Толстым: отрывки из Четьи Миней, Библии, Ветхого и Нового Заветов. Молитвы: Арифметика-цифры по древнеславянскому, римскому и арабскому правописанию.
Рассказы, помещенные Толстым в его книгах, интересны и художественны, иногда полны глубокого содержания, но без предвзятого морализирования. Мораль, как таковая, не преподавалась, как это делается в японской школе, где мораль один из главнейших предметов. Так, например, в японских начальных книгах помещены рассказы с моралью о том, что надо выпустить птичку из неволи, помочь больной соседке и т. п., а в университетах переходят к преподаванию философии Конфуция, Лао Тзе и других великих дальневосточных мудрецов. Из рассказов, собранных Толстым, нравственная правда вытекает естественно, сама собой. Начитанность Толстого, его увлечение греческим языком пригодились ему; он припомнил и поместил все, что произвело на него впечатление: русские сказки, «Архиерей и Разбойник» из романа Виктора Гюго «Les Miserables», басни Эзопа, кое-что из Плутарха, индийских, турецких и арабских сказок, одна сказка Андерсена, два значительных и много мелких рассказов самого Толстого. Два больших рассказа, это: «Кавказский Пленник» и «Бог правду видит, да не скоро скажет», чрезвычайно глубокие по своему внутреннему содержанию. Оба они и до сих пор читаются детьми с захватывающим интересом. «Кавказский Пленник» был помещен в журнале «Заря», редактировавшемся Н. Н. Страховым, и обратил внимание критиков своей художественной законченностью. Неизвестный автор в газете «Всемирная Иллюстрация» писал:
«Кавказский пленник» написан совершенно особым, новым языком. Простота изложения поставлена в нем на первом плане. Нет ни одного лишнего слова, ни одной стилистической прикрасы... Невольно изумляешься этой невероятной, небывалой сдержанности, этому аскетически строгому исполнению взятой на себя задачи рассказать народу интересные для него события «не мудрствуя лукаво». Это подвиг, который, пожалуй, окажется не под силу ни одному из прочих корифеев нашей современной литературы. Художественная простота рассказа в
«Кавказском пленнике» доведена до апогея. Дальше идти некуда, и перед этой величественной простотой совершенно исчезают и стушевываются самые талантливые попытки в том же роде западных писателей».
«...Если вся книга, которую собирается издать вскоре для сельских школ гр. Л. Н. Толстой, состоит из рассказов, написанных тем же пошибом, как «Кавказский пленник», то книга эта станет совершенно особо в нашей литературе» .
Обучение детей по «Азбуке» должно было идти по способу Толстого, который он назвал буквосложением, а не по новой, принятой уже педагогикой, звуковой методе. Метода эта заключалась в том, что при запоминании алфавита, ученик должен был произносить букву отрывисто, без гласной, что, по мнению Толстого, было чрезвычайно неестественно и трудно. По способу же Толстого буква произносилась с гласной «е» на конце: бе, ве, ге и т. д. и ученик по слуху учился складывать слоги: бе, а — ба, де, а — да и т. д.
В общих замечаниях для учителя, помещенных в конце книги, Толстой лишь уясняет и подчеркивает еще раз те принципы, на которых была основана его школа в начале 60-х годов:
«Для того, чтобы ученик учился хорошо, — пишет он, — нужно чтобы он учился охотно; для того, чтобы он учился охотно нужно:
1) чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно и
2) чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях.
...Для того, чтобы душевные силы ученика были в наивыгоднейших условиях, нужно:
1) чтобы не было новых, непривычных предметов и лиц там, где он учится.
2) Чтобы ученик не стыдился учителей или товарищей.
3) (Очень важное) Чтобы ученик не боялся наказания за дурное учение, т. е.
за непонимание. Ум человека может действовать только тогда, когда он не подавляется внешними влияниями».
Далее Толстой говорит о том. чтобы не переутомлять ученика, а соразмерять его силы и проч.
«Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученику. Чем больше будет учитель сам учиться, обдумывать каждый урок и соразмерять с силами ученика, чем больше будет следить за ходом мысли ученика, чем больше вызывает на ответы и вопросы, тем легче будет учиться ученик».
В преподавании арифметики Толстой также вырабатывает свою собственную систему. Он высказывается против всякого механического способа в решениях задач и требует сознательного отношения ученика к различным арифметическим действиям.
«Я до одурения занимаюсь эти дни окончанием арифметики, — писал он Н.Н.Страхову 7 августа 1872 г. — Умножение и деление кончены... и кончаю дроби. Вы будете смеяться надо много, что я взялся не за свое дело, но мне кажется, что арифметика будет лучшее в книге«.
Толстой любил математику и знал ее хорошо.
Чтобы проверить правильность своей теории, Толстой, с января 1872 года, снова открывает у себя школу. Он не только учит детей, но и собирает учителей со всей округи, чтобы показать им на деле способ своего обучения грамоте.
«Когда мне было шесть лет, — пишет Илья Толстой в своих воспоминаниях, — я помню, как папа учил деревенских ребят. Их учили в «том доме». («Тот дом» — был флигель, где у Толстого была школа в 60-х годах), а иногда и в нашем доме, внизу. Деревенские ребята приходили к нам и их было очень много. Когда они приходили, в передней пахло полушубками, и учили их вместе и папа, и Сережа, и Таня, и дядя Костя (двоюродный дядя С. А. Толстой). Во время уроков бывало очень весело и оживленно.
Дети вели себя совсем свободно, сидели где кто хотел, перебегали с места на место и отвечали на вопросы не каждый в отдельности, а все вместе, перебивая друг друга и общими силами припоминая прочитанное. Если один что-нибудь пропускал, сейчас же вскакивал другой, третий, и рассказ или задача восстанавливались сообща.
Папа особенно ценил в своих учениках образность и самобытность их языка. Он никогда не требовал буквального повторения книжных выражений и особенно поощрял все «свое»3. Т. е. ценил он в преподавателе умение вызвать каждого ученика к творчеству, к выявлению себя, а не попугайского заучивания того, что сказал учитель.
«Таня и Сережа учат довольно порядочно, — писала С. А. своей сестре Кузминской 2 февраля 1872 года, — в неделю все знают уже буквы и склады на слух. Учим мы их внизу, в передней, которая огромная, в маленькой столовой под лестницей и в новом кабинете. Главное то побуждает учить грамоте, что это такая потребность и с таким удовольствием и охотой они учатся все» .
Невольно все заражались увлечением Толстого, учили все, сам Толстой, его жена, дети, гости... Несмотря на разницу положения, между барскими и крестьянскими детьми часто завязывалась дружба, которая так и оставалась навсегда между членами семьи Толстого и крестьянскими семьями. Обращались
друг к другу на ты, впоследствии Толстые крестили ребят у бывших своих друзей детства.
«У нас все продолжается школа, — писала Софья Андреевна сестре 10 марта 1872 года, — идет хорошо, ребята детям носят разные деревенские штучки: то деревяшки какие-то, правильно нарезанные, то «жаворонки», сделанные из черного теста; после классов таскают Таню на руках, иногда шалят, но почти все выучились читать довольно бойко по складам».5
Когда «Азбука» была уже готова, Толстой решил обратиться к своему новому другу Страхову с просьбой помочь ему с печатанием.
«Любезный Николай Николаевич, — писал ему Толстой 19 мая 1872 г. — Великая к вам просьба. Хочется сделать кучу предисловий о том, как мне совестно и т. д., но дело само за себя скажет. Если вам возможно и вы хотите мне сделать большое добро, вы сделаете. Вот в чем дело. Я давно кончил свою Азбуку, отдал печатать, и в четыре месяца печатание не только не кончилось, не началось и, видимо, никогда не начнется и не кончится... Я вздумал теперь взять это от Риса и печатать в Петербурге, где, говорят, больше типографий и они лучше. Возьметесь ли вы наблюдать за этой работой?».
Добрейший и обожавший Толстого Страхов разумеется согласился. «Огромных денег я не жду за книгу, — писал ему Толстой, — и даже уверен, что, хотя и следовало бы, их не будет, первое издание разойдется сейчас же, а потом особенности книги рассердят педагогов, всю книгу растащат по хрестоматиям и книга не пойдет... Имеют свои судьбы книги, и авторы чувствуют эти судьбы. Так и вы знаете, что ваша книга хороша, и я это знаю, но вы чувствуете, что она не пойдет. Издавая «Войну и мир», я знаю, что она исполнена недостатков, но знал, что она будет иметь тот самый успех, какой она имела, а теперь вижу очень мало недостатков в «Азбуке», знаю ее огромное преимущество над всеми такими книгами и не жду успеха именно того, который должна иметь учебная книга».
И действительно, Толстого ждало горькое разочарование. Издание не распродавалось.
«Азбука» не идет, — писал Толстой Страхову 12 ноября 1872 года, — и ее разбранили в «Петербургских Ведомостях», но меня почти не интересует, я так уверен, что я памятник воздвиг этой «Азбукой».
Но как ни старался Толстой равнодушно отнестись к неуспеху «Азбуки», на самом деле он был глубоко огорчен. В свою работу он вложил так много энергии, труда, а главное любви, что он не мог не почувствовать «оскорбление и уныние», как он писал, прочитав отрицательные отзывы о своем труде. Кончив «Азбуку», он постарался отрезать, отделить ее от своего существа и вернуться к работе над романом из эпохи Петра I. Но и это не пошло.
Для Толстого это было особенно больно, потому что он всем существом своим чувствовал, понимал то, чего не понимали педагоги, ученые... У них знания были теоретические, знания, приобретавшиеся по литературе, отношение к крестьянству было сверху вниз. Мы, ученые, интеллигенты, должны нести свои знания, свой опыт, свое умение в народ, эту темную, некультурную массу. Толстой же думал, что передавая им свои знания, мы прежде всего должны давать то, что ему, народу, нужно и одновременно должны учиться сами у народа, который во многих отношениях стоял выше своих учителей: знанием практической жизни, работоспособностью, терпением, религиозностью, смиренномудрием и даже чистотой художественного творчества, как он писал в своей статье 1862 года
«Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» Толстой знал, что крестьянские дети не выносили никакой фальши, никакого прилаживания или сладких интеллигентских слов и, прислушиваясь к этим народным требованиям, он старался дать им подлинное, классическое по своей мудрости и простоте, творчество и знание.
Когда в 1875 году обратились к Толстому с просьбой помочь в издании журнала «Русский Рабочий», Толстой ответил отказом.
«Я потому только мало сочувствую народному журналу; что я слишком ему сочувствую и убежден, что те, которые за него возьмутся, будут a cent mille lieues* от того, что нужно для народа. Мои требования, льщу себя надеждой, одинакие с требованиями народа», — писал он.
Были еще две попытки Толстого вложить свою лепту в дело народного образования.
15 января 1874 года Толстой выступил в Московском Комитете Грамотности с защитой своего способа обучения грамоте. Там же он предложил произвести опыты: соревнования в двух московских школах. В одной школе велось обучение по звуковому методу, а в другой, по методу Толстого. Толстой сам не принимал в этом опыте участия, но уроки проводил учитель — ученик Толстого, Морозов. Опыты эти не удались и защитники той и другой системы остались каждый при своем мнении.
В декабре 1874 года Толстой писал другу своему Александрии Толстой: «...Я теперь весь из отвлеченной педагогики перескочил в практическое, с одной стороны, и в самое отвлеченное, с другой стороны, дело школ в нашем уезде. И полюбил опять, как 14 лет тому назад, эти тысячи ребятишек, с которыми я имею дело.
Я у всех спрашиваю, зачем мы хотим дать образование народу, и есть пять ответов. Скажите при случае ваш ответ. А мой вот какой: я не рассуждаю, но когда я вхожу в школу и вижу эту толпу оборванных, грязных, худых детей с их светлыми глазами и так часто ангельскими выражениями, на меня находит тревога, ужас, вроде того, как испытывал бы при виде тонущих людей. Ах, батюшки, как бы вытащить, и кого прежде, кого после вытащить. И тонет тут самое дорогое, именно то духовное, которое так очевидно бросается в глаза в детях. Я хочу образования для народа только для того, чтобы спасти тех тонущих там Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых. А они кишат в каждой школе. И дело у меня идет хорошо, очень хорошо. Я вижу, что делаю дело, и двигаюсь вперед гораздо быстрее, я чем ожидал».
В 1874 году осенью Толстой поместил в «Отечественных записках» статью «О народном образовании», написанную в форме письма к Председателю Московского Комитета Грамотности Шатилову. В ней он подробно излагает свой взгляд на народное образование и способ преподавания грамотности по своему методу — буквосложения.
«Народ, — писал Толстой, — главное заинтересованное лицо и судья, и ухом не ведет теперь, слушая наши более или менее остроумные предположения о том, какими манерами лучше приготовить для него духовное кушанье образования; ему все равно, потому что он твердо знает, что в великом деле своего умственного развития он не сделает ложного шага и не примет того, что дурно, — и, как к стене горох будут попытки по-немецки образовывать, направлять и учить его».
* За сто тысяч миль (фр.).
Последняя попытка Толстого внести свой вклад в дело народного образования была сделана уже в 1876 году. Толстой мечтал создать крестьянскую учительскую семинарию, «университет в лаптях», как он выражался, где подготовлялись бы учителя-крестьяне, могущие ближе подойти к крестьянским детям. Ходатайство Толстого, поданное министру народного просвещения об открытии такого учебного заведения, было удовлетворено. Тульская губернская управа пошла Толстому навстречу, казалось, дело налаживалось, но дойдя до уездных управ, оно застряло и так и не кончилось ничем.
Толстой сократил свою Азбуку и она была издана под заглавием «Новая Азбука» и четыре «Книги для чтения». Они имели большой успех и оказались ценным вкладом в мир детской литературы. Сотни тысяч русских детей обучались грамоте по толстовской Азбуке и детские чуткие сердца с трепетом воспринимали те истинно художественные перлы литературного творчества, в которые Толстой вложил столько любви и силы своего созидательного гения.
Вот как отозвался об этом труде С. А. Рачинский, посвятивший всю свою жизнь обучению крестьянских детей в тех школах, которые он, в тех же 70-х годах прошлого столетия, создавал в Смоленской губернии. Он пишет Толстому 20 марта 1877 года:
«Вы мне оказываете такое благодеяние тем, что Вы существуете, что я не могу, от времени до времени, не поблагодарить Вас за это обстоятельство...»
«Понимаете ли Вы теперь, за что я Вас благодарю? Знаете ли Вы, какие сокровища Ваши азбуки? Ваши книги для чтения. Но Вы не можете этого знать. Ваши импровизации в школе, пожалуй, еще лучше того, что Вы напечатали, и все это Вам кажется очень естественным. Поверьте, что в Ваших школьных книгах есть та же доля сверхъестественного, т. е. творчества par la grace de Dieu*, как и в лучших Ваших романах. Нет в мире литературы, которая могла бы похвалиться чем-либо подобным...»6
И в другом письме от 19 июня 1886 года он говорит:
«До нас дошли Ваши последние два рассказа («Где любовь, там и Бог» и «Два старика»). Вчера я прочел их моим ребятам (я живу в школе, и летом окружен ребятами, взрослыми). Да наградит Вас Бог. Но Вы уже награждены. Вы не можете не чувствовать, какое Вы делаете великое, доброе дело, как, на склоне Ваших лет, растут и светлеют Ваши исполинские художественные силы... Ради Христа, продолжайте, тем же тихим, чистым тоном. Последние два рассказа лучше даже блистательного «Чем люди живы». Исчезли все следы художественного procede**. Остался только «блеск правды». Это — верх искусства...»
Несколько важных событий совершилось за то время, как Толстой был погружен в свою «Азбуку», которая, как он писал А. А. Толстой, «печатается с одного конца, а с другого все пишется и прибавляется».
Толстой сделал к дому большую пристройку в два этажа. В нижнем поместилась просторная передняя и большая комната с каменным балконом — его кабинет; наверху — большая комната с тремя окнами с каждой стороны, выходившими на юго-запад и на юго-восток. Эта комната одновременно служила и гостиной и столовой для семьи Толстых, и называлась «залой». Пристройка эта
* Божьей милостью (фр.).
** Приема (фр.).
была сделана основательно — такие же толстые стены, как и в основной части дома, паркетные полы, от которых дети пришли в восторг, потому что когда их натерли воском, по ним можно было скользить, как по льду. Калориферная печь внизу, в «лакейской», отапливала верхний этаж горячим воздухом. Кабинет был разгорожен пополам книжными полками, в середине перегородки дверь, над дверью перекладина. В свой кабинет Толстой поставил свой письменный стол, кожаную мебель, кожаный диван, на котором рождались все его дети, а в нише, в углублении, стоял бюст его любимого старшего брата Николая. Илья Толстой так описывает эту комнату в своих воспоминаниях.
«На стенах оленьи рога, привезенные отцом с Кавказа, и одна оленья голова, набитая в виде чучела. На эти рога он вешает полотенце и шляпу. Тут же на стене висят портреты Диккенса, Шопенгауэра. Фета в молодости и известная группа писателей из кружка «Современника» 1856 года. На ней Тургенев, Островский, Гончаров, Григорович, Дружинин и отец, совсем еще молодой, без бороды, в офицерском мундире»1.
Здесь, в этом кабинете, Толстой был отделен от общей шумной жизни семьи. Из окон, через лужайку, поверх деревьев парка, спускающегося вниз к прудам, виднелись поля, мелькали поезда только что проведенной железной дороги. Толстой радовался на свою новую постройку, как радовался хорошей молодой лошади, удачной охоте, посаженному им молодому яблочному саду.
Но, как всегда в жизни, радости чередовались с огорчениями. Летом 1872 года, в то время как Толстой ездил в Самарскую губернию, чтобы наладить хозяйство во вновь купленном им имении, в Ясной Поляне случилась беда: молодой бык насмерть забодал пастуха. Судебный следователь взял с Толстого подписку о невыезде, предстоял суд. Чувствуя себя не виноватым, Толстой рвал и метал, возмущался, сердился, собирался писать об этом в газетах и сгоряча решил даже эмигрировать за границу.
«Нежданно, негаданно на меня обрушилось событие, изменившее всю мою жизнь, — писал Толстой Александрии, 15 сентября 1872 г. — Молодой бык в Ясной Поляне убил пастуха, и я под следствием, под арестом — не могу выходить из дома (все это по произволу мальчика, называемого судебным следователем), и на днях должен обвиняться и защищаться в суде — перед кем?.. С седой бородой, с 6-ю детьми, с сознанием полезной и трудовой жизни, с твердой уверенностью, что я не могу быть виновным...
Для того, чтобы жизнь в Англии была приятна, — пишет он далее, — нужны знакомства с хорошими аристократическими семействами. В этом-то вы можете помочь мне и об этом я прошу вас. Пожалуйста, сделайте это для меня. Если у вас нет таких знакомых, вы, верно, сделаете это через ваших друзей. Два, три письма, которые открыли бы нам двери хорошего английского круга. Это необходимо для детей, которым придется там вырасти. Когда мы едем, я еще ничего не могу сказать, потому что меня могут промучить, сколько им угодно... Тяжелее для меня всего — это злость моя. Я так люблю любить, а теперь не могу не злиться. Я читаю и Отче наш, и 37-ой псалом и на минуту, особенно Отче наш, успокаивает меня, и потом я опять киплю и ничего делать, думать не могу...»
Но дело уладилось. Толстой успокоился и ему, как это всегда бывало после таких припадков раздражения и вспыльчивости — стало стыдно.
«Вы спрашивали о деле быка, — писал он А. А. Толстой осенью 1872 года. — Оно кончилось тем, что следователь ошибся, обвинив меня... Немножко в
оправдание себя скажу вам еще то, что в последнее время, кончив свою Азбуку, я начал писать ту большую повесть (я не люблю называть романом), о которой я давно мечтаю. А когда начинает находить эта дурь, как прекрасно называл Пушкин, делаешься особенно ощутителен на грубость жизни. Представьте себе человека, в совершенной тишине и темноте прислушивающегося к шорохам и вглядывающегося в просветы мрака, которому вдруг под носом пустят вонючие бенгальские огни и сыграют на фальшивых трубах марш. Очень мучительно. Теперь я опять в тишине и темноте слушаю и гляжу, и если бы я мог описать сотую долю того, что я слышу и вижу. Это большое наслаждение...»
Еще 24 февраля 1870 года Софья Андреевна писала в автобиографических записях: «Вчера вечером он (Толстой) мне сказал, что ему представился тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой, и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины» . На следующий день Толстой сделал первый набросок «Анны Карениной»...
Но, как видно, не созрела еще эта жемчужина его творчества, и он спрятал ее обратно в свою сокровищницу-копилку. Он «слушал и смотрел».
В январе 1872 года покончила с собой Анна Степановна Пирогова, сожительница Александра Николаевича Бибикова, ближайшего соседа Толстых.
18 января С. А. Толстая пишет сестре Тане:
«...Еще у нас в Ясенках случилась драматическая история. Ты помнишь у Бибикова Анну Степановну? Ну, вот эта Анна Степановна ревновала к Бибикову всех гувернанток... Анна Степановна бросилась под вагоны, и ее раздавил поезд до смерти»3.
Прошло больше года, трагический случай с Анной стал забываться, но обворожительный образ другой Анны уже родился в воображении Толстого. Может быть, уже тогда он знал всю жизнь и трагический конец ее, когда она, Анна, «откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон».
19 марта 1873 года, неожиданно для жены, может быть даже для самого себя, Толстой начал писать новый роман.
«Вчера вечером, — писала Софья Андреевна в своих «Записях», — Л. мне вдруг говорит: «А я написал полтора листочка и, кажется, хорошо». Думая, что это новая попытка писать из времен Петра Великого, я не обратила большого внимания. Но потом я узнала, что начал он писать роман из частной и современной эпохи»4. И дальше Софья Андреевна рассказывает, как это случилось.
Старший сын Сережа все приставал к матери, чтобы она дала ему что-нибудь почитать тетеньке Татьяне Александровне. Она дала ему «Повести Белкина» Пушкина. Тетенька скоро заснула и книга осталась лежать на окне. Утром Толстой стал перелистывать книгу и увлекся ею: «Многому я учусь у Пушкина. — сказал он, — он мой отец и у него надо учиться» .
В семье Толстых часто вспоминали этот эпизод и рассказывали, что Толстой, прочитавши первую строчку неоконченного отрывка Пушкина «Гости съезжались на дачу», пришел в восторг, спустился к себе в кабинет и начал повесть «Анна Каренина» словами: «Все смешалось в доме Облонских». На самом деле это не так. Роман в первом наброске начинался со слов еще более близких к Пушкину: «Гости после оперы съезжались к молодой княгине Врасской»... Это превратилось в дальнейшем в начало 6-ой главы 2-ой части романа. Второе же предложение окончательной редакции начала романа: «Все смешалось в доме Облонских», только лишний раз убеждает нас во влиянии Пушкина на творчество Толстого. «Сила Пушкина, — говорил Толстой, — в том, что он сразу, без лишних слов, лишних описаний вводил читателя в жизнь, в действие»*.
Он начал писать Анну Каренину в середине марта, а около 16 мая он писал Страхову, что «роман Анна Каренина вчерне готов».
Мы знаем, как действовала на Толстого весна. Каждый год до глубокой старости вместе с весной в Толстом пробуждалась жажда жизни, творческая сила, жизнерадостность. «Вечер. — писал он в записной книжке. — Разорванные на заре тучи. Тихо, глухо, сыро, тепло, пахуче, лиловатый оттенок... Скотина лохматая, из-под зимних лохмотьев светятся полянки перелинявших мест...»
Для тех, кто знает и любит деревню, эти скупые, отрывочные слова дают целую картину, колышат рой воспоминаний. Краткость и сочность формы изображения природы напоминают однострочные японские «танки» (четверостишие).
Май: «Лист на березе во весь рост, как платочек мягкий. Голубые пригорки незабудок, желтые поля свергибуса... — Пчела серо-черная гудит и вьется и впивается. Лопухи, крапива, рожь в трубку, лезет по часам. Примрозы желтые. На острых травках, на кончиках, радуги в росе. Пашут под гречу. Черно, странно. Бабы треплют пеньку и стелят (на траве) серые холсты. Песни соловьев, кукушек и баб по вечерам...»
* См. в кн.: Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. М.; Пг., 1923. Т. 2. С. %.(«Вот как надо начинать, — сказал вслух Лев Николаевич. — Пушкин — наш учитель. Это срачу вводит читателя в интерес самого действия. Друюй бы стал описывать гостей, комнаты, а Пушкин прямо приступает к делу».)
И Толстой, настежь открыв дверь на свой каменный балкон, в сад, откуда врывались струи свежего, насыщенного ароматом цветов, весеннего воздуха, писал свою «Анну», писал запоем два месяца и, также неожиданно, как начал — бросил ее.
Этим летом Толстые уехали в свое новое Самарское имение. Софья Андреевна побаивалась диких самарских степей, но Толстому так хотелось ехать и он так заботливо старался как можно удобнее устроить жизнь своей семьи в Самарской губернии, что Софья Андреевна согласилась и они все двинулись, с гувернантками, гувернерами и слугами, вниз по Волге, в свое новое имение. За предыдущие поездки, когда Толстой так близко жил с башкирцами, он полюбил их и они относились к нему с большим уважением.
«К чему занесла меня туда судьба (в Самару — А. Т.) не знаю, — писал он Фету. — Но знаю, чго я слушал речи в английском парламенте (ведь это считается очень важным), и мне скучно и ничтожно было; но что там — мухи, нечистота, мужики, башкирцы, а я с напряженным уважением, страхом проглядев, вслушиваюсь, вглядываюсь и чувствую, что все это очень важно».
Ни внешняя грубость, грязь, неграмотность, ничто не могло уничтожить глубокого уважения и любви Толстого к простому народу. Думаю, что если бы он дал волю своему гневу на русское правительство и переехал бы в Европу — он, оторванный от этой внутренней красоты, самобытности, благообразия народа — зачах бы, как чахнут растения на чужой почве.
Последние годы в Самарской губернии были плохими, три года подряд была засуха — неурожай, и населению грозил голод. Толстому было не до писания романа. Надо было спасать людей.
Объездив всю округу по радиусу 70 верст. Толстой убедился в серьезности надвигающегося бедствия и решил немедленно же написать письмо в редакцию «Московских Ведомостей» с призывом о помощи голодающим.
«Крестьянин, — писал он, — несмотря на то, что сеет и жнет более всех других христиан, живет по евангельскому слову: «Птицы небесные не сеют, не жнут, и Отец Небесный питает их». Крестьянин верит твердо в то, что при его вечном тяжком труде и самых малых потребностях Отец его Небесный пропитает его, и потому не учитывает себя, и когда придет такой, как нынешний, бедственный год, он только покорно нагибает голову и говорит; «Прогневали Бога, видно за грехи наши!»
«...В 9/10 семей, — писал дальше Толстой, — недостанет хлеба. «Что же делают крестьяне?» Во-первых, они будут мешать в хлеб пищу дешевую и потому не питательную и вредную: лебеду, мякину (как мне говорили, в некоторых местах это уже начинают делать); во-вторых, сильные члены семьи, крестьяне, уйдут осенью или зимой на заработки, и от голода будут страдать старики, женщины, изнуренные родами и кормлением, и дети. Они будут умирать...»
Было собрано деньгами на голодающих Самарской губернии за 1873 — 1874 гг. 1.887.000 рублей и 21 тысяча пудов хлеба.
Когда в 1874 году Толстой снова поехал в Самарскую губернию, крестьяне уже вздохнули от голода, так как урожай бьы хороший.
Весной 1873 юда Толстые остро пережили, вместе с сестрой Таней, ее первое большое горе — смерть ее старшей дочери Даши. А осенью того же года им самим пришлось пережить первую потерю в своей семье. Умер младший, полуторагодовалый сын Петр. «9 ноября, — писала Софья Андреевна в своем дневнике 11 ноября
1873 года, — в 9 часов утра умер мой маленький Петюшка болезнью горла. Болел он двое суток, умер тихо. Кормила его год и два с половиной месяца, жил он с 13 июня 1872 года. Был здоровый, светлый, веселый мальчик»6.
«Похоронили мы Петю за часовней, где лежат родители Лёвочки, — писала Софья Андреевна своей сестре, — и теперь огородили место для всех нас чугунной решеткой*. Был очень морозный и ясный день и, так же, как Дашечку, и его освещало солнце, и его волосики золотистые так и остались у меня в памяти, освещенные солнцем в окно церкви»**.
Матери всегда тяжелее потеря маленького ребенка, чем отцу. Кто, кроме матери, может ощутить эту неразрывную физическую связь с своим ребенком? Мать, прислупшвающаяся к зарождающейся жизни в своем существе, выкармливающая это теплое, живое существо у своей груди, жадно следящая за мельчайшими индивидуальными его проявлениями, за мутными, постепенно приобретающими осмысленное выражение глазками, за ростом нежных, как шелк, волосиков; кто, как не мать, с беспокойной радостью следит за первыми нетвердыми шагами своего младенца и каким-то необъяснимым чутьем угадывает смысл его первого непонятного лепета. Для нее, для матери, ее будущее сливается с будущим ее ребенка... И вдруг — холодное, каменное тельце... увозится, закапывается где-то у стены церкви и маленький бугорок превратится в одну из могил, занесенную безжалостным снежным покровом.
В письме к Фету Толстой писал: «Утешаться можно, что если бы выбирать одного из нас восьмерых, эта смерть легче всех и для всех; но сердце, и особенно материнское, — это удивительное высшее проявление Божества на земле, — не рассуждает, и жена очень горюет».
Толстой писал Анну Каренину с большими перерывами. 25 сентября он писал Фету: «Я начинаю писать, т. е. скорее кончаю начатый роман». По-видимому, в то время он даже и не представлял себе той громадной работы, которая предстояла ему впоследствии.
Во время писания Толстому нужен был полный покой, сосредоточение. Малейшее нарушение внешней обстановки — нарушало его рабочее настроение. И когда в Ясную Поляну приехал знаменитый художник Крамской, которому Третьяковская галерея поручила написать его портрет, — он был недоволен. Он не любил позировать. Но согласился по настоятельной просьбе самого Крамского и Софьи Андреевны, которая настояла на том, чтобы Крамской сделал два портрета — один для галереи, другой для Толстых.
Портрет удался. Художник сумел схватить сходство, передать силу, мощь некрасивого лица, глубоко сидящих и проницательных глаз, прямо смотрящих на вас из-под густых бровей, и могучее спокойствие всей фигуры в серой блузе, подпоясанной кожаным ремнем***.
В середине февраля 1874 года Толстой сообщает своему другу Страхову, что первая часть романа готова к печати. Известие это вызвало восторг со стороны Страхова.
«Дело, которое совершается в Ясной Поляне, — писал он, — до того важно и для меня драгоценно, что я боюсь чего-то, как бывало боишься и не веришь, что женщина тебя любит. Но вы пишете, что все готово; ради Бога, берегите же
* Село Кочаки, в трех верстах от усадьбы Ясной Поляны.
** Из архива Т. А. Кузминской.
*** Портрет этот до сих находится в Ясной Поляне, в зале дома-музея.
рукопись и не сдавайте ее в типографию. Не поверю своему счастью, пока не увижу печатных строк»7.
По-видимому, уже к тому времени Толстой обдумал конец Анны, так как в июле 1874 года Страхов ему пишет: «Ваш роман не выходит у меня из головы... Развитие страсти Карениной — диво дивное... Что касается до меня, то внутренняя история страсти — главное дело и все объясняет. Анна убивает себя с эгоистической мыслью, служа все той же своей страсти, это неизбежный исход, логический вывод из того направления, которое взято с самого начала. Ах, как это сильно, как неотразимо ясно!» .
С момента сближения Страхова с Толстым, Николай Николаевич не пропускал ни одного слова им написанного. С величайшим вниманием, тонко, с любовью подмечал он малейшие оттенки и изгибы душевной и умственной жизни своего друга. В Страхове Толстой, наконец, нашел чуткого, умного ценителя своего творчества.
20 июня 1874 года семья Толстых снова пережила большую потерю: скончалась тетенька Татьяна Александровна...
«Вчера я похоронил тетушку Татьяну Александровну, — писал Толстой Александрии 23 июня 1874 года... — Она была чудесное существо. Вчера, когда мы несли ее через деревню, нас у каждого двора останавливали: мужик или баба подходили к попу, давали деньги и просили отслужить литию, и прощались с ней. И я знал, что каждая остановка — это было воспоминание о многих добрых делах, ею сделанных. Она 50 лет жила тут и не только зла, но неприятного не сделала никому. А боялась смерти. Не говорила, что боится, но я видел, что боялась. Что это значит? Я думаю, что это смирение. Я с ней жил всю свою жизнь. И мне жутко без нее».
Стоит вспомнить одинокое детство и юность Толстого, его жизнь до женитьбы, чтобы понять, чем была для него тетушка Татьяна Александровна. Не было бы тетеньки, кто позаботился бы о сиротах после отца? Кто ежедневно молился бы о Левочке, писал бы ему письма, полные любви и ласки в то время, как он был на войне? Кто создал бы ему уют, когда он вернулся и холостяком жил в Ясной Поляне?
Толстой до глубокой старости любил вспоминать тетеньку.
«Как я мог пожалеть для нее сладенького, забывать ее или сердиться на нее? Когда она умерла, мне было невыразимо больно, что я недостаточно внимательно относился к ней при жизни»* — говорил он.
После Пети, 22 апреля 1874 года, у Толстых родился сын, которого в память Николая Николаевича Толстого назвали Николаем. Прожил он всего 10 месяцев и умер от водянки. И эта смерть так же, как и смерть Пети, сильно подействовала на Софью Андреевну.
«Унылая апатия, — писала она в дневнике, — равнодушие ко всему, и нынче, завтра, месяцы, годы — все то же и то же. Проснешься утром и не встаешь»9.
Ее мучила мысль о бесцельности ношения, кормления детей, весь этот труд, болезни... Зачем? Смерть казалась ей бессмысленно жестокой, никому не нужной. Ей стало все, все равно...
«Что меня подымет, что ждет меня? — писала она дальше — ...Вечером то же вышивание дырочек и вечное, ненавистное для меня раскладывание
* Из воспоминаний А. Л. Толстой.
пасьянсов тетеньки с Левочкой. Чтение доставляет короткое удовольствие. но много ли хороших книг?»
«Видит Бог, — пишет она дальше, — как я нынешний год боролась с этой постыдной скукой, как я одна, в душе, поднимала в себе все хорошее и вооружалась, главное, мыслью, что для детей, для их нравственного и физического здоровья самое лучшее — деревенская жизнь, и мне удавалось утишить свои личные, эгоистические чувства, но я к ужасу своему вижу, что это переходит в такую страшную апатию и такое животное, тупое равнодушие ко всему...10
Жить всецело интересами своего мужа — она не могла. Она старалась интересоваться его делами: и Самарским имением, и школой, которой он был особенно занят зимой 1874 года, его писанием и усердно переписывала его рукописи. Но все это было его. Ее дело были дети, она потеряла двоих, и она устала носить и кормить. Порой ей бывало бесконечно тоскливо в деревне. Хотелось света, музыки, людей...
И в то время, как ему надо было прожить, как он писал, еще 100 жизней, чтобы выполнить задуманное, — она скучала, она не знала, что с собой делать, где, помимо семьи, найти то, что заполнило бы ей жизнь.
Сознавал ли он это? Мог ли он помочь ей? Может быть, и нет. Жизнь для него была так полна, так много было интересов и дела, что он не мог понять и представить себе, если бы и захотел, почему она ощущала эту пустоту.
В конце января 1875 года появилось объявление в «Московских Ведомостях» о выходе романа Толстого «Анна Каренина» в № 1 «Русского Вестника», от I до XIV глав.
Несмотря на блестящие отзывы критиков, поощрения его друзей, восторженные отзывы Н. Н. Страхова, Толстому временами хотелось бросить свой роман.
22 февраля 1875 г. он писал Фету: «Вы хвалите „Каренину", мне это очень приятно, да и как я слышу, ее хвалят, но,наверное,никогда не было писателя столь равнодушного к своему успеху, si succes il у а*, как я».
Нередко в письмах к друзьям он жаловался, что Каренина ему противна, надоела.
«Я два месяца не пачкал рук чернилами и сердца мыслями, — писал он Фету 25 августа 1875 года, — теперь же берусь за скучную, пошлую Каренину с одним желанием поскорее опростать себе место — досуг для других занятий, но только не педагогических, которые люблю, но хочу бросить. Они слишком много берут времени».
Почти в тех же выражениях он писал Страхову, — ему нужно «опростать место», иметь «досуг».
Прочтенная им первая книга Вл. Соловьева «Кризис западной философии. Против позитивистов» была еще одним толчком, взбудоражившим его собственные мысли.
«Мое знакомство с философом Соловьевым очень много дало мне нового, очень расшевелило во мне философские дрожжи и много утвердило и уяснило мне мои самые нужные для остатка жизни и смерти мысли, которые для меня так утешительны, что если бы я имел время и умел, я бы постарался передать и другим».
* Если действительно есть успех (фр.).
Это были мысли о Боге, о душе, о смерти, о смысле жизни, то. к чему он постоянно возвращался, что с годами все глубже и глубже в нем вкоренялось и то, что. спустя несколько лет, захватило его целиком и сделалось основой его миросозерцания.
Толстой часто находил ответы на свои вопросы в народе. Простые слова, сказанные неграмотным рабочим Федором Левину-Толстому, произвели целую бурю в его душе «...Люди разные, — сказал Федор, — один человек только для нужды своей живет... брюхо набивает», а другой «правдивый... для души живет. Бога помнит».
Ту глубину, которую Толстой усмотрел за этими обыкновенными словами Федора, вызвали в нем тот же восторг, что и философия Шопенгауэра, Канта, Паскаля...
Левин-Толстой «чувствовал в своей душе что-то новое и с наслаждением ощупывал это новое, не зная еще, что это такое».
«Не для нужд своих жить, а для Бога. Для какого Бога? И что можно сказать бессмысленнее того, что он сказал? Он сказал, что не надо жить для своих нужд, т. е. что не надо жить для того, что мы понимаем, к чему нас влечет, чего нам хочется, а надо жить для чего-то непонятного, для Бога, которого никто ни понять, ни определить не может. И что же? Я не понял этих бессмысленных слов Федора? А, поняв, усумнился в их справедливости? нашел их глупыми, неясными, неточными?
Нет, я понял его и совершенно так, как он понимает, понял вполне и яснее, чем я понимаю что-нибудь в жизни, и никогда в жизни не сомневался и не могу усумниться в этом. И не я один, а все, весь мир одно это вполне понимают и в одном этом не сомневаются и всегда согласны...
А я искал чудес, жалел, что не видал чуда, которое бы убедило меня. А вот
чудо, единственно возможное, постоянно существующее, со всех сторон окружающее меня, и я не замечал его!»
Описывая переживания Левина, Толстой писал про себя. Он «чувствовал» и «нащупывал», но мысли его и его мировоззрение не приняли еще определенных форм. Глубочайшие религиозно-философские мысли еще перемешивались с житейскими заботами: мыслями об увеличении состояния, желанием, чтобы дети сносились с аристократическими семьями, с неоправданными вспышками гнева и порой даже с чисто мальчишескими затеями.
Летом 1875 года Толстые опять уехали в Самарское имение. Толстого влекла к себе вольная, дикая жизнь полукочевых монгольских племен с их особыми нравами и обычаями, широкие горизонты, простор степей, поросших мягким ковылем, особая порода киргизских, с густыми гривами и хвостами, низкорослых лошадей. Ему нравилась горячность, сила и резвость этих степняков и он даже подумывал завести в своем имении конный завод, скрещивая степняков с рысаками.
Толстой так увлекся лошадьми, что к великому восторгу населения и детей Толстых придумал устроить скачки.
Оповестили население и в назначенный день со всей округи стали съезжаться гости со своими кочевками*, котлами, баранами и бочками кумыса: местные крестьяне, киргизы, башкиры в халатах, в чистых белых рубахах и шароварах, барашковых шапках, фесках и мягких кожаных сапожках. Четырех знатных магометанских женщин, лица которых, по обычаю, должны были быть закрыты, привезли на праздник в графской карете.
Вся эта толпа в несколько тысяч человек, расстелив ковры, живописными, пестрыми группами чинно расположилась на возвышении, откуда видны были скачки. Заунывное восточное пение, игра на дудочках, пляска чередовались с борьбой. По кругу в пять верст пущены были 22 лучшие лошади. Но только четыре пришли, остальные отстали. Победителям торжественно преподнесли призы: часы с портретом Государя, халат, шелковые платки. Через два дня все разъехались, довольные и веселые. Все обошлось как нельзя лучше, без всяких неприятностей и без всякой помощи полиции, чем Толстой был очень доволен.
Вернувшись из Самарской губернии, Толстой не сразу взялся за свою Анну. Софья Андреевна писала сестре от 26 августа, что «Левочка налаживается писать».
«Тот Толстой, который пишет романы, еще не приезжал, и я его ожидаю не с особенным нетерпением», — писал он Фету в сентябре 1874.
Он никак не мог заставить себя засесть за роман.
«Страшная вещь наша работа, — писал он Фету несколько дней спустя. — Кроме нас, никто этого не знает. Для того, чтобы работать, нужно, чтобы выросли под ногами подмостки. И эти подмостки зависят не от тебя. Если станешь работать без подмосток, только потратишь материал и завалишь без толку такие стены, которых и продолжать нельзя. Особенно это чувствуется, когда работа начата. Все кажется: отчего же не продолжать? Хвать-похвать, недостают руки, и сидишь дожидаешься. Так и сидел я. Теперь, кажется, подросли подмостки, и засучиваю рукава».
* «Кочевка» — башкирская кибитка. «Она представляет собой деревянную клетку, имеющую форму приплюснутого полушария. Клетка эта покрывается большими войлоками и имеет деревянную расписную дверцу. Пол заменяет ковыль (трава). Кочевка легко раскладывается и перевозится. Летом в степи что жилище весьма приятно». — Воспоминания С. А. Берс.
И, как всегда, в сооружении этих подмостков, необходимых Толстому дли построения его здания, тонкими, меткими замечаниями, поощряющими его к писанию, более чем кто-либо, помогал ему Н. Н. Страхов.
«Вы не моралист, — писал ему Страхов 23 ноября 1875 года, — вы истинный художник... Искусство часто упрекали в безнравственности, и справедливо упрекали. Искусство воспевает страсти, красоту жизни, и потому-то оно всегда есть спутник наслаждений... Но когда Вы начинаете создавать образы, то у Вас является бесконечная, несравненная чуткость относительно их нравственного смысла; Вы судья, — в одно время и беспощадно проницательный, и совершенно милостивый, умеющий все оценить в надлежащую меру»...1
Но писать этой осенью Толстому не удалось. Софья Андреевна тяжко заболела воспалением брюшины, едва успев оправиться от коклюша, которым заразилась от детей.
При виде страданий близких Толстой терялся, мучился, метался из угла в угол и не знал, что делать, А Софья Андреевна, как последствие своих болезней, 1 ноября преждевременно родила девочку. Ее едва успели окрестить, дав ей имя Варвары.
Наконец, казалось, жизнь стала входить в нормальную колею, но еще одна смерть посетила семью Толстых. 22 декабря умерла родная тетушка Толстого — Пелагея Ильинична Юшкова, бывшая опекунша братьев Толстых. Старушка жила в монастыре и точно почувствовав приближение смерти, в том же году приехала умирать к своим. Невольно сталкиваясь в собственной семье со смертью, которая за последние годы унесла трех его детей и двух тетушек, Толстой стал все чаще и чаще о ней задумываться. Потеря тетушки Пелагеи Ильиничны лично мало огорчила его, он никогда не был с ней особенно близок, но в этой смерти его поразило другое — отсутствие смирения, боязнь конца, непокорность воле Божьей. Его самого мучила «тайна смерти», как он писал в Анне Карениной, описывая смерть брата Николая. «Еще менее, чем прежде, он чувствовал себя способным понять смысл смерти, и еще ужаснее представлялась ему ее неизбежность».
«...Ничего более не остается в жизни, как умирать. Это я чувствую беспрестанно», — писал он брату Сергею 21 февраля 1876 года. И он «беспрестанно» возвращался к этим же мыслям.
«Вы говорите, — писал он Александре Андреевне Толстой в апреле 1876 года, — что не знаете, во что я верую. Странно и страшно сказать: ни во что из того, чему учит нас религия; а вместе с тем, я не только ненавижу и презираю неверие, но не вижу никакой возможности жить без веры, и еще меньше возможности умереть. И я строю себе понемножку свои верования, но они все, хотя и тверды, но очень неопределенны и неутешительны. Когда ум спрашивает, — они отвечают хорошо, но когда сердце болит и просит ответа, то нет поддержки и утешения. Я с своими требованиями ума и ответами, даваемыми христианской религией, нахожусь в положении двух рук, которые стремились бы сложиться, но упираются пальцами. Я желаю, и чем больше стараюсь, тем хуже; а вместе с тем знаю, что это можно, что одно сделано для другого».
Только в середине зимы Толстой вернулся к писанию своего романа. Он должен был кончать. Первая часть уже была напечатана в первых четырех книжках «Русского вестника» за 1875 год и только в январе 1876 года «Анна Каренина» снова появилась в журнале.
«Я очень занят Карениной, — писал Толстой Страхову от 15 февраля 1876 г. —
Первая книга суха, да и, кажется, плоха, но нынче же посылаю корректуры 2-ой книги, и это, я знаю, что хорошо».
В марте 1876 г. Толстой писал Александрии: «Моя Анна надоела мне, как горькая редька. Я с ней вожусь, как с воспитанницей, которая оказалась дурного характера, но не говорите мне про нее дурного, или, если хотите, то с menagement*, она все-таки усыновлена».
Несомненно, что то обстоятельство, что Толстой связал себя с «Русским вестником», и стал печатать роман не закончивши его — было психологической ошибкой. Он не мог, по всегдашней своей привычке, исправить напечатанного, и эта связанность мешала ему.
В начале апреля он писал Н. Н. Страхову: «Я со страхом чувствую, что перехожу на летнее состояние: мне противно то, что я написал, и теперь у меня лежат корректуры на апрельскую книжку, и боюсь, что не буду в силах поправить их. Все в них скверно, и все надо переделать, и переделать все, что напечатано, и все перемарать, и все бросить, и отречься, и сказать: виноват, вперед не буду, и постараться написать что-нибудь новое, уж не такое нескладное, ни то ни семное. Вот в какое я прихожу состояние, и это очень приятно... И не хвалите мой роман. Паскаль завел себе пояс с гвоздями, который он пожимал локтями всякий раз, как чувствовал, что похвала его радует. Мне надо завести такой пояс. Покажите мне искреннюю дружбу: или ничего не пишите мне про мой роман, или напишите мне только все, что в нем дурно. И если правда то, что я подозреваю, что я слабею, то, пожалуйста, напишите мне. Мерзкая наша писательская должность — развращающая. У каждого писателя есть своя атмосфера хвалителей, которую он осторожно носит вокруг себя и не может иметь понятия о своем значении и о времени упадка. Мне бы хотелось не заблуждаться и не развращаться дальше. Пожалуйста, помогите мне в этом. И не стесняйтесь мыслью, что вы строгим суждением можете помешать деятельности человека, имевшего талант. Гораздо легче остановиться на «Войне и мире», чем писать «Часы»** или т. п.»
«Анна Каренина кажется стала», — с огорчением писала Софья Андреевна своему дяде К. А. Иславину. Она все еще не могла оправиться от своих болезней — кашляла, худела. Смерти трех детей морально подкосили ее здоровый организм. Если бы Толстой снова начал писать, у нее было бы занятие-переписка, и она немного отвлеклась бы от своего горя. Пессимизм, свойственный ее характеру, усилился, ей все было трудно, через силу заставляла она' себя заниматься с детьми, не раздражаться на них.
В начале июня Толстой повез жену в Москву к доктору. Но доктор не нашел ничего серьезного и постепенно здоровье ее стало восстанавливаться.
По обыкновению, летом Толстой почти не писал. Читал, рассуждал о философских вопросах с Н. Н. Страховым, часто приезжавшим в Ясную Поляну, ездил в Самарскую и Оренбургскую губернии покупать лошадей и только в сентябре месяце опять срочно засел в Ясной Поляне, ожидая вдохновения.
«Приехав из Самары и Оренбурга вот скоро два месяца (я сделал чудесную поездку), — писал он Страхову 12 ноября, — я думал, что возьмусь за работу, окончу давящую меня работу — окончание романа — и возьмусь за новое, и вдруг вместо этого всего до сих пор ничего не сделал. Сплю духовно и не могу
* Бережно (фр.).
** «Часы» — рассказ И. С. Тургенева, написанный в 1850 году.
проснуться. Нездоровится, уныние. Отчаяние в своих силах. Что мне суждено судьбой, не знаю, но доживать жизнь без уважения к ней, а уважение к ней дается мне только известного рода трудом — мучительно. Думать даже — и к тому нет энергии. Или совсем худо, или сон перед хорошим периодом работы».
И действительно, в конце ноября Толстой снова начал усиленно писать и в середине декабря повез в Москву последующие главы Анны для декабрьской книжки.
Во время своего пребывания в Москве Толстой несколько раз заходил к П. И. Чайковскому.
«Я ужасно польщен и горд интересом, который ему внушаю, — писал Чайковский А. Давыдовой 23 декабря 1876 г., — и со своей стороны вполне очарован его идеальной личностью» \
По словам брата Петра Ильича, Чайковский почти боготворил Толстого. «Впечатлительности и воображению Петра Ильича, — пишет его брат, — свойственно было всему, что он любил, но чего... не осязал, придавать фантастические размеры, поэтому творец «Детства и отрочества», «Казаков» и «Войны и мира» ему представлялся не человеком, а, по его выражению, «полубогом»3. И, вместе с тем, Чайковский боялся Толстого. «Мне казалось, — писал он в своем дневнике от 1886 года, — что этот величайший сердцеведец одним взглядом проникает во все тайники моей души. Перед ним, казалось мне, уже нельзя скрывать всю дрянь, имеющуюся на дне души, и выставлять лишь казовую сторону» .
Чайковский просил Николая Рубинштейна (директора Московской консерватории) устроить специальный музыкальный вечер для Толстого.
Мы знаем, какое впечатление производила на Толстого хорошая музыка. То, что он испытывал, было гораздо сложнее, чем простое наслаждение. Музыка проникала в самые глубокие тайники его души, она потрясала все его существо, взрывая подчас ему самому неведомые, затаенные в нем источники мыслей и чувств. Волны восторга, радости и страха утерять эти секунды почти божественного подъема заливали его душу, спирали дыханье, хотелось одновременно и плакать и смеяться, и сейчас же, не теряя ни одной минуты, самому творить, создавать что-то большое, им одним постигаемое...
«...О том, что происходило для меня в круглой зале, я не могу вспомнить без содрогания», — писал Чайковскому Толстой из Ясной Поляны.
А Чайковский записал в своем дневнике:
«Может быть, ни разу в жизни... я не был так польщен и тронут в своем авторском самолюбии, как когда Л. Н. Толстой, слушая andante моего 1-го квартета и сидя рядом со мной, залился слезами» .
В том же письме Толстой благодарил Чайковского и просил передать его благодарность Рубинштейну, а также и то прекрасное впечатление, которое на него произвел весь музыкальный кружок, с которым он встретился. Одновременно с этим Толстой послал Чайковскому сборник народных песен, прося их использовать для своей музыки. Чайковский ответил Толстому утонченно вежливым письмом, раскритиковал сборник и на этом отношения оборвались.
9 декабря 1876 года Софья Андреевна писала своей сестре Тане: «Анну Каренину мы пишем, наконец, по-настоящему, т. е. не прерываясь. Левочка, оживленный и сосредоточенный, всякий день прибавляет по целой главе, я
усиленно переписываю, и теперь даже под этим письмом лежат листки новой главы, которую он вчера написал»6.
Последняя часть Анны Карениной печаталась в первых четырех книжках «Русского вестника». Но тут произошло недоразумение между редактором журнала Катковым и Толстым по поводу Сербского восстания.
Как это часто бывало, Толстой пошел против течения и считал ненужным, чтобы русские добровольцы шли воевать против турок.
«..Такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть», — сказал Левин-Толстой, доказывая, что масса русского народа не может интересоваться войной сербов с Турцией.
Катков требовал изменения написанного.
«Оказывается, — писал Толстой Н. Н. Страхову 22 мая 1877 года из Ясной Поляны, — что Катков не разделяет моих взглядов, что и не может быть иначе, так как я осуждаю именно таких людей, как он, и, мямля учтиво, прося смягчить то, выпустить это. Ужасно мне надоел, и я уже заявил им, что если они не напечатают в таком виде, как я хочу, то вовсе не напечатаю у них...». И, по совету Страхова, Толстой решил выпустить последнюю 8-ую часть романа отдельным изданием.
Роман был закончен, и успех его был действительно огромный. Об «Анне Карениной» заговорили, как в Москве, так и в Петербурге, и. как всегда, его хвалили и критиковали.
Толстой не хотел поддаваться развращающему влиянию похвалы. Он старался не забывать паскалевского пояса с гвоздями, и когда вовремя спохватывался, то старался мысленно его нажимать... Весной Страхов послал Толстому хвалебные статьи об Анне — он не стал их читать и сжег.
Но, несмотря на это, в письме к Н. Н. Страхову он писал, что «успех последнего отрывка «Анны Карениной», тоже признаюсь, порадовал меня. Я никак этого не ждал».
Тургенев с нетерпением ждал выхода романа, и, по прочтении, поспешил поделиться с другими литераторами своим мнением: «Анна Каренина мне не нравится, — писал он поэту Полонскому, — хотя попадаются истинно великолепные страницы (скачка, косьба, охота). Но все это кисло, пахнет Москвой, ладаном, старой девой, славянщиной, дворянщиной и т. д.»7
Между тем Достоевский писал: «"Анна Каренина" есть совершенство, как художественное произведение... с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться»8.
Нечего говорить о восторженных отзывах друзей Толстого, Страхова и Фета. Последний в длинном письме к Толстому, говоря о романе, писал: «Но какая художницкая дерзость — описание родов. Ведь это никто от сотворения мира не делал и не сделает. Дураки закричат о реализме Флобера, а тут все идеально. Я так и подпрыгнул, когда дочитал до двух дыр в мир духовный, в нирвану. Эти два видимых и вечно таинственных окна: рождение и смерть. Но куда им до этого!»9
7 мая 1877 г. Страхов писал Толстому: «О выходе каждой части «Карениной» в газетах извещают также поспешно и толкуют так же усердно, как о новой битве или новом изречении Бисмарка»10.
А в письме от 18 мая Страхов писал Толстому: «Последняя часть «Анны Карениной» произвела особенно сильное впечатление, настоящий взрыв. Достоевский машет руками и называет вас богом искусства»''.
Часто читатели задают себе вопрос: кто — кто? в романах Толстого. Как всегда, герои Толстого — характеры собирательные, зародившиеся в его воображении из нескольких типов, которых он встречал в жизни, и дополненные его воображением. Анну Каренину Толстой встретил на одном вечере в 1868 году. «Кто она?» — спросил он у Тани Кузминской. Это оказалась дочь Пушкина, М. А. Гартунг. Ее породистость, привлекательность, милые завитки на затылке, красота — поразили его. К образу М. А. Гартунг примешались еще черты других женщин, может быть Дьяковой-Оболенской, к которой в свое время он был неравнодушен, и других.
Стива Облонский напоминает Леонида Оболенского, мужа Лизаньки, дочери Марии Николаевны Толстой — то же легкомыслие, бесшабашность, мотовство, но наружностью и характером Стива больше напоминал приятеля Толстого-Перфильева, веселого бонвивана.
Николай Левин, с его сожительницей Машей, его болезнь и смерть ярко напоминают нам брата Толстого Димитрия.
Образ Кити, описание первых родов, сцена в лесу, где Кити с ребенком застала гроза, — все это взято из жизни Толстых.
Но, может быть, более чем в каком-либо другом произведении Толстого, мы чувствуем его самого в его герое Константине Левине. Взгляд его на жизнь, увлечение хозяйством, желание помочь крестьянам, отрицательное отношение к земствам, ревность к жене, увлечение переселенческим движением, волновавшим Толстого и которому он приписывал большое значение — все это несомненно черты автобиографические.
Но главное сходство — это искание Левиным того миросозерцания, которого в то время так мучительно искал автор Анны Карениной.
В последних, почти заключительных словах «Анны Карениной» ярко выявлены переживания Левина-Толстого:
«Уже совсем стемнело, и на юге, куда он смотрел, не было туч. Тучи стояли с противной стороны. Оттуда вспыхивала молния и слышался дальний гром. Левин прислушивался к равномерно падающим с лип в саду каплям и смотрел на знакомый ему треугольник звезд и на проходящий в середине его Млечный путь с его разветвлением. При каждой вспышке молнии не только Млечный путь, но и яркие звезды исчезали, но, как только потухала молния, как будто брошенные какой-то меткой рукой, опять появлялись на тех же местах.
«Ну что же смущает меня?» — сказал себе Левин, вперед чувствуя, что разрешение его сомнений, хотя он не знает еще его, уже готово в его душе.
«Да, одно очевидное, несомненное проявление божества — это законы добра, которые явлены миру откровением, и которые я чувствую в себе, и в признании которых я не то что соединяюсь, а волею-неволею соединен с другими людьми в одно общество верующих, которое называют Церковью».
Искать до самой смерти, искать, постепенно постигая то вечное неизменное, ради чего живет человек, — вот к чему рвалась душа Толстого в эти годы.
«...Так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь, — писал он в заключительных строчках «Анны Карениной», — и буду молиться, — но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее — не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!»
12 апреля 1877 года объявлена была война с Турцией. «...Мысль о войне застилает для меня все, — писал Толстой Страхову в августе 1877 года. — Не война самая, но вопрос о нашей несостоятельности, который вот-вот должен решиться, и о причинах этой несостоятельности, которые мне все становятся яснее и яснее».
Несмотря на внутреннее отвращение к войне, в Толстом всколыхнулись старые дрожжи. Как бывший военный патриот, он страдал от ущемленной гордости, мысль, что русские могут проиграть войну, — была для него невыносима. «Чувство мое по отношению к войне перешло уже много фазисов, — писал он Страхову 2 сентября 1877 года, — и теперь для меня очевидно и несомненно, что эта война, кроме обличения, и самого жестокого и гораздо более яркого, чем в 1854 году, не может иметь последствий».
«Левочка странно относился к Сербской войне, — писала С. А. Толстая своей сестре Тане. — Он почему-то смотрел не так, как все, а с своей личной, отчасти религиозной точки зрения; теперь он говорит, что война настоящая и трогает его»1.
На протяжении всей жизни Толстого мы замечали, что он часто, с обывательской точки зрения, «странно» относился к разным явлениям жизни и так называемому общественному мнению. Эта черта — критическое отношение к утвердившимся модным течениям — была в нем с самого детства. У «Левочки» всегда были какие-то «странности», которым поражались его воспитатели. В юности Толстой, не задумываясь, бросил университет, хотя все его друзья и братья кончали высшее образование, зная, что без диплома трудно было сделать карьеру. Но Толстого это не беспокоило. Университет не давал ему знаний, которые его интересовали, и навязывал ему изучение скучных, не применимых к жизни наук, и он не задумываясь ушел из университета. Странности Толстого замечали его тетушки, братья, военные товарищи по Кавказу и Севастополю, его товарищи по перу, когда, приехав в Москву и Петербург, Толстой, уже получивший известность своими Севастопольскими рассказами, поражал всех своими резкими, оригинальными суждениями, часто расходившимися с принятым общественным мнением. Даже самые близкие люди не всегда понимали его и приписывали его необычайные суждения желанию рисоваться, поражать собеседников смелостью, оригинальностью взглядов.
Толстой боялся трафаретной пошлости в литературе, избитых форм в образах, вульгарности в музыке, драме, живописи, во всяком искусстве. Художественное творчество для Толстого должно было быть выражением, возбудителем всего ценнейшего, прекрасного, что есть в человечестве. Он пришел бы в ужас от современных кинофильмов, телевидения, радио, того, что заменило чистое искусство в нашей современной жизни: преступные рассказы, изображающие полубезумных злодеев, скандальные истории Голливудских артисток, бесстыдно выставляющих голые тела, обезумевших от бешеных денег, успеха, основанного на падении человеческих нравов... И самое ужасное — вращающаяся в этом гипнозе морального падения молодежь, среди которой только сильные духом способны устоять против охватившего весь мир открытого, признанного разврата. А гипноз общественный? Его Толстой боялся еще больше. Прикрываясь высокими идеалами свободы, равенства, братства, народного блага, сильные мира сего вовлекли целые народы в братоубийственные войны, революции, междоусобицы. В такие минуты логическое мышление отсутствует — люди ослеплены, они
принимают ложь за правду, подлость за благородство, жестокость, предательство и месть за храбрость.
«Во всем, что составляет жизнь человека — в том, как жить, идти ли убивать людей или не идти, идти ли судить людей или не идти, воспитывать ли своих детей так или иначе, — люди нашего мира отдаются безропотно другим людям, которые точно так же, как и они сами, не знают, зачем они живут и заставляют жить других так, а не иначе».
Как часто в истории человечества обезумевшая человеческая лавина, не думая, не рассуждая, несется куда-то, сметая все на своем пути, разрушая жилища, сжигая целые деревни и города, убивая невинных людей. Горе тем, которые стараются удержать безумных, — их клеймят изменниками, предателями, хватают, бросают в темницы, придумывают для них изощренные, жесточайшие пытки...
В такие минуты одержимости только немногие твердые духом выдерживают напор человеческого бешеного потока.
Вера в Бога, без которой он не мог уже существовать, — была той скалой, за которую уцепился Толстой.
«...Вера в то, какова должна быть жизнь, почерпнута из учения Христа, — писал он в «В чем моя вера?» — Как бы ни гнали этих людей (верующих), как бы ни клеветали на них, но это — единственные люди, не покоряющиеся безропотно всему, что велят, и потому это — единственные люди нашего мира, живущие не животной, а разумной жизнью, — единственные верующие люди» (курсив мой. — А. Т.)
«Для меня вопрос религии такой же вопрос, как для утопающего вопрос о том, за что ему ухватиться, чтобы спастись от неминуемой гибели, которую он чувствует всем существом своим, — писал Толстой Александре Андреевне. — И религия уже года два для меня представляется этой возможностью спасения».
Он чувствовал, что путь к спасению — это путь к Богу, и он мучительно искал его.
«Вы в первый раз говорите мне о Божестве — Боге, — писал он Фету в апреле 1877 года. — А я давно уж, не переставая, думаю об этой главной задаче... И если мы не можем так же, как они, думать об этом — то мы обязаны найти как».
И он искал.
Он чувствовал, какая сила веры жила в русском крестьянстве. Вера эта помогала крестьянам переносить и бедность, и болезнь, и учила их безропотно, покоряясь воле Божьей, встречать смерть. Толстой часто выходил на Киевское шоссе, тянущееся из Москвы в Киев и проходящее в 1 1/2 верстах от Ясной Поляны. Здесь он встречал странников-богомольцев, идущих в Киев. Богомольцы эти шли поодиночке или группами, чаще всего в лаптях, с парусиновыми котомками за плечами, в которых хранилось все их имущество: смена белья, одежды, запасные лапти, евангелие и молитвенник, краюха черного хлеба. Шли они месяцами, останавливаясь по дороге у крестьян, которые редко отказывались их принять. «Божьи люди, — говорили про них крестьяне, — грех не пустить переночевать». И их сажали за стол, наливали им горячих щей, отрезали краюху хлеба. Много невзгод терпели эти богомольцы по пути — заболевали, натирали себе ноги, мокли под дождем, — но ничего не могло поколебать их веру, они готовы были претерпевать все лишения, чтобы только приложиться к киевским
святым мощам, помолиться в святых местах. Такие же паломничества были в Иерусалим, и в Троице-Сергиевскую лавру, и в другие святые места.
Что же притягивало этих людей? Толстому надо было не только понять, но и прочувствовать настроения, влекущие этих людей к вере. И он сам стал чаще ходить в церковь и решил поехать в Оптину Пустынь, куда уже некоторое время собирался с Николаем Николаевичем Страховым.
Основанная в XIV веке покаявшимся, по преданию, разбойником, Пустынь привлекала к себе многих знаменитых русских людей и писателей. Ее посещали Гоголь и Достоевский, который описал ее в своем романе «Братья Карамазовы», философ Владимир Соловьев, поэт Алексей Толстой, там жили и похоронены другие писатели. Льву Толстому суждено было четыре раза посетить эту Обитель, в четвертый и последний раз, когда он перед смертью покинул свой дом.
Тот, кто не знает русских монастырей, вряд ли может себе представить то чувство, которое охватывает при приближении к монастырским стенам. Веками создавался монастырь, веками стекались сюда люди со всей России и, войдя в ограду, вы точно чувствуете наслоение этих веков, вы погружаетесь в старую, патриархальную Русь. Оптина Пустынь славилась с 20-х годов XIX столетия своими старцами. Молитвенники, мудрые аскеты, отрекшиеся от всех мирских благ, старцы влекли к себе всех несчастных, неудовлетворенных жизнью, больных, заблудших, ищущих в горе своем слова утешения. И старцы молились, утешали, наставляли.
С чувством глубокой надежды Толстой вместе с Н. Н. Страховым поехал в Оптину Пустынь.
Был август месяц. На фоне густой зелени громадного леса, уходящего вглубь на десятки верст, выделялись белые стены, здания и церкви монастыря с голубыми куполами и сверкающими на ярком солнце золотыми крестами. А по эту
сторону монастыря расстилались заливные луга, прорезанные неширокой, но полноводной речкой Жиздрой. Моста не было. Паломники, с котомками за плечами, ямщицкие тарантасы с «чистой» публикой, крестьянские телеги, с высоко подбитыми сиденьями из соломы, покрытой веретьями — все это загромождало открытый паром. С двух сторон парома два монаха в рясках, подпоясанные ремнями, медленно перехватывая из одной руки в другую, тянули толстый канат.
Переехав речку, путник попадал в новый, совершенно обособленный мир.
В то время в Оптиной Пустыне жил знаменитый старец Амвросий, и Толстой надеялся получить от него ту силу веры, которой он так жаждал. Но он не нашел того, чего искала его душа. Может быть, его не поняли святые отцы, может быть, он сам неправильно подошел к ним, но единственный человек, который произвел на Толстого впечатление, был не сам старец Амвросий, а его келейник, глубоко религиозный и простой человек, отец Пимен, которому показались такими скучными те разговоры, которые он слушал, что он тихо заснул, сидя на своем стуле.
Толстой произвел хорошее впечатление в монастыре. После посещения Оптиной Пустыни одним знакомым Страхова, Николай Николаевич писал Толстому, что тот «привез целую кучу разговоров о Вас и даже обо мне. Отцы хвалят Вас необыкновенно, находят в вас прекрасную душу. Они приравнивают Вас к Гоголю и вспоминают, что тот был ужасно горд своим умом, а у Вас вовсе нет этой гордости. Боятся, как бы литература не набросилась на Вас за восьмую часть (Анны Карениной) и не причинила Вам горестей. Меня отец Амвросий назвал «молчуном» и вообще считают, что я закоснел в неверии, а Вы гораздо ближе меня к вере. И отец Пимен хвалит нас (он-то говорил о Вашей прекрасной душе) — очень было и мне приятно услышать это...»2
Толстому этот отзыв о нем святых отцов был приятен. В следующем письме к Страхову он писал: «Если бы научиться у отца Пимена любви и спокойствию». В Оптиной Пустыне Толстой простоял четыре часа у всенощной.
Но Толстой искал разрешения мучивших его вопросов не только в церкви. Ему надо было знать все то, чего достигли великие мыслители, пророки и мудрецы мира, и он начал их изучать.
На многие вопросы Толстой нашел ответ в «Pensees» Паскаля. Некоторые мысли последнего совпадали с мыслями Толстого. «Наше достоинство, — говорит Паскаль, — заключается в мысли. Вот чем мы должны возвышаться, а не пространством и продолжительностью, которых нам не наполнить. Будем же стараться хорошо мыслить; вот начало нравственности».
Толстой читал одного философа за другим, лихорадочно ища ответа на мучившие его вопросы о смысле жизни, о сущности и значении Бога...
«За книги и те и другие не могу вам сказать, как я благодарен, — писал он Страхову 18 декабря 1877 года. — Я уже весь ушел в них, т. е. Штрауса, Ренана, Прудона; Max Miiller и Burnouf у меня есть теперь. Одного мне нужно еще — это Канта этику, «Критика практического разума», кажется, но я выписал себе. Над Соловьева статьей я долго ходил, боясь к ней приступить»*.
Но когда он, наконец, решился «приступить» к статье Соловьева, он в письме к Н. Н. Страхову безжалостно раскритиковал ее.
«Оказывается, — писал он, — что основные начала знания и добра и зла бывают
* «Критика отвлеченных начал».
(это нашел Соловьев) отвлеченные и положительные, а положительные имеют силу тогда, когда за ними признается основание божественное... надо решить, законны ли те начала, которые не могут быть постановлены без Бога, или, наоборот,законны ли те, которые без Бога... Я увлекаюсь, — писал он дальше, — высказывая то, что я думаю, и высказываю, кажется, неясно, но возражение мое Соловьеву и всем философским статьям этого рода остается во всей силе; нельзя, говоря об основах знания, вводить понятие божества, как случайный признак, годный для подразделения».
Даже такой преданный и чуткий друг, как Н. Н. Страхов, не мог до самых глубин объять того, что происходило в душе Толстого.
16 августа 1877 года он писал Толстому: «Ваше милое письмо так живо напомнило мне Вас, бесценный Лев Николаевич. В эти два месяца я, конечно, лучше узнал Вас, чем во все прежние посещения, и все сильнее и сильнее во мне нежность к Вам и страх за Вас. Я видел, что Вы каждый день проживаете то, чего другому достало бы на год, что Вы мыслите и чувствуете с удесятеренной силой сравнительно с другими. Понятно, что Вы ищете и не находите спокойствия, что мрачные и раздражающие мысли иногда разрастаются у Вас через меру. Но средство у Вас под руками; живите потише, не отдавайтесь с таким пылом ни музыке, ни писанию, ни даже Вашей охоте, которая Вас опьяняет и на которой Вы гоняетесь не за дупелями и утками, а за мыслями. Переполнение мозга кровью делает человека слишком впечатлительным, через меру раздражительным; итак, не работайте мозгом.
Пишу Вам это, а сам думаю, что люблю Вас именно за эту бесконечную отзывчивость и за ту неустанную работу, которой Вы отдаетесь» .
А жизнь в Ясной Поляне шла своим чередом. 6 декабря 1877 года у Толстых родился сын Андрей. Шесть человек детей разного возраста требовали больших забот, внимания и средств. Надо было всех воспитывать, образовывать, нанимать учителей, гувернанток. Толстой старался увеличить свои доходы, покупал земли, пытался поднять хозяйство Ясной Поляны, получить как можно больше денег за свои писания. Толстого в это время избрали губернским гласным, но общественная работа его не увлекала. Главным его отдыхом была охота и он часто один с своей собакой целыми днями ходил по лесам и болотам, стреляя вальдшнепов, уток и дупелей, или, забрав с собой старших мальчиков, Сергея и Илью, ездил с ними по соседним полям, травил лисиц и зайцев.
Но что бы он ни делал, мысли его неизменно возвращались к главному, к вопросам о; значении жизни и смерти. «Есть ли в философии какое-нибудь определение религии, веры, кроме того, что это предрассудок? И какая есть форма самого очищенного христианства?» — писал он Страхову 27 ноября 1877 года.
И не найдя ответа, Толстой пытался сам написать «Изложение Христианского Катехизиса» и «Определение религии».
«...Мне захотелось попробовать изложить в катехизической форме то, во что я верю, и я попытался. И попытка эта показала мне, как это для меня трудно и — боюсь невозможно», — писал он Страхову.
В своем дневнике от 26 декабря 1877 года Софья Андреевна пишет, что «настроение Л. Н. сильно изменяется с годами. После долгой борьбы неверия и желания веры — он вдруг теперь, с осени, успокоился. Стал соблюдать посты, ездить в церковь и молиться Богу».
«Я люблю его аргумент, — записывает С. А. того же числа, — который он
приводит о пользе христианства всем спорящим, о том, что законы — общественные — законы всех коммунистов, социалистов, будто выше законов христианства... Именно: «Если бы не было учения христианства, которое вкоренилось веками в нас и на основании которого сложилась вся наша общественная жизнь, то не было бы и законов нравственности, чести, желания распределить блага земные более ровно, желания добра, равенства, которое живет в этих людях».4
Тогда еще Софья Андреевна не думала и не гадала, как далеко Толстой уйдет по тому пути, на котором она постепенно, с великими страданиями и душевной болью теряла его.
В начале января 1878 года Толстой порадовал свою жену. Он начал работать над историческим романом из времен Николая I, «Декабристы».
«Со мной происходит что-то похожее на то, когда я писал «Войну и мир», — сказал мне сейчас Лев Николаевич с какой-то полуусмешкой, отчасти радостной, отчасти недоверчивой к словам, которые он сказал, — записывает она в своем дневнике от 8 января 1878 года. — И тогда я, собираясь писать о возвратившемся из Сибири декабристе, вернулся сначала к эпохе бунта 14 декабря, потом к детству и молодости людей, участвовавших в этом деле, увлекся войной 12-го года, а так как война 12-го года была в связи с 1805 годом, то и все сочинение начал с этого времени». Теперь Льва Николаевича заинтересовало время Николая I, а главное — Турецкая война 1829 года. Он стал изучать эту эпоху. Изучая ее, заинтересовался вступлением Николая Павловича на престол и бунтом 14 декабря...»
«И это у меня будет происходить на Олимпе, Николай Павлович со всем этим высшим обществом, как Юпитер с богами, а там, где-нибудь в Иркутске или в Самаре переселяются мужики, и один из участвовавших в истории 14 декабря попадает к этим переселенцам — и «простая жизнь в столкновении с высшей».
В Записной книжке, начиная с 13 января 1878 года, мы находим ряд записей Толстого, относящихся к «Декабристам». В этой Записной книжке можно проследить ту громадную работу, которую Толстой намеревался произвести и уже начал по декабристам. Он изучал историю каждого декабриста в отдельности. Запись идет таким образом: среди страницы стоит имя декабриста и дальше идут те сведения, которые Толстому нужны или которые он уже получил о том или ином участнике восстания 14 декабря.
«Рылеев. Родился 96 — Отец в связи. Мать отдельно. — Манифестация. Последовательность жизни. Год женитьбы. Кто мать? Родство».
Как всегда, Толстой широко задумал свой роман. Переселенческое движение крестьян, встреча декабристов с переселенцами в Сибири, жертвенность семей последовавших за декабристами в Сибирь — все это должно было переплетаться, захватывая целые области и сферы русской жизни.
В 20-х числах января 1878 года Толстой писал Александре Андреевне: «Я теперь весь погружен в чтение из времен 20-х годов и не могу вам выразить то наслаждение, которое я испытываю, воображая себе это время. Странно и приятно думать, что то время, которое я помню, 30-е года — уже история. Так и видишь, что колебание фигур на этой картине прекращается и все устанавливается в торжественном покое истины и красоты... Я испытываю чувство повара (плохого), который пришел на богатый рынок и, оглядывая все эти к его услугам предлагаемые овощи, мясо, рыбы, мечтает о том, какой бы он сделал обед! Так и
я мечтаю, хотя и знаю, как часто приходилось мечтать прекрасно, а потом портить обеды или ничего не делать!»
Толстой видится с декабристами — Свистуновым и Муравьевым-Апостолом, и другими, с их родственниками, изучает целый ряд материалов, ездит сам в Петропавловскую крепость, где декабристы были в заключении. Друзья Толстого: А. А. Толстая, Н. Н. Страхов, В. В. Стасов, М. И. Семевский, В. А. Иславин, М. А. Веневитинов и С. А. Берс доставали Толстому нужные материалы в Петербурге, куда он ездил со специальной целью собрать как можно больше данных о декабристах.
Впечатление, полученное Толстым от Петропавловской крепости, было очень сильное. 14 марта он писал декабристу Свистунову:
«Я был в Петропавловской крепости, и там мне рассказывали, что один из преступников бросился в Неву и потом ел стекло. Не могу выразить того странного и сильного чувства, которое я испытал, зная, что это были вы. Подобное же чувство я испытал там же, когда мне принесли кандалы ручные и ножные 25-го года...»
Как всегда в течение лета, Толстой работал мало, уезжал в свое Самарское имение и только к осени опять принялся за работу. «Левочка сегодня говорил, что у него в голове стало ясно, — записывает Софья Андреевна в дневнике 11 ноября, — типы все оживают, он нынче работал и весел, верит в свою работу. Но у него голова болит и он покашливает»6. И 16 ноября она снова записывает: «Левочка говорит: "все мысли, типы, события — все готово в голове"»7.
Толстой узнал, что в Третьем Отделении в Петербурге хранились секретные дела декабристов, их портреты и вообще материал, который был ценен Толстому. Толстой обратился сначала к Страхову, а потом к А. А. Толстой, чтобы она попыталась достать ему разрешение ознакомиться с этими материалами, но ему было в этом отказано. Можно было добиться разрешения доступа в Третье Отделение только по специальному разрешению Государя.
Одновременно с этой работой в голове Толстого зарождался роман из эпохи XVIII века, главным действующим лицом которого должен был быть изображен брат его бабушки, Василий Николаевич Горчаков, сосланный в Сибирь. Толстой вновь обращается к А. А. Толстой с просьбой помочь ему ознакомиться с секретными архивами министерства юстиции и одновременно пишет прошение в Управление Московского Архива о разрешении ему доступа к архивам.
Но работа не пошла. Написав несколько отрывков к роману из времен Петра I, Толстой все реже и реже возвращается к этим мыслям и планам. Мы знаем, как трудно было Толстому закончить «Анну Каренину», как мысли его постоянно уходили в другую область — религиозно-философскую. Он не мог написать второй «Войны и мира» до тех пор, пока он не вырешил основной цели и задачи своего существования: Зачем мы живем? Какой главный смысл нашей жизни? В чем наша вера? и... так что же нам делать?
Большинство людей считает признание своих ошибок — слабостью, а не силой. Ложное самолюбие, боязнь унизиться, показаться смешными, заставляет их оправдываться, выставлять перед людьми свое превосходство, свою непогрешимость. Покаяние, смирение, сознание своей греховности свойственно, к сожалению, лишь немногим.
Толстой не боялся уронить своего достоинства, прося прощения у своего
слуги, на которого он сердился, признавая свою неправоту перед учеником в школе, перед женой и собственными детьми, когда был неправ по отношению к ним. Ему было гораздо легче покаяться, чем продолжать жить в враждебной атмосфере, даже если не он один был в этом виноват.
Отношения с Тургеневым давно тяготили его и в один из тех просветленных моментов, которые все чаще и чаще находили на него, он написал Тургеневу.
«...Простите мне все, чем я был виноват перед вами», — писал он ему в Париж весной 1878 года и просил Тургенева все забыть, сохранив в памяти только одно хорошее, что сближало нх в начале их знакомства.
«Получил ваше письмо.., — писал Тургенев в ответ. — Оно меня очень обрадовало и тронуло. С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне Вами руку».
В начале августа, когда семья Толстых только что вернулась из Самарской губернии, Тургенев поспешил приехать в Ясную Поляну. Приезд этот был волнительным событием в семье Толстых. Своей живостью, ярким красноречием, блестящими и остроумными рассказами Тургенев очаровал всех. По-видимому, и * сам он остался очень доволен своим посещением.
«Я почувствовал очень ясно, — писал он Толстому, — что жизнь, состарившая нас, прошла для нас недаром, и что — и Вы и я — мы оба стали лучше, чем 16 лет тому назад...»1.
Но несмотря на прожитые годы, на внешнее примирение, оба писателя были по-существу настолько различны, что настоящей дружбы между ними не могло быть. Тургенев оставался тем же эстетом, поклонником запада, романтиком, мало интересующимся религиозно-философскими вопросами; для Толстого же эти вопросы теперь, больше чем когда-либо, составляли основу его жизни. Он пытался поделиться с Тургеневым своими задушевными мыслями, впустить Тургенева в свою святая святых, но Тургенев, не вникнув в душу Толстого, скользнув по поверхности, воспринял настроение Толстого по-своему.
Он (Тургенев — А. Т.) — писал Толстой Фету, — все такой же, и мы знаем ту степень сближения, которая между нами возможна»2.
«Радуюсь тому, что вы все физически здоровы, — писал Тургенев Толстому, — и надеюсь, что и «умственная» Ваша хворь, о которой Вы пишете, прошла. Мне и она была знакома: иногда она являлась в виде внутреннего брожения перед началом дела; полагаю, что такого рода брожение совершилось и в Вас»3.
Очевидно, Тургенев объяснил «хворь» Толстого, как «муки творчества», испытываемые художником перед зарождением нового произведения, а не как искание Толстым смысла и оправдания нашей земной жизни — искание Бога.
Тургенев понимал и ценил Толстого-художника и, примирившись с ним, не сомневался, что, пользуясь всяким случаем восхвалять произведения Толстого, особенно «Войну и мир» — он угождал Толстому. То, что Толстой, раз отработав и напечатав свое произведение, позднее не любил возвращаться к нему, и то, что в данное время Толстой уже не мог интересоваться романами, Тургенев понять не мог.
Путь человека, ищущего Бога — всегда одинок, вне даже самых близких людей. Жена, Н. Н. Страхов, Фет. Они не могли помочь Толстому. Они могли только улавливать какие-то им доступные, а иногда им присущие мысли и чувства, но они не могли проникать в тайники этого сложного, многогранного существа.
И как всегда в периоды такой усиленно-напряженной деятельности, Толстой прибег к своему дневнику:
«С Богом нельзя иметь дело, вмешивая посредника и зрителя, — пишет он 2 июня 1878 г., — только с глазу на глаз начинаются настоящие отношения; только когда никто другой не знает и не слышит, Бог слышит тебя...»
«Если я не удовлетворяюсь и, главное, не увлекаюсь изучением частным, — пишет он дальше, — а желаю узнать, понять хоть что-нибудь вполне, я увижу, что я ничего не могу знать, что ум мой для жизни временной орудие, для настоящего знания — игрушка, обман (Паскаль)».
Какие же были те вопросы, на которые Толстой так настойчиво искал ответа: «а) Зачем я живу? Ь) Какая причина моему и всякому существованию? с) какая цель моего и всякого существования? d) Что значит и зачем то раздвоение — добра и зла, которые я чувствую в себе? е) Как мне надо жить? Что такое смерть? Самое же общее выражение этих вопросов и полное есть: как мне спастись? Я чувствую, что погибаю — живу и умираю, люблю жить и боюсь смерти, — как мне спастись?»
«... На меня стали находить минуты сначала недоумения, — писал Толстой в своей «Исповеди», — остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить попрежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом?»
«... Случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельною внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растет, и больной не успеет оглянуться, как уже сознает, что то, что он принимал за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, что это — смерть».
«Жизнь моя остановилась...
...Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это — обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была та, что жизнь есть бессмыслица. Я как будто жил-жил, шел-шел, и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели...» «Жизнь мне опостылела — какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее». Нельзя сказать, что я хотел убить себя.
Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотения... Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни».
Он бродил по Ясной Поляне, иногда с собакой и ружьем, и все одни и те же мысли преследовали его: придет смерть, и что же? Зачем я живу? «Я сам не знал, чего я хочу, — писал он в «Исповеди». — Я боялся жизни, стремился прочь от нее и, между тем, чего-то еще надеялся от нее». Толстой перестал ходить с ружьем на охоту — он боялся себя, боялся, как он сам выразился, «чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни».
Иногда он впадал в такое отчаяние, что, глядя на деревянную перегородку, отделявшую его спальню от кабинета, он думал о том, выдержит ли она тяжесть его тела и «вынес из своей комнаты, шнурок где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами».
Но разве Толстой мог избрать этот путь — путь слабых? Он знал Бога, хотя и не выбрал еще того пути, по которому он мог ближе и прямее подойти к Нему. Он не мог преступить воли Его, лишая себя жизни, все величие и красоту которой так сильно он любил. И эта жизненная сила его была безгранична. Он не то что любил Божий мир, он был слитной частью его.
«Соловьи. Лягушки, головастики гудят, — записывает он 12 апреля 1879 года в свою записную книжечку, — Трава в лесу на два вершка, цветы одуванчики, медунчики и желтые сплошные. Дождь с перемежкой целый день. Местами тепло, местами холодно, как летом».
«Сиверко, пасмурно, — записывает он 3 августа. — Густо стоят светлые копны овсяные по темному овсянища. Косят два мужика овес, ласточки вьются. У дворов, куры в овсянице. Стадо на паханном пару, кое-где в жнивах».
13 октября. «Тихо. Туман ходит и падает. Светло, лунно с золотым отливом. Капли висят, сквозят на кончиках почек и спадают на мокрый грифельный лист. Это в лесу. В поле мягко, тихо, слышно, туман ходит и носится полотнами».
А между тем жизнь шла полным ходом. Вырастали дети, разрасталось состояние, печатались книги... И это была его жизнь, которую он сам построил, его семья, которую он окружал лучами своей славы, почетом, довольством... И постепенно все это, что он создавал сам с такими усилиями — переставало интересовать его. Невольно, по привычке участвуя внешне в этой жизни, он уже внутренно отходил от нее. Что случилось с Левочкой? — спрашивала себя его жена, которую он взял почти девочкой и которая не могла себе представить иной
обстановки, чем та, в которой она воспиталась. Что случилось с папа? — спрашивали дети. Почему он стал другой?
Толстой писал «Исповедь», а жена его огорчалась: «Левочка же теперь совсем ушел в свое писание, — писала она сестре Тане в ноябре 1878 года. — У него остановившиеся странные глаза, он почти ничего не разговаривает, совсем стал не от мира сего и о житейских делах решительно не способен думать»4.
В другом письме она пишет: «Левочка все работает, как он выражается, но — увы! — он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это, чтобы показать, как церковь несообразна с учением Евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего, я одно желаю, чтобы уж он поскорее это кончил и чтобы прошло это, как болезнь»5.
Но «болезнь» или «недомогание», как Толстой выразился в «Исповеди», не проходили, а становились все хуже и хуже. В то время (1877 г.) Толстой пригласил учителем математики к старшим детям, Сергею и Тане, В. И. Алексеева. Алексеев был членом социалистического кружка, человек умный, предприимчивый и прекрасный педагог. Вместе с группой русских, принадлежавших к революционному кружку Чайковского, он ездил в Америку, где они пытались организовать земледельческую коммуну в Канзасе. Но колония в Америке распалась и, вернувшись в Россию, Алексеев очень нуждался. Когда ему предложили место учителя у Толстого, он сомневался, брать ли его только потому, что Толстой был «граф». Но очень скоро между «графом» и учителем завязались простые, дружеские отношения. Алексеев, как социалист, отрицал православие, и часто между ним и его хозяином происходили длинные споры и беседы на религиозные темы. В то время Толстой не совсем еще отошел от православной веры, пытаясь в ней найти ответы на мучившие его вопросы.
Летом 1879 года Толстой поехал в Киев.
«Киев очень притягивает меня», — писал он жене 13 июня. «Все утро до трех ходил по соборам, пещерам, монахам, и очень недоволен поездкой, — писал он 14 июня. — Не стоило того... В 7 часов пошел ... опять в Лавру, к схимнику Антонию, и нашел мало поучительного». Но Толстой не успокоился. В декабре он посетил Тульского архиепископа Никандра. По-видимому, беседа их о вере носила душевный характер. Толстой поделился с архиепископом своим желанием раздать все имущество бедным и идти в монастырь. Но архиепископ, почувствовав, вероятно, неустановившееся еще настроение Толстого, уговорил его не делать этого, подождать.
У Толстых уже была большая семья. В 1880 году старшему, Сергею, было 17 лет и он готовился в университет; хорошенькой, черноглазой Тане было 16; голубоглазому, добродушному, широкоплечему, рослому Илье, страстному охотнику и лошаднику — сравнялось 14; любимцу матери, очень на нее похожему, черноглазому, тоненькому и нервному Льву было 11; худенькой, мало любимой матерью, некрасивой, с широким, умным лбом и глубоко сидящими, вдумчивыми, серыми отцовскими глазами Маше — было 9. Трехлетний большеголовый, вечно болеющий Андрей требовал постоянных забот матери и она болезненно привязалась к нему; в 1879 году, декабря 20, родился пятый сын — Михаил, спокойный, уравновешенный и здоровью ребенок.
Семь человек детей требовали постоянных забот и Софье Андреевне все труднее и труднее становится следить за душевными переживаниями своего мужа.
«...Сегодня утром, после дурной ночи с кошмарами и снами, пила чай с Левочкой, — писала она в своем дневнике от 14 ноября 1878 года. — Это так редко бывает, и мы затеяли длинный философский разговор о значении жизни, о смерти, о религии и т. д. На меня подобные разговоры с Левочкой действуют всегда нравственно успокоительно. Я по-своему пойму его мудрость в этих вопросах и найду такие точки, на которых остановлюсь и утешусь во всех сомнениях. Я бы изложила его взгляды, но не могу, особенно теперь, устала и голова болит» .
Но такие разговоры бывали редко. Софью Андреевну занимали вопросы: как дальше учить детей? Надо переезжать в город, а для Толстого одна мысль о городской жизни, особенно в том настроении, в котором он находился, — убийственна. Сами дети начинали стремиться к другой жизни. Их тяготила обособленность, оторванность от сверстников. Летом другое дело — приезжает тетя Таня Кузминская со своим многочисленным семейством, в Ясной Поляне оживленно весело, а зимой?
16 ноября 1878 года Софья Андреевна записывает: «Сережа и Таня все мечтают о веселье, и мне жаль, что я им его мало могу доставить, но буду стараться всей душой».
19 ноября она пишет: «Сегодня вечером я играла детям кадриль, и они очень весело плясали, сначала большие, а потом маленькие»7.
Соня, по-своему, тоже одинока. Разве муж мог понять ее боль за хилого Андрюшу, тяжесть постоянного ношения и кормления детей, желание повеселиться, пожить в большом городе.
Ей грустно, она совсем молодая, ей еще только 35 лет, и, так же, как ее старшим детям, ей хочется веселье.
«Сижу и жду каждую минуту родов, которые запоздали, — записывает она 18 декабря 1879 года. — Новый ребенок наводит уныние, весь горизонт сдвинулся, стало темно, тесно жить на свете. Дети и весь дом в напряженном состоянии: и праздники близко, и роды неопределенны».
К этой записи в дневнике приписка: «Через два дня после этого родился Миша в шесть часов утра 20-го декабря в 1879 году»8.
У Софьи Андреевны свой особый мир:
«Андрюше 2 года и 2 месяца, — записывает она в своем дневнике 11 февраля 1880 г., — Мише 71/2 недель. Андрюша встал в 7 часов, пил желудевый кофе с молоком, ночью раз обмочился, оделся в открытую рубашку, тонкую фуфайку канифасовую, лифчик, панталоны, чулки на подвязках...»
«Миша здоров, — пишет она 19-го, — его пеленают, но гуляет он в фуфаечке фланелевой, чепчике и баветке... Моем всякий день, кроме воскресенья, градусов в воде 30. У него частые запоры, и приходится ставить клистиры из теплой воды с миндальным маслом...»
«У Андрюши кашель и насморк...»
«...У Миши прорезывается второй зубок...»
«...Молока моего для Миши мало...» и т. д.9
И хотя она иногда скучает — жизнь ее полна. Но за последнее время, когда она поднимает свои большие близорукие глаза от пеленок, болезней, детских уроков и устремляет взгляд на него, на своего, ни на кого не похожего, такого близкого и иногда такого далекого мужа — ей становится страшно.
Почему он пишет какие-то странные, никому не нужные рассуждения о религии, почему он не начинает нового романа, такого, как «Война и мир», или
«Анна Каренина»? Что с ним, с этим большим, сильным человеком? Почему теперь так редко блестят задором, лаской и весельем его глубоко сидящие серые глаза? Почему так редко улыбаются губы из-под густых порослей русых усов и бороды?
Что это? — спрашивала себя Соня. Слава Богу, все есть, и любящая молодая жена, и дети здоровые, и слава, и довольство... Он здоров, силен, ему 52 года, он еще может писать прекрасные, художественные вещи.
И она молила Бога, чтобы «прошло это, как болезнь».
Но «хворь» не проходила, и признаки ее становились все очевиднее и очевиднее.
Не только жена, но и все близкие Толстого с беспокойством наблюдали за теми переменами, которые в нем происходили.
«У нас часто бывают маленькие стычки в нынешнем году, — пишет Софья Андреевна своей сестре Тане 22 апреля 1881 года, — Я даже хотела уехать из дому. Верно, это потому, что по-христиански жить стали. По-моему, прежде, без христианства этого, много лучше было»1.
Один только верный и обожающий Толстого друг, Н. Н. Страхов, внимательно следил за его переживаниями и понимал остроту и напряженность той внутренней деятельности, которой другие не могли, а иногда и не хотели видеть.
«...В Ясной Поляне, — писал он Данилевскому, — как всегда, идет сильнейшая умственная работа. Мы с вами, вероятно, не сойдемся в оценке этой работы, но я удивляюсь и покоряюсь ей так, что мне даже тяжело. Толстой, идя своим неизменным путем, пришел к религиозному настроению, оно отчасти выразилось в конце «Анны Карениной». Идеал христианина понят им удивительно, и странно, как мы проходим мимо Евангелия, не видя самого прямого его смысла. Он углубился в изучение евангельского текста и многое объяснил в нем с поразительною простотой и тонкостью, Очень боюсь, что по непривычке излагать отвлеченные мысли и вообще писать прозу, он не успеет изложить своих рассуждений кратко и ясно; но содержание книги, которую он составит, истинно великолепно» .
В январе 1880 года Толстой ездил по делам в Петербург, и, как всегда, виделся с Александрой Андреевной. Толстой в это время уже отходил от православия. Безжалостно резко он высказал «бабушке» свои сомнения, говоря ей, что вера ее — православие — основано на лжи. Разговор был настолько бурный, что Толстой не спал после этого полночи, не простившись уехал из Петербурга и перед отъездом написал Александре Андреевне письмо.
«Я знаю, — кончает он это письмо, — что требую от вас почти невозможного-признания того прямого смысла учения, который отрицает всю ту среду, в которой вы прожили жизнь и положили все свое сердце, но не могу говорить с вами не во всю, как с другими, мне кажется, что у вас есть истинная любовь к Богу, к добру и что не можете не понять, где Он.
За мою раздражительность, грубость, низменность простите и прощайте, старый милый друг, до следующего письма и свидания, если даст Бог, — Ваш Л. Толстой».
Александра Андреевна была оскорблена: «Подобные выходки и в молодости неприятны, но в наши годы не протянуть руки при прощании, когда каждая разлука может быть последняя, просто непростительно, и это мне трудно вам
простить», — писала она ему. Но переписка на этом не прекратилась. Александра Андреевна написала длинное письмо Толстому, с изложением своей православной веры.
«...Главное то, что ваше исповедание веры есть исповедание веры нашей церкви, — отвечал ей Толстой. — Я его знаю и не разделяю. Но не имею ни одного слова сказать против тех, которые верят так. Особенно, когда вы прибавляете о том, что сущность учения в Нагорной проповеди. Не только не отрицаю этого учения, но, если бы мне сказали: что я хочу, чтобы дети мои были неверующими, каким я был, или верили бы тому, чему учит церковь? я бы, не задумываясь, выбрал бы веру по церкви. Я знаю, например, весь народ, который верит не только тому, чему учит церковь, но примешивает еще к тому бездну суеверий, и я себя (убежденный, что я верю истинно) не разделяю от бабы, верящей Пятнице, и утверждаю, что мы с этой бабой совершенно равно (ни больше, ни меньше) знаем истину. Это происходит от того, что мы с бабой одинаково всеми силами души любим истину и стремимся постигнуть ее и верим. Я подчеркиваю верим, потому что можно верить только в то, чего понять мы не можем, но чего и опровергнуть мы не можем. Но верить в то, что мне представляется ложью, — нельзя. И мало того, уверять себя, что я верю в то, во что я не могу верить, во что мне не нужно верить, для того чтоб понять свою душу и Бога, и отношение моей души к Богу, уверять себя в этом, есть действие самое противное истинной вере. Это есть кощунство и есть служение князю мира. Первое условие веры есть любовь к свету, к истине, к Богу и сердце чистое без лжи... И как я чувствую себя в полном согласии с искренно верующими из народа, так точно я чувствую себя в согласии и с верой по церкви, и с вами, если вера искренна и вы смотрите на Бога во все глаза, не сквозь очки и не прищуриваясь...
Надо каждый час и день своей жизни помнить о Боге, о душе, и потому любовь к ближнему ставить выше скотской жизни. Фокуса для этого никакого не нужно, а это так же просто, как то, что надо ковать, чтобы быть кузнецом. — И потому-то это Божеская истина, что она так проста, что проще ее ничего быть не может, и вместе с тем так важна и велика и для блага каждого человека, и всех людей вместе, что больше ее ничего быть не может», — заканчивает он это письмо.
В начале 1880 года Толстой, работая над своей «Исповедью», почти одновременно приступил к изучению православных догматов. Он уже ничего не мог брать «на веру» — ему надо было понять и знать. Чтобы знать, он стал изучать богословские книги, между прочим, распространенную книгу митрополита московского Макария. «Я даже в то время, как начал это исследование, вполне верил в нее (непогрешимость церкви. — А. Т.). в одну ее (казалось мне, что верил)». Но объяснить, понять догматы Толстой не мог.
«Скажите мне истины так, как вы знаете их, скажите хоть так, как они сказаны в символе веры, который мы все учили наизусть, — взывает он к богословам. — Если вы боитесь, что, по затемненности и слабости моего ума, по испорченности моего сердца, я не пойму их, помогите мне (вы знаете эти истины Божий, вы, церковь, учите нас), помогите моему слабому уму; но не забывайте, что что бы вы ни говорили, вы будете говорить все-таки разуму. Вы будете говорить истины Божий, выраженные словами, а слова надо понимать опять-таки только умом (курсив мой — А.Т.). Разъясните эти истины моему уму...»
«Надо верить, — говорит церковь; я должен умом постигнуть то, во что я поверю», — говорил Толстой.
Он верил в Бога-Отца, по воле которого он жил, волю которого он знал и должен был исполнять, верить же в Бога в трех лицах, Троицу — Бога-Отца, Св. Духа и Бога-Сына — он не мог. И, не уразумев, он раз навсегда отверг для себя это понятие.
Но отвергая ту веру, в которой он родился, воспитался и вырос — он должен был заменить ее своей верой, чем-то, что дало бы ему руководство в жизни, и он стал вчитываться в Евангелие. Но и здесь, воспринимая целиком учение Христа как обязательное руководство в жизни, Толстой не мог найти объяснения описываемым в Евангелии сверхъестественным, чудесным явлениям. Он наткнулся на противоречия учения Христа с толкованиями православной церкви. «Не убий никого», — сказал Христос, а между тем церковь молится за христолюбивое воинство.
Толстой стал работать над переводом и исследованием четырех Евангелий. Он так был погружен в свои религиозные мысли и работы, что когда Тургенев приехал в Ясную Поляну уговаривать его принять участие в Пушкинских торжествах по случаю открытия памятника Пушкину в Москве, Толстому показалось все это такими пустяками по сравнению с тем, что ему надо было решить, что он отказался ехать. Тургенев и весь литературный мир были потрясены. Почему? Как мог Толстой, автор «Войны и мира», столп русской литературы, не участвовать в торжествах, посвященных величайшему русскому поэту? Что-то тут неладное...
Достоевский намеревался поехать в Ясную Поляну, но Тургенев уверил его, что Толстой в таком состоянии, что с ним и разговаривать нельзя — он занят только какими-то религиозными вопросами и ничем не интересуется. Григорович выразился еще более резко:«...Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел...»
28 мая Достоевский писал жене: «О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался. Юрьев подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну... Но я не поеду, хоть очень бы любопытно было...»5
В то время Достоевский не пользовался авторитетом среди либеральных писателей. Его считали отсталым консерватором, славянофилом, он стоял, как Страхов выразился в письме к Толстому, «особняком» среди «враждебной» среды. Тем более всех поразил успех этого тихого, скромного, вечно нуждающегося писателя на пушкинских торжествах. Речь Достоевского о Пушкине превзошла все, что было сказано о поэте до того времени по красоте формы, блеску, по глубокому пониманию поэта. Достоевский неожиданно оказался в центре всеобщего внимания. Публика пришла в неистовый восторг и после шумной овации его подхватили на руки и понесли...
Не раз, впоследствии, Толстой выражал сожаление, что он не поехал на торжества, не слышал этой знаменитой речи Достоевского и не виделся с ним, тем более что это оказалось последним случаем, когда писатели могли встретиться.
26 сентября того же года Толстой писал Страхову:
«...Я продолжаю работать все над тем же и, кажется, не бесполезно. На днях нездоровилось и я читал Мертвый дом. Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина».
Не тон, а точка зрения удивительна — искренняя, естественная и христианская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю». Страхов подарил это письмо с отзывом Толстого Достоевскому, что доставило ему большую радость.
28 января 1881 года Достоевского не стало...
3 февраля Страхов пишет Толстому:
«Чувство ужасной пустоты, бесценный Лев Николаевич, не оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского. Как будто провалилось пол-Петербурга, или вымерло пол-литературы. Хоть мы не ладили все последнее время, но тут я почувствовал, какое значение он для меня имел: мне хотелось быть перед ним и умным и хорошим... Он один равнялся (по влиянию на читателей) нескольким журналам. Он стоял особняком, среди литературы почти сплошь враждебной, и смело говорил о том, что давно было признано за соблазн и безумие...»6
«...Как бы я желал уметь сказать все, что я чувствую о Достоевском, — писал Толстой Страхову. — Вы, описывая свое чувство, выразили часть моего. Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек...
И никогда мне в голову не приходило меряться с ним — никогда. Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца — только радость. Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг... читаю умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу На днях, до его смерти, я прочел «Униженные и оскорбленные» и умилялся...»
Достоевский так же, как и Толстой, шел своим путем. Про него, как Страхов
писал Толстому, говорили, что он «стоял особняком» и было признано за «соблазн» и за «безумие» то, что он писал. Увлекшись в молодости революционными взглядами, он позднее отрекся от них. Вера в Христа и близость русского народа к Христу было то, что составляло основу его жизни и писаний. Именно поэтому он и был ближе к Толстому, чем кто-либо другой из современных им писателей.
Толстой никогда не увлекался революционными течениями того времени, они проходили мимо него. В свое время, к вопросу крепостного права он подошел по-своему, не присоединяясь к либеральному общественному мнению. «Хождение в народ», народничество Михайловского*, революционный героизм террористов, организация «Земли и Воли» — все это было ему непонятно и чуждо. Толстой знал, что по существу «народовольцы» не знали народа. Революционеры смотрели на народ, как на темную массу, которую можно поднять против угнетателей — русского правительства. Слова «народ», «народное» в устах этих непонимающих сущность русского народа людей — раздражали Толстого. Он жил с этим самым темным, бедным и угнетенным народом, знал его, учился у него, и в нем искал опоры в растущем в нем христианском сознании. В нем, в этом мужике, под простой, корявой оболочкой, Толстой чувствовал духовную мощь, подлинную веру, красоту, которыми он сам питался.
А между тем, революционное движение росло.
В 1870 году появился первый том «Капитала» Маркса в русском переводе. В Западной Европе и в Америке Карл Маркс приобретает известность гораздо раньше. В 1847 году Маркс и Энгельс вступают в тайный международный союз коммунистов и составляют «Манифест коммунистической партии». Это не помешало «Нью-Йорк Трибьюн» иметь в 50-х годах и начале 60-х Карла Маркса своим постоянным сотрудником по экономическим вопросам. Проявление коммунистических веяний мы видим и в водворении Парижской коммуны в 1871 году. В России революционное движение выразилось в целом ряде террористических актов.
Января 24, 1878 года революционерка Вера Засулич покушалась на жизнь оберполицеймейстера Ф. Ф. Трепова. Ее арестовали, через три месяца судили с присяжными заседателями и оправдали.
Целый ряд покушений был организован против царя. Наконец, 1 марта 1881 года Россию потрясло страшное событие — убийство царя-освободителя, императора Александра II.
«Сегодня, 1 марта 1881 года, согласно постановлению Исполнительного комитета от 26 августа 1879 г., приведена в исполнение казнь Александра II двумя агентами Исполнительного комитета*, — гласила прокламация, выпущенная Исполнительным комитетом партии «Земля и Воля» .
«Какой удар, бесценный Лев Николаевич! — писал Страхов. — Я до сих пор не нахожу себе места и не знаю, что с собой делать. Бесчеловечно убили старика, который мечтал быть либеральнейшим и благодетельнейшим царем в мире! Теоретическое убийство, не по злобе, не по реальной надобности, а потому что в идее это очень хорошо. Меня все раздражает: и спокойствие, и злорадство, и даже сожаления... Нет, мы не опомнимся... Нужны ужасные бедствия, опустошения целых областей, пожары, взрывы целых городов, избиение миллионов, чтобы опомнились люди. А теперь только цветочки»8.
* Михайловский Н. К. (1842 — 1904) — публицист, критик и социолог.
Илья Толстой в своих воспоминаниях рассказывает, как узнали в семье Толстых об убийстве царя.
«Первого марта папа, по обыкновению своему, ходил перед обедом гулять по шоссе.
После снежной зимы началась ростепель.
По дорогам были уже глубокие просовы, и лощины набухли водой.
По случаю плохой погоды в Тулу не посылали, и газет не было.
На шоссе папа встретил какого-то странствующего итальянца с шарманкой и гадающими птицами.
Он шел пешком из Тулы.
Разговорились: «Откуда? Куда?»
— Из Туль, дела плох, сам не ел, птиц не ел, царя убиль.
— Какого царя, кто убил? когда?
— Русский царь, Петерсбург, бомба кидаль, газет получаль.
Придя домой, папа тут же рассказал нам о смерти Александра II, и пришедшие на другой день газеты с точностью это подтвердили.
Я помню, какое удручающее впечатление произвело на отца это бессмысленное убийство. Не говоря уже о том, что его ужасала жестокая смерть царя, «сделавшего много добра и всегда желавшего добра людям, старого, доброго человека», он не мог перестать думать об убийцах, о готовящейся казни и «не столько о них, сколько о тех, кто готовился участвовать в их убийстве и особенно Александре III»9.
Несколько дней он ходил задумчивый и пасмурный и, наконец, надумал написать новому государю Александру III письмо.
«...Отца Вашего, царя русского, сделавшего много добра и всегда желавшего добра людям, старого, доброго человека, бесчеловечно изувечили и убили не личные враги его, — писал он государю Александру III, — но враги существующего порядка вещей; убили во имя какого-то высшего блага всего человечества.
Вы стали на его место, и перед Вами те враги, которые отравляли жизнь Вашего отца и погубили его. Они враги Ваши потому, что Вы занимаете место Вашего отца, и для того мнимого общего блага, которого они ищут, они должны желать убить и Вас.
К этим людям в душе Вашей должно быть чувство мести, как к убийцам отца, и чувство ужаса перед тою обязанностью, которую Вы должны были взять на себя. Более ужасного положения нельзя себе представить, более ужасного потому, что нельзя себе представить более сильного искушения зла. Враги отечества, народа, презренные мальчишки, безбожные твари, нарушающие спокойствие и жизнь вверенных миллионов, и убийцы отца. Что другое можно сделать с ними, как не очистить от этой заразы русскую землю, как не раздавить их, как мерзких гадов? Этого требует не мое личное чувство, даже не возмездие за смерть отца, этого требует от меня мой долг, этого ожидает от меня вся Россия, — писал Толстой в письме к государю. — ...На Вашу долю выпало ужаснейшее из искушений. Но как ни ужасно оно, учение Христа разрушает его и все сети искушения, обставленные вокруг Вас, как прах разлетятся перед человеком, исполняющим волю Бога.
Матфея 5, 43. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего и возненавидь врага твоего, а Я говорю вам: любите врагов ваших... благотворите ненавидящих вас... да будете сынами Отца вашего небесного».
Дальше Толстой приводит еще несколько выдержек из Евангелия.
«Простите, воздайте добром за зло, и из сотен злодеев десятки перейдут... от дьявола к Богу и у тысяч, у миллионов дрогнет сердце от радости и умиления при виде примера добра с престола в такую страшную для сына убитого отца минуту.
Государь! Если бы Вы сделали это, позвали этих людей, дали им денег и услали их куда-нибудь в Америку, и написали бы манифест с словами вверху: «А я Вам говорю: любите врагов своих», не знаю, как другие, но я, плохой верноподданный, был бы собакой, рабом Вашим. Я бы плакал от умиления, как я теперь плачу всякий раз, когда бы я слышал Ваше имя. Да что я говорю: «не знаю, что другие!» Знаю, каким потоком разлились бы по России добро и любовь от этих слов.
...Есть только один идеал, который можно противопоставить им и тот, из которого они выходят, не понимая его и кощунствуя над ним, — тот, который включает их идеал, идеал любви, прощения и воздаяния добра за зло. Только одно слово прощения и любви христианской, сказанное и исполненное с высоты престола, и путь христианского царствования, на который предстоит вступить Вам, может уничтожить то зло, которое точит Россию. Как воск от лица огня, растает всякая революционная борьба перед Царем-человеком, исполняющим закон Христа».
Победоносцев, которого просили передать это письмо государю, отказался это сделать и вернул его обратно. Письмо было передано снова через другае пути и государь получил его.
Говорят, что прочтя его, Александр III сказал:
«Если бы преступление касалось меня лично, я имел бы право помиловать виновных, но за отца я этого сделать не могу».
3 апреля все участники убийства царя-освободителя были казнены.
Обращение Толстого к Александру III оказалось гласом вопиющего в пустыне. Толстому было бесконечно тяжело. Даже близкие его не понимали.
«Вешать — надо, сечь — надо, бить по зубам без свидетелей... — такие разговоры шли в семейном кругу Толстых. — Народ как бы не взбунтовался — страшно...»
А в Дневнике от 6 июля Толстой записывает:
«Революция экономическая не то, что может быть, а не может не быть. Удивительно, что ее нет».
Как и каждое лето в Ясной Поляне, когда приезжала многочисленная семья тети Тани Кузминской, жизнь била ключом.
Две матери, тетя Соня и тетя Таня, как они назывались, едва успевали присматривать за большими и малыми детьми. То дети убегали в поле за своей любимой лошадью «Кавушкой», и не успевала тетя Таня, тетя Соня, гувернантки и гувернеры оглянуться, как, водрузившись по три или четыре на спину смирной, покорной лошади — дети исчезали в недрах густых, тенистых лесов; то Илья, с ружьем и собакой, уходил на целые сутки, скитаясь по лесам и болотам за бекасами, дикими утками и вальдшнепами, и мама беспокоилась; то дети ссорились и дрались между собой и поднимали страшный рев, и тетя Таня хватала их и, стукая головами друг о друга, кричала: «Миритесь, целуйтесь, дряни вы этакие, а то сейчас в угол поставлю...» То кто-то влюблялся в хорошенькую черноглазую Таню или Машу Кузминскую, и опять матери волновались, как бы этот кто-то не
позволил себе вольности — пожатие руки, поцелуя... То вся эта орава на длинной линейке, «катках», ехала через лес по грязной, никогда не просыхавшей тенистой лесной дороге Заказа, купаться на речку Воронку, и надо было смотреть, чтобы никто не попал под лошадей, не захлебнулся в воде, не простудился...
Постоянно праздновали чьи-то именины, рождения, пеклись пироги, Толстые ходили в гости в «Кузминский дом», как он назывался, Кузминские ходили к Толстым, обсуждали, чьи пироги лучше, и следили за тем, чтобы «малыши» не объелись сладким...
Повара жарили кур, баранину, ростбифы, готовили необыкновенные фруктовые мороженные, каймаки — целые избушки с окнами из вафель с каким-то необыкновенным вкусным кремом — лакеи чистили батареи грязной обуви, подавали, убирали, горничные крахмалили воротнички, гладили, кучера чистили лошадей, то и дело запрягали, распрягали коляски и катки тройками, дрожки, тарантасы, седлали лошадей мужскими и дамскими седлами... У всех были свои любимые лошади. Тоненькая, стройная и ловкая Таня и широкоплечий, сильный Илья обожали лошадей и прекрасно ездили — их учителем верховой езды был отец.
Тетя Соня верхом ездила редко, и когда ездила, ей выбирали самую смирную лошадь. Тетя Таня тоже ездила редко, но сидела на лошади смело и свободно и не боялась.
Но папа — «дяди Ляли», как звали его дети Кузминские — уже не было среди всей этой веселящейся молодежи и детей.
В простой, запыленной одежде, в лаптях, Толстой шел в сопровождении двух спутников — своего слуги Сергея Арбузова и яснополянского учителя — по широкому, обсаженному старыми тополями большаку в монастырь — Оптину Пустынь.
Встречи с паломниками, разговоры с крестьянами, приближение к их простой жизни, здравому мышлению и природе, среди которой он находился с утра до поздней ночи — вот что ему было необходимо, чтобы, откинув всю внешнюю оболочку праздной жизни, начинавшую его тяготить, целиком приобщиться к тому настоящему, единому, без чего жизнь мертва есть — к миру Божьему.
С дороги Толстой писал жене:
«Второй час после полудня. Крапивна. Дошел хуже, чем я ожидал. Натер мозоли, но спал, и здоровьем чувствую лучше, чем ожидал. Здесь купил чуни пенечные, и в них пойдется легче. Приятно, полезно и поучительно очень. Только бы дал Бог нам свидеться здоровым всей семьей, и чтоб не было дурного ни с тобой, ни со мной, а то я никак не буду раскаиваться, что пошел. Нельзя себе представить, до какой степени ново, важно и полезно для души (для взгляда на жизнь) увидать, как живет мир Божий, большой, настоящий, а не тот, который мы устроили себе, и из которого не выходим, хотя бы объехали вокруг света...»
Это стремление отъединения себя от привычного, ограниченного мира в поисках Бога сквозит и в конце этого же письма:
«Главное, новое чувство, это сознавать себя и перед собой и перед другими только тем, что я есмь, а не тем, чем я вместе с своей обстановкой...»
«Только бы тебя не расстраивали и большие и малые дети, только бы гости не были неприятные, только бы сама ты была здорова, только бы ничего не случилось, только бы... я делал все самое хорошее, и ты тоже, и тогда все будет прекрасно».
12 же июня Софья Андреевна пишет мужу длинное письмо, описывая свою жизнь:
«У Тани дети здоровы. Моего Мишу тоже сейчас велела вынести погулять. Мы купаемся, ягоды поспевают, жарко очень, и скучно без тебя. Я думаю, тебе мучение идти с ношей в эту жару, и я очень боюсь за твою голову. Надеюсь, что ты самую жару сидишь в тени или спишь, и что не будешь потный пить, купаться, что ужасно вредно, удар может сдалаться...»'
Когда грязные, в чунях и кафтанах, яснополянские путники пришли в Оптину Пустынь, монахи не пустили их в чистую горницу, а направили в общую ночлежную избу, где останавливалась вся беднота, и только по настоянию слуги Толстого, Сергея, им отвели отдельный номер.
Но на другой день, узнав, что среди гостей граф Толстой, монахи переполошились и настояли на том, чтобы он перешел в самую лучшую гостиницу.
«Коли меня узнали, — сказал Толстой с некоторым сожалением своему слуге Сергею, — делать нечего, дай мне сапоги и другую блузу, я переоденусь...»2
В этот свой приезд Толстой посетил старца Амвросия*, беседовал, спорил с ним, но общение его со старцем и увещания его, чтобы Толстой раскаялся и вернулся в лоно церкви, не подействовали. Посещение Оптиной Пустыни еще более оттолкнуло его от православия.
«...Скажу вам прямо, чем я себя считаю, — писал Толстой Рачинскому от 15 ноября того же года. — Я считаю себя христианином. Учение Христа есть основа моей жизни. Усумнившись в нем, я бы не мог жить; но православие сознанное, связанное с церковью, с государством, есть для меня основа всех соблазнов, есть соблазн, закрывающий Божескую истину от людей».
Вернувшись, Толстой не долго высидел в Ясной Поляне. Сначала, по приглашению Тургенева, поехал к нему на два дня в Спасское, и затем, 13 июля, вместе с старшим сыном Сергеем, уехал к себе на хутор в Самарскую губернию.
Внешне жизнь Толстого катилась по привычным рельсам. Он продолжал интересоваться доходами Самарского имения, лошадьми: «Хлеба хорошие, — писал он жене 19 июля, — хотя и не везде. У нас очень хорошие... — Лошади, жеребцы, больше 10 штук, очень хороши. Я не ожидал таких. Должно, я приведу осенью для продажи и для себя. Лошади замечательно удались, несмотря на голодные годы, в которые они голодали, и много истратилось. Есть лошади, по-моему, по дешевой цене, в 300 рублей и больше... Виды на доходы более 10 тысяч, мне кажутся верными, но я уже столько раз ошибался, что боюсь верить».
Художественную работу Толстой совсем забросил. Иногда, приступами, писал свою легенду «Чем люди живы», в которой так ярко описаны мужицкая вера в Бога, в справедливость Его, и мудрая простота и богобоязненность русского крестьянина.
Во время своего путешествия в Оптину Пустьшь Толстой посетил староверов. В Самарской губернии он заинтересовался молоканами. По простоте своего учения и той значимости, которую они придавали учению Христа, они были ему ближе и понятнее староверов.
В письме к жене он пишет: «Интересны молокане в высшей степени. Был я у них на молении, присутствовал при их толковании Евангелия и принимал участие,
* «Старцем» в монастыре назывался особо почитаемый старый монах-отшельник, славящийся святостью своей жизни и мудростью. Даже не при всяком монастыре бывал старец, и больше одного старца единовременно в монастыре не бывало.
и они приезжали и просили меня толковать, как я понимаю; и я читал им отрывки из моего изложения, и серьезность, интерес, и здравый, ясный смысл этих полуграмотных людей — удивительна. Был я еще в Гавриловке, у субботника. Тоже очень интересно».
Но у Софьи Андреевны в это время были другие заботы: надо было переезжать в город, и она отправилась в Москву, где, со свойственной ей энергией, искала дом, в который вся семья могла бы переехать на зиму.
Старший сын Сергей, которому минуло уже 18 лет, поступил на естественный факультет Московского университета. 17-летняя Таня, унаследовавшая от матери способности к рисованию, поступила в эту же зиму, в ноябре, в Московскую школу живописи и ваяния, а 16- и 13-летние Илья и Лев поступили в частную гимназию Поливанова*. В сентябре 1881 года семья Толстых поселилась в Москве.
Для Толстого жизнь в городе была жесточайшей мукой. Он никогда не живал подолгу в городах. Только в природе, в величии Кавказских гор и бурных рек, в полях и лесах Ясной Поляны или среди вольных просторов самарских степей, где он мог дышать полной грудью, он ощущал в себе тот подъем, ту высшую духовную силу, которая возносила его над мирским, телесным, и душа его сливалась с Богом.
«Вонь, камни, роскошь, нищета, разврат, — записывает он в дневнике от 5 октября. — Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргии, и — пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Мужики на это ловчее. Бабы дома, мужики трут полы и тела в банях, возят извозчиками...»
* Поливанов Л. И. (1838 — 1899) — основатель и директор одной из лучших частных мужских гимназий в Москве.
«Прошел месяц — самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. — Все устраиваются. Когда же начнут жить? Все не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные! И нет жизни».
В этой тесноте и ограниченности городской жизни он искал просветов. Одним из таких просветов было его знакомство с крестьянином Тверской губернии, Василием Сютаевым.
Еще летом, в Самарской губернии, Толстой встретил Пругавина*, изучавшего жизнь сектантов в России.
«Лев Николаевич с жадным любопытством расспрашивал меня о моих впечатлениях и наблюдениях, вынесенных мною от знакомства и личного изучения тех или иных сект на местах их распространения, — писал Пругавин в своей книге «О Льве Толстом и о толстовцах». — Но особенно его заинтересовали личность и учение только что появившегося тогда в Тверской губернии крестьянина Василия Сютаева, проповедывавшего любовь и братство всех людей и народов и полный коммунизм имущества. — Узнавши, что прежде чем попасть в Самару и Патровку, я был в Тверской губернии у Сютаева, где я прожил целую неделю, почти не расставаясь с ним, Лев Николаевич начал расспрашивать меня относительно личной жизни и религиозных взглядов этого необыкновенного крестьянина, а также о тех попытках, которые он предпринимал у себя в деревне с целью устройства общины-коммуны...»'
Илья Львович Толстой в своих воспоминаниях пишет:
«Сютаев отрицал всякое насилие и не допускал его даже как средство противления злу.
Он принципиально отказывался от платежа всяких повинностей, потому что они идут на содержание войска.
А когда полиция описывала его имущество и продавала скот он безропотно присутствовал при своем разорении и не сопротивлялся.
— Их грех, пусть они и делают. Сам ворота отворять не пойду, а если им надо, пусть идут. Замков у меня нет, — говорил он, рассказывая об этом.
Семья его разделяла его убеждения и жила в своей общине, не признавая личной собственности.
Когда сына Сютаева забрали в солдаты, он отказался от присяги, потому что в Евангелии сказано «не клянись», и не взял в руки ружья, потому что «от него кровью пахнет».
За это он был зачислен в Шлиссельбургский дисциплинарный батальон и терпел там большие лишения.
Осуществление своего идеала «жизни по-божьи» Сютаев видел в христианской общине.
— Поле не должны делить, лес не должны делить, дома не должны делить. Тогда и замков не надо, сторожей не надо, торговли не надо, судей не надо, войны не надо... У всех будет одно сердце, одна душа, не будет ни твоего, ни моего, — все будет местное, — говорил он, и в словах его чувствовалась глубокая вера в осуществимость этих идеалов, почерпнутых им из Евангелия»4.
Толстой был потрясен силой веры этих простых людей, верой, ради которой они готовы были идти на страдания, может быть, на смерть.
В октябре 1881 года, уже из Москвы, Толстой поехал к Сютаеву, в Тверскую
* Пругавин А. С. — писатель, известный исследователь раскола и этнограф.
губернию. Для него знакомство с Сютаевым было откровением. Опять среди «темного» крестьянства он нашел подлинньш религиозный подъем, веру в учение Христа, в Бога. Он писал в Дневнике, что это было для него «утешением». Толстой говорил: свою веру Сютаев выражал в очень простых фразах «все в табе и все в любве».
Софья Андреевна писала сестре: «Левочка впал не только в уныние, но даже какую-то отчаянную апатию. Он не спал и не ел, сам a la lettre плакал иногда, и я думала, просто, что с ума сойду... Потом он поехал в Тверскую губернию, виделся там со старыми знакомыми... потом ездил там в деревню к какому-то раскольнику, христианину, и когда вернулся, тоска его стала меньше. Теперь он наладился заниматься во флигеле, где нанял себе две маленькие, тихие комнатки за 6 руб. в месяц, потом уходит на Девичье Поле, переезжает реку на Воробьевы Горы и там пилит и колет дрова с мужиками. Ему это здорово и весело»".
Поглощенная жизнью семьи, Софья Андреевна не могла понять, почему Левочка хандрит. Она видела, как тяжело ему жить в городе, а между тем, что она могла сделать? Она была воспитана в том, что надо было учить и вести детей так, как полагалось в известном обществе: вывозить в свет дочь Таню, иметь приличную квартиру, одежду, слуг.
«Я осталась с мальчиками, пришли два Олсуфьева мальчика, пили степенно чай; потом графиня Келлер приехала спросить, пущу ли я мальчиков в цирк завтра. Я пустила, а утром они едут в оперу. Долго еще будет этот сумбур. В субботу у Олсуфьевых танцуют, в пятницу Оболенская зовет к себе. Кому платье, кому башмаки, кому еще что...
Маленький мой все нездоров и очень мне мил и жалок, — писала она мужу 3 февраля 1882 года. — Вы с Сютаевым можете не любить особенно своих детей, а мы простые смертные не можем, да, может быть, и не хотим себя уродовать и оправдывать свою нелюбовь ни к кому какою-то любовью ко всему миру»6.
«Наслаждайся тишиной, пиши и не тревожься; в сущности все то же при тебе и без тебя, только гостей меньше. Вижу я тебя редко и в Москве, а жизнь наша пошла врозь. Впрочем, какая это жизнь — это какой-то хаос труда, суеты, отсутствия мысли, времени и здоровья и всего, чем люди живы»7 .
«Маленький», о котором упоминает Софья Андреевна, — сын Алексей, родившийся 31 октября 1881 года.
Толстого мало интересовали светские знакомые. Ему хотелось узнать жизнь городской бедноты, с которой ему до тех пор не приходилось сталкиваться. Посетив в декабре 1881 года Хитров рынок, Толстой впервые лицом к лицу столкнулся с этой ужасающей, нездоровой, чахлой городской нищетой, с ночлежками. И увидав это, он пришел в ужас.
«Нужда городская, — писал он в статье «Так что же нам делать», — была и менее правдива, и более требовательна, и более жестока, чем нужда деревенская».
Чтобы ближе подойти к этим несчастным людям, Толстой предложил свои услуги как один из 80 руководителей переписи, которую должны были произвести в трехдневный срок в Москве. Толстой пошел на эту работу с мыслью помочь всем тем несчастным, которых он встретит. Для этой цели он выбрал для себя самый бедный участок. Но очень скоро он убедился, что та задача, которую он хотел на себя принять, — непосильна.
«Цель переписи научная. Перепись есть социологическое исследование. Цель
же науки социологии — счастье людей. Наука эта и ее приемы резко отличаются от всех других наук...
Счетчик приходит в ночлежный дом, в подвале находит умирающего от бескормицы человека и учтиво спрашивает: звание, имя, отчество, род занятия; и после небольшого колебания о том, внести ли его в список как живого, записывает и проходит дальше...» писал он в статье о переписи в Москве. В конце статьи Толстой призывал к помощи этим несчастным людям не деньгами... «Почему не надеяться, что будет отчасти сделано или начато то настоящее дело, которое делается уже не деньгами, а работой, что будут спасены ослабевшие пьяницы, непопавшиеся воры, проститутки, для которых возможен возврат? Пусть не исправится все зло, но будет сознание его, и борьба с ним не полицейскими мерами, а внутренними — братским общением людей, видящих зло, с людьми, не видящими его потому, что они находятся в нем».
Но очень скоро Толстой понял, что призыв к людям был гласом вопиющего в пустыне. Весь строй, экономическое классовое разделение, городские соблазны — породили эту нищету. Помощь отдельным лицам была или невозможна, или бесполезна. В отдельных случаях, когда Толстой помогал, люди пропивали деньги, отказывались от работы, проститутки, отвыкшие от труда, предпочитали вести ту жизнь, к которой они привыкли.
«...При виде этого голода, холода и унижения тысячи людей, я не умом, не сердцем, а всем существом своим понял, что существование десятков тысяч таких людей в Москве, тогда, когда я с другими тысячами объедаюсь филеями и осетриной и покрываю лошадей и полы сукнами и коврами, — что бы ни говорили мне все ученые мира о том, как это необходимо, — есть преступление, не один раз совершенное, но постоянно совершающееся, и что я, с своей роскошью, не только попуститель, но прямой участник его», — писал он в своей статье «Так что же нам делать»
Изменить жизнь миллионов Толстой не мог. Он мог только изменить свою собственную жизнь.
«...Если человек точно не любит рабство и не хочет быть участником в нем, то первое, что он сделает, будет то, что не будет пользоваться чужим трудом ни посредством владения землею, ни посредством службы правительству, ни посредством денег», — писал он в статье «Так что же нам делать».
Вывод этот, который с годами становился все яснее и яснее Толстому, и который впоследствии он решил претворить в жизнь — был жесточайшим приговором для его жены.
«Жизнь пошла врозь».
Софья Андреевна еще надеялась, что увлечение мужа религиозными вопросами остынет, что он снова сделается тем, чем был — заботливым, но строгим отцом, нежным мужем, писателем художественных, бессмертных произведений, приобретавших ему все новую и новую славу. А он в глубине души смутно лелеял надежду, что она разделит его убеждения и последует за ним.
Каждый из них жил и думал по-своему, и каждый из них был прав и не мог жить и думать по-другому.
«Здесь все ручьи налились так, что проехать трудно, — писал Толстой жене 27 февраля 1882 года. — Но нынче морозит, и выдуло так, что я топлю другой раз.
Нынче смотрю на Кузминских дом и думаю: зачем он себя мучает, служит где не хочет. И они все, и мы все. Взяли бы да жили все в Ясной и лето и зиму, воспитывали бы детей. Но знаю, что все безумное возможно, а разумное невозможно. Прощай, душенька, целую тебя и детей».
«...Был в самом унылом, подавленном состоянии, но не жалею об этом и не жалуюсь, — писал он жене 28 февраля. — Как мерзлый человек отходит и ему больно, так и я, вероятно, нравственно отхожу, — переживаю все излишние впечатления, и возвращаюсь к обладанию самого себя».
Письмо Софьи Андреевны от 2 марта пропитано любовной заботой о здоровье, нервах дорогого Левочки.
«Когда я о тебе думаю (что почти весь день), то у меня сердце щемит, потому что впечатление, которое ты теперь производишь — это, что ты несчастлив. И так жалко тебя, а вместе с тем недоумение: отчего? за что? Вокруг все так хорошо и счастливо.
Пожалуйста, постарайся быть счастлив и весел, вели мне что-нибудь сделать для этого, конечно, что в моей власти и только мне одной в ущерб. Только одного теперь в мире желаю: это твоего спокойствия души и твоего счастья. Прощай, милый, если не кончился бы лист, я способна еще много написать. Целую тебя»'.
Они были глубоко привязаны друг к другу. Соня знала, как тяжело ему было в городе, но искренно верила, что иначе нельзя было устраивать жизнь семьи. «Прощай, отдыхай, люби меня, не проклинай за то, что посредством Москвы привела тебя в такое положение, целую тебя2», — писала она ему. Она советовала ему «полечиться».
«...Это тоскливое состояние уже было прежде,, давно; ты говорил: «от безверья», повеситься хотел. А теперь? Ведь ты не без веры живешь, отчего же ты несчастлив? И разве ты прежде не знал, что есть голодные, больные, несчастные и злые люди? Посмотри получше: есть и веселые, здоровые, счастливые и добрые. Хоть бы Бог тебе помог, а я что же могу сделать»3.
В Ясной Поляне Толстому было несравнимо легче, чем в Москве. Тут в природе он постоянно оживал, мысли прояснялись, успокаивались нервы.
«Делаю пасьянсы, — пишет он жене 2 марта, — читаю и думаю. Очень бы хотелось написать ту статью, которую я начал. Но если бы и не написал в эту неделю, я бы не огорчился. Во всяком случае мне очень здорово отойти от этого задорного мира городского и уйти в себя — читать мысли других о религии, слушать болтовню Агафьи Михайловны, и думать не о людях, а о Боге. Сейчас Агафья Михайловна повеселила меня рассказами о тебе, о том, каков бы я был, если бы женился на Арсеньевой. «А теперь уехали, бросили ее там с детьми, — делай, как знаешь, а сам сидите, бороду расправляете».
Агафья Михайловна, или Гаша, как ее звали, была еще крепостной бабушки Толстого, Пелагеи Николаевны Толстой. Таких типов, как Агафья Михайловна, на свете уже нет. Гордая, своенравная, остроумная, она никогда за словом в карман не лезла, трудно было подумать, что она была крепостной, так независимо и властно она держала себя. Толстой ценил ее и любил поговорить с ней о прошлом, о собаках, о хозяйстве.
К старости Агафья Михайловна заведывала псарней — охотничьими собаками Толстого, почему ее и прозвали «собачьей гувернанткой», а к концу своей жизни она так привязалась к животным, что даже прикармливала мышей, которые завелись в ее комнате.
«Смолоду Агафья Михайловна была очень красива», — рассказывает про нее Татьяна Львовна Сухотина-Толстая, и многие искали ее любви с честными и не честными намерениями. Но гордая красавица всем отказывала и оставалась девственницей. Она этим очень гордилась.
«Вы не смотрите на меня, что я теперь такая страшная стала. Я смолоду красавицей была, — рассказывала она мне. — Бывало, сидит графиня на балконе в большом доме с гостями. Понадобится ей носовой платок, — она позовет меня: «Фамбр де шамбр! Аппорте мушуар де пош!» А я им в ответ: «Тутсуит, мадам ла контесс!» И принесу им на серебряном подносике батистовый платочек. А господа на меня так и смотрят!.. А иногда господа меня сторожили, как я из одного флигеля в другой иду. Я это замечу, да нарочно далеко за домом прохожу. Перелезу через канаву, вся в крапиве острекаюсь, а на глаза им так и не попадусь. А они сидят, ждут меня... Не любила я этого, графинюшка...»4
Агафья Михайловна смутно понимала драму Толстых и была целиком на стороне Софьи Андреевны.
«Нынче утром вышел в одиннадцать часов и опьянел от прелести утра, — писал Толстой жене от 8 апреля. — Тепло, сухо, кое-где с глянцем тропинки, трава везде, то шпильками, то лопушками, лезет из-под листа и соломы; почки на сирени; птицы поют уже не бестолково, а уж что-то разговаривают, а в затишье, на углах домов, везде, и у навоза жужжат пчелы...
Читал днем, потом обошел через пчельник и купальню. Везде трава, птицы, медунички; нет ни городовых, ни мостовой, ни извозчиков, ни вони, и очень хорошо. Так хорошо, что мне очень жалко вас стало, и думаю, что тебе непременно надо с детьми уезжать раньше, а я останусь с мальчиками».
Летом Толстой, уступая настояниям жены, купил дом в Москве, в Долгоха-мовническом переулке. Он не искал дома в аристократических районах, с красивым фасадом и парадным входом — он искал природы в городе и нашел не только дом, но целую усадьбу.
Большой, двухэтажный деревянный дом стоял среди широкого двора, отделенного от переулка высоким забором, службы: флигеля, сторожка, каретный сарай, коровник, конюшня, кухни — образовывали более или менее правильный четырехугольник. За домом тянулся большой сад с старыми деревьями, аллеями, цветущими кустарниками и высоким курганом посредине. Извилистая, тенистая тропинка вела наверх, на площадку, откуда был виден соседний громадный парк графов Олсуфьевьгх, с семьей которых очень подружились Толстые.
«Какая прелесть сад, — писал он жене, — сидишь у окна в сад — весело, спокойно. Выйдешь на улицу: уныло, тревожно». В другом конце сада, вдоль пивоваренного завода, широкая проторенная дорожка вела к колодцу — единственному источнику снабжения водой. Вода накачивалась насосом и в большой бочке привозилась в дом, осенью и весной таскалась в бадьях на коромысле, а зимой возилась на санках. Легко представить себе, сколько надо было воды на такое большое хозяйство: для мытья и для кухни, для лошадей и коров, которых в Москву приводили каждую зиму из Ясной Поляны.
Несколько раз в день дворник накачивал и развозил воду по усадьбе. Ранней весной Толстой, желая снять с жены заботы по дому, переехал в Москву с двумя мальчиками — Сергеем и Львом, остальная семья осталась в Ясной Поляне, ожидая конца ремонта.
Забот было много: надо было ремонтировать кухню, переложить печи,
выбрать обои, перестроить лестницу, исправить полы, приготовить подвалы, где можно было бы хранить запасы, привезенные из деревни: яблоки, овощи, бочки с кислой капустой и солеными огурцами, варенье, маринады. Толстой хлопотал, но устраивая, сомневался: понравится ли Соне расположение комнат, выбор обоев, балясины на лестнице...
Между тем, слух о перемене в настроении Толстого быстро распространился. Некоторые статьи его были уже напечатаны. Он продолжал работать над «Исследованием и Переводом четырех Евангелий», «Критикой Догматического Богословия» и «Так что же нам делать?» Предисловие к «Исповеди» было уже напечатано в «Русской мысли», но сама статья была запрещена цензурой.
За Толстым, особенно в связи с его общением с сектантами, главным образом с молоканами в Самарской губернии, был установлен негласный надзор.
Но это не мешало людям, ищущим, как и он, правды Божьей, искать общения с Толстым. И люди эти были самые разнообразные. В Москве Толстой познакомился с старым раввином Минором и стал учиться у него древнееврейскому языку. Он решил, что должен изучить Библию, читая ее по-еврейски.
Весной 1882 года семья Толстых приобрела нового друга.
«Как искра воспламеняет горючее, так это слово меня всего зажгло. Я понял, что я прав, что детский мир мой не поблекнул, что он хранил целую жизнь и что ему я обязан лучшим, что у меня в душе осталось свято и цело. Я еду в Москву обнять этого великого человека и работать ему... Я безгранично полюбил этого человека, он мне все открыл. Теперь я мог назвать то, что я любил целую жизнь... — он мне это назвал, а главное, он любил то же самое». Так писал в своих записках известный художник-академик, Николай Николаевич Ге5.
Картины его выставлялись на Передвижных выставках, его «Тайная вечеря» обратила на себя внимание и слава Николая Николаевича росла.
С Толстым Ге сошелся сразу. Христос, вера и Его учение — были главной основой, на которой сблизились эти два необыкновенных человека. Но не только глубокая религиозность и художественная сила влекли людей к «дедушке» Ге, как прозвали его дети Толстые. Почти детская кристальная чистота, искренность и доброта неотразимо привлекали к нему людей. Сияли лаской его добрые, голубые глаза, лаской и добротой звучал его мягкий, южный говор. Все его существо, гладкое, чистое как у младенца, красивое, с правильными чертами лицо с розовыми щеками, круглая лысина, окаймленная ореолом вьющихся, седеющих, пушистых волос — выражали одно: «я всех люблю, всем желаю добра, полюбите и вы меня». И все его любили.
«...Знаменитый художник Ге, — писала тетя Соня тете Тане о посещении Николая Николаевича, — ...пишет мой портрет масляными красками, очень хорошо. Но какой он милый, наивный человек, прелесть! Ему 50 лет, он плешивый, ясные голубые глаза и добрый взгляд. Он приехал познакомиться с Левочкой; объяснился ему в любви и хотел для него что-нибудь сделать. Взошла моя Таня, он говорит Левочке: «Позвольте мне написать вашу дочь». Левочка говорит: «Уж лучше жену». Вот я сижу уже неделю, и меня изображают с открытым ртом, в черном бархатном лифе, на лифе кружева мои d'Alencon, просто, в волосах, очень строгий и красивый стиль портрета»6.
Несмотря на то, что сама Софья Андреевна и остальные члены семьи считали портрет удачным, «дедушка» был недоволен и в один прекрасный день уничтожил его: «Это невозможно, — говорил он. — Сидит барыня в бархатном платье, и только
и видно, что у нее сорок тысяч в кармане. Надо написать женщину, мать. А это ни на что не похоже»7.
И только четыре года спустя Ге написал портрет Софьи Андреевны с младшей дочерью Александрой на руках*.
Отношение «дедушки» Ге было пропитано лаской и уважением к матери детей его друга. Сделавшись своим человеком в семье, «дедушка» без всякого усилия нашел общий язык с Софьей Андреевной и очень скоро стал звать ее «маменька».
Под влиянием Толстого Николай Николаевич написал целый ряд картин. Картины, особенно поразившие Толстого, были: «Что есть истина», «Тайная Вечеря» и позднее написанное «Распятие».
В этих картинах художник отступил от общепринятых изображений Христа-Бога. Ревнители православия упрекали Ге за то, что он низвел Христа на землю, отождествил Его с человеком.
В картине «Что есть истина», с точки зрения обыденного зрителя, Христос — измученный, изможденный человек. Его били, издевались над ним, он страдает, его жалко, нет в нем божественного величия. Грубая сила человеческой, плотской власти изображена в Пилате, в его властном движении рукой, его величественной позе, во всей его самодовольной, выхоленной фигуре. «Что есть истина?» с насмешкой вопрошает Пилат,
И как тогда, почти 2000 лет тому назад, так и в 1884 году, власти, уверенные, что только им, правящим, самодовольным, дано постигнуть истину, не поняли величия Христа в самом Его смирении, гонении...
Картину приказали снять с выставки и запретили показывать. Ее решено было послать в Америку и Толстой написал американцу Кеннану:
«Ге же нашел в жизни Христа такой момент, который важен теперь для всех нас и повторяется везде, во всем мире, в борьбе нравственного, разумного сознания человека, проявляющегося в неблестящих сферах жизни — с преданиями утонченного, добродушного и самоуверенного насилия, подавляющего это сознание. И таких моментов много, и впечатление, производимое изображением таких моментов, очень сильно и плодотворно».
Н. Н. Ге внес много радости в жизнь Толстого. 24 июля 1884 года Толстой писал в дневнике: «Ге очень хорош, ощущение, что слишком уже мы понимаем друг друга».
В этот период религиозных исканий Толстой отходил от литературной художественной формы, чему очень огорчались близкие и друзья Толстого.
Тургенев, прочитав присланную ему Толстым «Исповедь», в письме к Григоровичу дает следующую оценку этому произведению.
«Я получил на днях... ту «Исповедь» Л. Толстого, которую цензура запретила, — писал он. — Прочел ее с великим интересом, вещь замечательная по искренности, правдивости и силе убеждения. Но построена она вся на неверных посылках — и в конце концов приводит к самому мрачному отрицанию всякой живой человеческой жизни... И все-таки Толстой едва ли не самый замечательный человек современной России!»8.
Оба писателя были привязаны друг к другу и оба, с момента примирения, бережно, боясь нарушить установившуюся дружескую связь, старательно обходили подводные камни — несогласие в идеалах и разность натур.
* Портрет этот находится и по сие время в гостиной Дома-музея в Ясной Поляне.
Толстой искренно огорчился, узнав о болезни Тургенева, и был глубоко растроган, получив от него письмо от 27 — 28 июня 1883 года. Это было его последнее письмо. Тургенев умирал.
«Милый и дорогой Лев Николаевич! — писал он. — Долго Вам не писал, ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу, и думать об этом нечего. Пишу же я Вам, собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником, и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует!... Я же человек конченный, доктора даже не знают, как назвать мой недуг nevralgie stomacale goutteuse. Ни ходить, ни есть, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это! Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе! Дайте мне знать, если Вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз крепко, крепко обнять Вас, Вашу жену, всех Ваших, не могу больше, устал»9.
22 августа 1883 года Тургенева не стало. Отошли в вечность все столпы русской литературы того времени, Толстой остался в одиночестве.
Из уважения ли к памяти Тургенева или желая оказать ему последнюю дань, но Толстой стал перечитывать сочинения Тургенева, и когда поднялся вопрос о вечере его памяти, Толстой охотно согласился принять в нем участие. Но правительство испугалось, что Толстой выступит с слишком вольнодумной речью. Московский генерал-губернатор, кн. В. А. Долгоруков, вызвав к себе председателя Общества Любителей Российской Словесности, С. А. Юрьева, приказал ему «под благовидным предлогом» объявить заседание общества, посвященное памяти Тургенева, «отложенным на неопределенное время».
Жизнь в городе становилась все более и более невыносимой Толстому.
«Опять в Москве, — писал он в дневнике 22 декабря 1882 года. — Опять пережил муки душевные, ужасные. Больше месяца. Но не бесплодные. Если любишь Бога, добро (кажется, я начинаю любить его), любишь, т. е. живешь им — счастье в нем, жизнь в нем видишь, то видишь и то, что тело мешает добру истинному»15.
Спотыкаясь, порой изнемогая, уступами шел он, нащупывая путь, по мере продвижения то охваченный внутренней одухотворенной радостью, то впадая в отчаяние. В один из таких мрачных периодов Толстой написал письмо писателю Энгельгардту. Толстой прочел его статью и нашел в ней многое, о чем он сам, не переставая, думал. Это письмо — исповедь.
«...Вы не можете и представить себе, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий «я», презираемо всеми окружающими меня... Если я знаю дорогу домой и иду по ней пьяный, шатаясь из стороны в сторону, то неужели от этого не верен путь, по которому я иду? Если не верен, покажите мне другой, если я сбиваюсь и шатаюсь, помогите мне, поддержите меня на настоящем пути, как я готов поддержать вас, а не сбивайте меня, не радуйтесь тому, что я сбился, не кричите с восторгом: вон он! говорит, что идет домой, а сам лезет в болото. Да, не радуйтесь же этому, а помогите мне, поддержите меня. Ведь вы не черти из болота, а тоже люди, идущие домой. Ведь я один и ведь я не могу желать идти в болото. Помогите мне, у меня сердце разрывается от отчаяния, что мы все заблудились, и, когда я бьюсь всеми силами, вы, при каждом отклонении, вместо
того, чтобы пожалеть себя и меня, суете меня и с восторгом кричите: смотрите, с нами вместе в болото...»
23 апреля 1883 года сгорела почти вся деревня Ясная Поляна. Толстой был в это время в Ясной Поляне, куда, с приближением весны, его неудержимо потянуло из города. Пожары — одно из самых страшных явлений в русских деревнях. Воды, пожарных дружин нет. В каждой деревне на 75 — 100 дворов, два, три колодца, из которых вода черпается деревянной бадьей журавлем или канатом, намотанном на колесо, которое крутят ручным способом. Удержать пожар, если загорится один дом, почти невозможно; он распространяется с молниеносной быстротой по соломенным крышам, плетневым заборам и дворам, перекидываясь от одной бревенчатой избы к другой. Плачут дети, голосят бабы, мычит выгнанная со дворов скотина... Закопченные, измазанные сажей мужики, с выражением терпеливого страданья на лицах, выволакивают последний скарб из занявшихся домов, баграми растаскивают горящие бревна. Час тому назад это было жилище, дававшее кров целой семье... Теперь сгорело все, деваться некуда... Порядка нет, люди мечутся, кричат, ругаются. На фоне ярко пылающего костра домов фигуры людей кажутся особенно темными. Толстой среди них. Он старается навести порядок, приехали бочки с барского двора, пришли помогать рабочие. То тут, то там мелькает высокая, широкоплечая фигура Толстого. Он дает распоряжения, сам заливает ведрами огонь. Но остановить разбушевавшее пламя нельзя.
«Очень жалко мужиков, — писал он жене в Москву. — Трудно представить себе все, что они перенесли и еще перенесут. Весь хлеб сгорел. Если на деньги счесть потерю, то это больше 10 тысяч. Страховых будет тысячи две, а остальное все надо вновь заводить нищим, и заводить все то, что нужно необходимо только для того, чтобы не помереть с семьями с холоду и голоду».
И в тот же день он снова писал Софье Андреевне:
«Сейчас ходил по погорелым. И жалко, и страшно, и величественно — эта сила, эта независимость и уверенность в свою силу, и спокойствие. Главная нужда теперь — овес на посев. Скажи Сереже брату, если его это не стеснит, не может ли он мне дать записку в Пирогово на 100 четвертей овса. Цена пусть будет та, самая высокая, за какую он продает. Если он согласен, то пришли эту записку или привези. Даже ответь телеграммой, даст ли Сережа записку на овес, потому что, если он не даст, надо распорядиться купить».
Очень возможно, что если бы не протесты жены и сознание долга перед семьей, воспитанной Толстым в материальном благосостоянии, Толстой широкой рукой раздавал бы свое имущество, начинавшее его сильно тяготить. И чтобы избавиться от тяжести материальных забот, 21 мая 1883 года Толстой выдал жене полную нотариальную доверенность на ведение всех имущественных дел, а сам уехал в Самарскую губернию, чтобы и там ликвидировать хозяйство. Оно уже больше не интересовало его, и он продал скот, лошадей, и сдал всю землю в аренду. Общение с крестьянами переселенцами, разговоры о религии с молоканами, изучение Библии на еврейском языке — вот что теперь занимало его.
А между тем —
При погоде при прекрасной
Жили счастливо все в Ясной, Жили, веселясь10.
Так начиналось шуточное стихотворение, написанное им для так называемого «почтового ящика». Этот ящик висел на верхней площадке главного дома, около больших старинных часов с боем. Писали все, что кому в голову придет: рассказы на злобу дня, анекдоты и шутки друг про друга, стихи, и опускали в ящик. В воскресенье ящик торжественно отпирался и происходило чтение. Старались угадать авторов, подписей не было, статьи и стихотворения самого хозяина вызывали полный восторг своей меткостью и остроумием. Илья Толстой в своих воспоминаниях приводит одну из таких замечательных шуток Толстого.
«Тетя Соня и тетя Таня и вообще, что любит тетя Соня и что любит тетя Таня».
...Тетя Соня кулается в сером костюме и входит в купальню степенно, по ступенькам, вбирая в себя дух от холода, потом прилично окунется, войдя в воду, и тихими плавными движениями плывет вдаль.
Тети Таня надевает изодранный клеенчатый чепец с розовыми ситцевыми подвязушками и отчаянно сигает в глубину и мгновенно, неподвижно ложится на спину.
Тетя Соня боится, когда дети прыгают в воду.
Тетя Таня срамит детей, если они боятся прыгать...
Тетя Соня в затруднительных обстоятельствах думает: «кому я больше нужна? кому я могу быть полезна?»
Тетя Таня думает: «кто мне нынче нужен? кого мне куда послать?»
Тетя Соня умывается холодной водой. Тетя Таня боится холодной воды.
Тетя Соня любит читать философию и вести серьезные разговоры и удивить тетю Таню страшными словами, и достигает вполне своей цели.
Тетя Таня любит читать романы и говорить о любви...
Тетя Соня, играя в крокет, всегда находит себе и другое занятие, как-то: посыпает песком каменистое место, чинит молотки, говоря, что слишком деятельна и не привыкла сидеть сложа руки.
Тетя Таня с озлоблением следит за игрой, ненавидя врагов и забывая все остальное...
Тетя Соня обожает малышей, тетя Таня далеко не обожает их.
Когда малыши ушибаются, тетя Соня ласкает их, говоря: «матушки мои, голубчик мой, вот постой, мы этот пол прибьем — вот тебе, вот тебе». И малыш и тетя Соня с ожесточением бьют пол.
Тетя Таня, когда малыши ушибаются, начинает с озлоблением тереть ушибленное место, говоря: «чтоб вас совсем, и кто вас только родил! И где эти няньки, черт их возьми совсем! Дайте хошь холодной воды, что все рот разинули».
Когда дети больны, тетя Соня мрачно читает медицинские книги и дает опиум. Тетя Таня, когда заболевают дети, выбранит их и дает масло...
Тетя Соня, пользуясь какой-нибудь радостью или весельем, тотчас примешивает к нему чувство грусти. Тетя Таня пользуется счастьем всецельно...
Чья нога меньше, тети Танина или тети Сонина, еще не разрешено...»"
Громадный успех имел «Скорбный лист душевнобольных яснополянского госпиталя», шутка, тоже написанная Толстым.
«№ 1. (Лев Николаевич). Сангвинического свойства. Принадлежит к отделению мирных. Больной одержим манией, называемой немецкими психиатрами Weltverbesserungswahn*. Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словом. Признаки общие: недовольство всеми существующими порядками, осуждение всех, кроме себя, и раздражительная многоречивость, без обращения внимания на слушателей, частые переходы от злости и раздражительности к ненатуральной слезливой чувствительности. Признаки частные: занятие несвойственными и ненужными работами, чищение и шитье сапог, кошение травы и т. п. Лечение: полное равнодушие всех окружающих к его речам, занятия такого рода, которые бы поглощали силы больного.
№ 2. (Софья Андреевна). Находится в отделении смирных, но временами должна быть отделяема. Больная одержима манией: petulantia toropigis maxima**. Пункт помешательства в том, что больной кажется, что все от нее всего требуют, и она никак не может успеть все сделать. Признаки: разрешение задач, которые не заданы; отвечание на вопросы прежде, чем они поставлены, оправдание себя в обвинениях, которые не деланы, и удовлетворение потребностей, которые не заявлены. Лечение: напряженная работа. Диета: разобщение с легкомысленными и светскими людьми...
№ 6. (Татьяна Андреевна Кузминская). Больная одержима манией, называемой «mania demoniaca complicate»***, встречающейся довольно редко и представляющей мало вероятности исцеления. Больная принадлежит к отделению опасных. Происхождение болезни: незаслуженный успех в молодости и привычка удовлетворенного тщеславия без нравственных основ жизни. Признаки болезни: страх перед мнимыми, личными чертями и особенное пристрастие к делам их, ко всякого рода искушениям: праздности, к роскоши, к злости. Забота о той жизни, которой нет, и равнодушие к той, которая есть. Больная чувствует себя постоянно в сетях дьявола, любит быть в его сетях и вместе с тем бояться его... Лечение двоякое: или совершенное предание себя дьяволу и делам его с тем, чтобы больная изведала горечь их, или совершенное отчуждение больной от дел дьявола. В
* Мания исправления мира (нем.).
** Величайшая необузданность (лат.).
*** Тяжелой манией одержимости бесом (лат.).
первом случае хороши были бы раньше два большие приема компрометирующего кокетства, два миллиона денег, два месяца полной праздности и привлечение к мировому судье за оскорбление. Во втором случае: три или четыре ребенка с кормлением их, полная занятий жизнь и умственное развитие. Диета — в первом случае: трюфели и шампанское, платье все из кружев, три новых в день. И во втором — щи, каша, по воскресеньям сладкие ватрушки и платье одного цвета и покроя на всю жизнь»12
В «почтовом ящике» часто подтрунивали над увлечениями молодежи, слабостями старших. Никто никогда не обижался, все с нетерпением ждали воскресенья. «Почтовый ящик» вносил много веселья и жизни, и главным затейником и душой его был сам Толстой. Писание «В чем моя вера?», сосредоточение на религиозной философии не мешало ему с почти детской веселостью участвовать в забавах молодежи и, закидывая голову, трясясь всем телом, до слез смеяться вместе с ними над удачной шуткой.
Летом 1883 года Толстой кончал свою статью «В чем моя вера?», в конце сентября сдал ее в печать, но снова, по всегдашней своей привычке, заново все переделал и статья была окончательно завершена лишь в конце января 1884 года. Статью постигла та же участь, что и «Исповедь», — цензура не пропустила ее и она распространялась в копиях, напечатанных на гектографах и мимеографах.
«В чем моя вера?» более чем все предыдущие статьи, написанные Толстым, выявляет его бесповоротный отход от церкви и признание для себя руководящим началом учение Христа, т. е. непротивление злу насилием.
«Я не толковать хочу учение Христа, а хочу только рассказать, как я понял то, что есть самого простого, ясного, понятного и несомненного, обращенного ко всем людям в учении Христа, и как то, что я понял, перевернуло мою душу и дало мне спокойствие и счастье», — писал Толстой.
«...Я не понимал этой жизни. Она мне казалась ужасна. И вдруг я услыхал слова Христа, понял их, и жизнь и смерть перестали мне казаться злом, и вместо отчаяния, я испытал радость и счастье жизни, ненарушимые смертью», — писал он далее.
«...Место, которое было для меня ключом всего, было место из 5-ой главы Матфея стих. 39-й: «Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу»...» Я вдруг в первый раз понял этот стих прямо и просто. Я понял, что Христос говорит то самое, что говорит. И тотчас не то, что появилось что-нибудь новое, а отпало все, что затемняло истину, и истина восстала передо мною во всем ее значении. «Вы слышали, что сказано древним: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу». Слова эти вдруг показались мне совершенно новыми, как будто я никогда не читал их прежде».
Теория Толстого непротивление злу насилием вызвала ряд насмешек и критику. Многие умышленно искажали значение этого принципа, опуская последнее слово «насилием», уверяя, что Толстой отказывается от борьбы со злом, его называли анархистом, революционером, безбожником, и лишь немногие, вдумываясь до глубины в значение его толкования Евангелия, понимая силу борьбы со злом добром, прощением врагов, смирением — тянулись к нему,ища поддержки и разрешения тех сомнений, которые их мучили.
В сентябре 1883 года Толстого вызвали в уездный город в суд, в качестве присяжного заседателя. 29 сентября Толстой писал жене:
«Сегодня приехал из Крапивны. Я ездил туда по вызову в присяжные. Я
приехал в 3-м часу. Заседание уже началось, и на меня наложили штраф в 100 рублей. Когда меня вызвали, я сказал, что не могу быть присяжным. Спросили: Почему? Я сказал: По моим религиозным убеждениям. Потом и другой раз спросили: решительно ли я отказываюсь. Я сказал, что никак не могу. И ушел. Все было очень дружелюбно. Нынче, вероятно, наложат еще 200 рублей, и не знаю, кончится ли все этим. Я думаю, что — да. В том, что я именно не мог поступить иначе, я уверен, что ты не сомневаешься. Но, пожалуйста, не сердись на меня за то, что я не сказал тебе, что я был назначен присяжным. Я бы тебе сказал, если бы ты спросила или пришлось; но нарочно говорить тебе мне не хотелось. Ты бы волновалась,меня бы встревожила, а я и так тревожился и всеми силами себя успокаивал».
Софья Андреевна не рассердилась. Беспокойство, нежная любовь сквозят в ее письме мужу от 30 сентября:
«Сейчас получила твое письмо, — писала она. — Думаю, что это до тебя не дойдет, ты видно скоро приедешь. Дай-то Бог. Все дело с присяжными меня все-таки ужасно встревожило. Я хотела было идти к Феде Перфильеву спросить, что могут с тобой за это сделать, и побоялась, что тебе это не понравится. Но не получая ответа на телеграмму, начинаю беспокоиться: не схватили ли тебя.
Сколько горя еще будет впереди! И как ты мог скрывать что-нибудь от меня? Это меня огорчило. Может быть, я сама бы с тобой поехала. А теперь думаю, авось ты скоро приедешь. Если только штраф, то куда ни шло. А если судить будут, — то плохо дело. Я не знаю, что сделала бы я на твоем месте. Уже горячности молодой во имя какой-нибудь истины — у меня, я думаю, не нашлось бы. Больше всего я думаю, я бы думала о том, чтобы никого слишком не огорчать. Пишу ужасно несвязно, я еще не переварила всего, что в твоем письме; а кроме того малыши, Костенька, дети, шум — все это действует одуряюще. Миша обслюнявил и смял все письмо, пока я учила читать Дрюшу.
Прощай, до свиданья скоро, надеюсь. Хоть бы все кончилось благополучно. Целую тебя.
Соня»13.
С какой радостью и благодарностью Толстой ловил каждое выражение понимания и сочувствия жены.
«Сейчас получил с Козловки твои два письма и телеграмму; — прекрасные два письма, — писал он ей в ответ 30 сентября. — По обоим вижу, что ты в том хорошем, любимом мною духе, в котором я тебя оставил, и в котором ты, с маленькими перерывами, уже давно, — Письмо это читай одна. Никогда так, как теперь, не думал о тебе, так много, хорошо и совершенно чисто. Со всех сторон ты мне мила».
И хотя внутреннее расхождение казалось неминуемо, но глубокая привязанность друг к другу, любовь к детям порождали в обоих надежду, что вот, вот что-то переменится и жизнь пойдет по-настоящему.
Но надежде этой не суждено было осуществиться.
Осенью 1883 года Толстой познакомился с Владимиром Григорьевичем Чертковым.
Чертков происходил из очень богатой, аристократической, либеральной семьи. Достаточно было взглянуть на этого красивого, стройного человека, на гордую постановку его головы, громадные, выпуклые, холодные глаза, нос с небольшой горбинкой, чтобы понять, как он был избалован судьбой, как он привык играть роль и властвовать над людьми. Когда Чертков, в блестящем мундире конногвардейского полка, появлялся на придворных балах — дамы сходили по нем с ума, и чем холоднее и равнодушнее относился к ним Чертков, тем больше он имел успеха. Рассказывали, что одна из особ царской семьи на придворном балу подошла к нему во время вальса и положила руку к нему на плечо, желая с ним танцовать. Чертков вежливо поклонился и сказал, что он не танцует. Это было неслыханной дерзостью, придворные пришли в ужас, а светские кумушки с восторгом передавали друг другу о смелой выходке молодого офицера.
Чертков был остроумен. Он с самым серьезным и невозмутимым видом рассказывал анекдоты и шутил, в то время как все кругом покатывались от смеха. Он прекрасно говорил по-французски, по-немецки, а по-английски как настоящий англичанин, с несколько преувеличенным британским акцентом, но по-русски, как многие аристократы, воспитанные на европейских языках, говорил плохо, с ярко выраженным иностранным акцентом.
В 1879 году Чертков хотел выйти в отставку, но отец его, Григорий Иванович, всю жизнь служивший при дворе, сначала как флигель-адъютант при императоре Николае I, а затем как генерал-адъютант при императорах Александре II и Александре III, и мечтавший о том, что сын его сделает блестящую карьеру при дворе, уговорил его взять отпуск и уехать в Англию на год. Чертков с детства знал императора Александра II, который запросто бывал у его матери, и убийство его сильно на него подействовало. Несмотря, однако, на противодействие отца, Чертков в 1881 году ушел в отставку и решил коренным образом изменить свою жизнь.
Мать Черткова, исключительно умная, тактичная и красивая женщина, имела большое влияние на сына. Семья ее была тесно связана с декабристами. Ее дядя, граф Захар Григорьевич Чернышев, участвовал в восстании декабристов, за что был сослан в Сибирь.
Тетка Елизаветы Ивановны была замужем за Никитой Муравьевым, видным декабристом, приговоренным к смертной казни, но помилованным и сосланным в Сибирь.
Сестра Елизаветы Ивановны была замужем за богатьш помещиком, отставным полковником кавалергардского полка, А. В. Пашковым. В 1874 году Пашков познакомился с лордом Редстоком — английским проповедником — и настолько увлекся его учением — спасение от грехов верою в искупление, в пролитую за людей кровь Христа, — что, отказавшись от своей светской жизни, отдался
проповеди учения Редстока и секта, образовавшаяся вокруг Пашкова, приобрела название «пашковцев». Одной из убежденных последовательниц пашковцев была мать Черткова, Елизавета Ивановна. Для молодого Черткова вольные, выходящие из рамок самодержавия и православия взгляды были не новы.
Карты, кутежи, женщины, все то, что составляло интерес жизни петербургской золотой молодежи, опротивело Черткову. Он, так же как и Толстой, стал искать смысла жизни. Уехал в свое имение в Воронежскую губернию, помогал как мог крестьянам. Встретившись у друга своего Р. А. Писарева с прокурором Тульского окружного суда, Н. В. Давыдовым, бывавшим в Ясной Поляне, Чертков узнал, что взгляды его близки к взглядам Толстого. Он очень обрадовался и вскоре же выехал в Москву, к Толстому.
Для Толстого встреча с Чертковым была большой радостью. При первом же свидании выяснилось, что серьезных разногласий в их взглядах нет. В своих воспоминаниях Чертков рассказывает о своем первом знакомстве с Толстым.
«Во Льве Николаевиче, — писал он, — я встретил первого человека, который всецело и убежденно разделял такое же точно отношение к военной службе. Когда я ему поставил свой обычный вопрос и он в ответ стал мне читать из лежащей на его столе рукописи «В чем моя вера» категорическое отрицание военной службы с христианской точки зрения, то я почувствовал такую радость...»
«Насколько мне известно, он также нашел во мне первого своего единомышленника». Чертков ошибался, говоря, что он был первым единомышленником, в крестьянине Сютаеве, в Н. Н. Ге Толстой нашел первых своих единомышленников. Чертков же был первым последователем, посвятившим свою жизнь распространению писаний Толстого.
В то время Николай Николаевич Ге, после года знакомства с Толстым, был своим человеком в его доме, настолько близким, что Толстой для него делал исключение, которым не пользовался никто из самых близких. Кабинет Толстого в Москве был совсем особенный: в самом дальнем углу дома, потолки низкие, можно достать рукой. Мягкая, обитая черной клеенкой мебель — диван, широкие кресла, у окна большой письменный стол с резной решеткой с трех сторон. Здесь, в кабинете, тихо, сюда не доходит городской шум, окна выходят в сад, и не доходят крики детей и домашняя суета.
Шевеля, отдувая по всегдашней своей привычке губы, Толстой писал статью «В чем моя вера». Тихонько, боясь потревожить друга, «дедушка» Ге прокрадывался в комнату с палитрой и красками. Оба молчали, погруженные каждый в свою работу.
Портрет Ге чуть ли не лучший, когда-либо написанный с Толстого. В позе, наклоне головы, даже в его прекрасно выписанной правой руке, держащей перо — глубокое сосредоточение мысли.
Несмотря на то, что религиозно-философские статьи Толстого запрещались цензурой, они все же имели широкое распространение в России и число последователей Толстого росло. Копия одной из его статей проникла за стены Московского Николаевского Института для благородных девиц, архимонархиче-ски-православного учреждения, и попала в руки двух классных дам — Ольги Алексеевны Баршевой и Марии Александровны Шмидт. Статья произвела громадное впечатление на обеих дам, они решили прочитать все, что писал Толстой о
религии и, не откладывая, поехали к нему, надеясь получить от него Перевод и Исследование 4 Евангелий.
Татьяна Львовна Сухотина-Толстая писала в своих воспоминаниях, что Толстой «ласково принял классных дам, хорошо поговорил с ними, и они сразу почувствовали в нем близкого и дорогого человека».
«С этого времени, — пишет она дальше, — Мария Александровна и Ольга Алексеевна стали часто бывать в нашем доме. Они у нас назывались «папашины классные дамы». Все относились к ним ласково и дружелюбно»2.
Классные дамы, прожившие всю свою жизнь в институтских, городских условиях, не знали деревни, не умели работать. Но сердца их горели восторженным энтузиазмом. Ликвидировав все свое городское имущество, с небольшой суммой сбережений, классные дамы уехали на Кавказ. По дороге у них украли все их деньги. Но они быстро утешились. Они стремились к опрощению, к жизни и работе на земле, деньги им были не нужны. «Господь на нас оглянулся, — говорила впоследствии М. А. Шмидт, — лишив нас денег, источника соблазнов». Ольга Алексеевна, не выдержав суровой жизни — умерла, а Марья Александровна, после смерти подруги, продолжала свою трудовую жизнь по соседству с Ясной Поляной. Нелегко было детям Толстым разобраться в сложных переживаниях родителей. Новые друзья отца вызывали в них иногда добродушные насмешки. Молодежи хотелось жить не мудрствуя лукаво, как все... Но когда они выезжали, веселились, они не могли не чувствовать недовольства отца и это мучило их, каждого по-своему.
Зимой 1883 — 1884 года Таня выезжала. Ей было 20 лет. В доме все считались с ней и любили ее. Когда ссорились между собой родители, Таня, как умела, успокаивала, утешала их, когда братья грубили матери, она стыдила их и они слушались ее. Малыши льнули к ней, Илья гордился и любовался сестрой, ее мнение о нем было ему далеко не безразлично. Даже старший, Сергей, которому был уже 21 год, признавал Танин авторитет. Сергей был честен и прямолинеен. Он предпочитал говорить голую правду, даже если она граничила с грубостью, Таня же боялась обидеть и сглаживала шероховатости. Сергей был хорошим студентом, посещал университет, хорошо играл на фортепиано и увлекался музыкой. Таня увлекалась живописью и успешно продвигалась в Школе Живописи и Ваяния, у нее был необыкновенный дар улавливать сходство, и дедушка Ге охотно помогал ей, давая технические советы. Таня любила людей, обвораживала их, не стыдилась показывать свои чувства и одинаково горячо любила обоих родителей. Сергей был менее общителен, не показывал своих чувств, стыдился их, но близкие, любящие его знали, что под внешней суровостью этого широкоплечего, некрасивого, иногда даже грубого человека, скрывались добрые, порой нежные чувства. Если случалось, что Сергей не мог скрыть своего волнения и что кто-то увидел, что серые, близорукие глаза его под пенсне подернулись влагою сдерживаемых слез, Сергей злился на себя за «сентиментальность» и срывал злобу на других.
Появление в свете Софьи Андреевны Толстой, жены известного писателя, красивой, молодой еще женщины с хорошенькой дочерью, обратило внимание московского общества. Их приглашали всюду. И в свете, и в школе у Тани были поклонники. Отец не одобрял ее праздной жизни, с беспокойством и недоброжелательностью косился на ее поклонников. Мать радовалась ее успеху и присматривалась к хорошим женихам для своей любимой дочери. Таня не была красива, но она была привлекательна. Чудесный цвет лица, блестящие карие глаза, короткий,
точно обрезанный, задорный нос, вьющиеся каштановые волосы, тоненькая, грациозная фигура — все это гармонировало с внутренней ее сущностью: талантливостью, остроумием, жизнерадостностью. Таня была одним нз тех существ, которых Господь наградил и талантливостью, и умом, и привлекательной, не банальной внешностью. Она нравилась и старым, и молодым. В светском обществе она пленяла всех своим тактом, умением себя держать, остроумием и веселостью; простых людей она привлекала добротой и простотой обращения.
«Ты теперь верно собираешься на бал. Очень жалею и тебя, и Таню», — писал Толстой жене 30 января 1884 года из Ясной Поляны, куда он уезжал все чаще и чаще.
И 30-го же января Софья Андреевна писала мужу;
«Нынче поднялись мы с Таней, которая спала у меня, в час дня. Бал вчерашний был хорош, мы были благоразумны и собрались домой в пятом часу. Но кареты не было, и пришлось ждать до шестого часа. Такая досада! А то мы совсем не устали бы. Был там и Долгоруков, очень просил опять, чтобы мы и сегодня к нему поехали на бал. Очень это скучно, но опять поеду, попозднее только»3.
Князь В. А. Долгоруков был в то время генерал-губернатором г. Москвы и было большой честью быть приглашенными к нему на бал.
«Долгоруков вчера, — писала Софья Андреевна 31 января, — на бале был любезнее, чем когда-либо. Велел себе дать стул и сел возле меня, и целый час все разговаривал, точно у него предвзятая цель оказать мне особенное внимание, что меня приводило даже в некоторое недоумение. Тане он тоже наговорил пропасть любезностей».
И точно желая его утешить, она добавляет: «Но нам что-то совсем не весело было вчера, верно устали слишком»4.
Сестре своей Тане Софья Андреевна писала про бал у Самариных: «Чудный был бал, ужин, парад такой, что лучше бала и не было. На Тане было розовое газовое платье, плюшевые розы, на мне лиловое бархатное и желтые, всех теней, анютины глазки. Потом был бал у генерал-губернатора, вечер и спектакль у Тепловых и еще елка для малышей, и сегодня опять бал у гр. Орлова-Давыдова, и мы с Таней поедем. У нее чудное платье tulle illusion*, зеленовато-голубое и везде ландыши с розовым оттенком. Завтра большой бал у Оболенских, опять танцуют. Просто с ног сбили и меня и Таню»5.
Тане было 20 лет! Молодость брала свое. Было вполне понятно, что ее в то время мало увлекало опрощение «папашиных классных дам», жизнь в Ясной Поляне, трудовая, рабочая жизнь.
А Толстой жил в Ясной Поляне просто — без лакеев и поваров, колол дрова, учился шить сапоги у яснополянского сапожника.
3 февраля 1884 года он писал жене: «Здоров и сонен. Читаю Montaigne, хожу на лыжах понапрасну, но очень устаю, шью башмаки и думаю, и стараюсь никого не обидеть. Полезное сделать другим даже не стараюсь, так это невозможно трудно. Нынче много работал (башмаки), был в бане и очень устал».
Утром он писал, вечера проводил за чтением. За этот период времени особенно напряженной мысли 80-х годов Толстой перечитал множество книг: от Марка Аврелия, Эпиктета, Конфуция и Лао-Тзе, до Паскаля, Монтеня, Паркера,
* Очень тонкий тюль (фр.).
Эммерсона. «Очень бы мне хотелось составить Круг Чтения», — писал он Черткову 4 июня 1885 года.
Толстой продолжал уговаривать жену переменить ненавистную ему роскошную, праздную жизнь семьи на простую, трудовую. Его мучило, что дети росли в бездельи, не умея даже самих себя обслуживать, что у них не было серьезных запросов в жизни, глубоких интересов. «Музыка, пение, разговоры. Точно после оргии!» — писал он в дневнике от 18 марта. «Она очень тяжело душевно больна», — писал он марта 31-го.
Отношения с женой становились все более и более натянутыми.
«Дерганье души ужасно не только тяжело, больно, но трудно», — писал он в дневнике от 3 мая. «Точно я один не сумасшедший, живу в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими», — писал он 28 мая.
А между тем Софья Андреевна ждала 9-го ребенка. Она не хотела больше иметь детей и в самом начале беременности всеми силами старалась избавиться от ребенка. Бесконечное деторождение, кормление, болезни утомили ее, расшатали ее нервы.
Нередко этой весной Толстому приходила мысль об уходе из дома. Но любовь к жене, несмотря на внутренний разлад, любовь к детям удерживали его. В ночь с 17-го на 18 июня между Толстыми произошла бурная ссора. Толстой не выдержал и ушел, но, вспомнив, что жена должна вот-вот родить, одумался и вернулся.
«Вечером покосил у дома, — писал он в дневнике, — пришел мужик об усадьбе. Пошел купаться. Вернулся бодрый, веселый и вдруг начались со стороны жены бессмысленные упреки за лошадей, которых мне не нужно и от которых я только хочу избавиться. Я ничего не сказал, но мне стало ужасно тяжело- Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу. Дома играют в винт бородатые мужики — молодые мои два сына. «Она на крокете, ты не видал», — говорит Таня, сестра. «И не хочу видеть». И пошел к себе, спать на диване, но не мог от горя. Ах, как тяжело! Все-таки мне жалко ее... Только что заснул в 3-м часу, она пришла, разбудила меня: «Прости меня, я рожаю, может быть, умру». Пошла наверх. Начались роды — то, что есть самого радостного, счастливого в семье, прошло как что-то ненужное и тяжелое. Кормилица приставлена кормить. Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть его. Это слишком трудно и безжалостно. Безжалостно относительно ее. Я вижу, что она с усиливающейся быстротой идет к погибели и к страданиям душевным ужасным. Заснул в 8. В 12 проснулся. Сколько помнится, сел писать. Когда приехал из Тулы брат, я в первый раз в жизни сказал ему всю тяжесть своего положения...».
На утро 18 июня у Толстых родилась третья дочь, и в честь Александры Андреевны Толстой, которая согласилась быть крестной матерью, ее назвали Александрой.
В этот день Толстой записал в дневнике; «Ах, как тяжело! Все-таки мне жалко ее. И все-таки не могу поверить тому, что она совсем деревянная... Я вижу, что она с усиливающейся быстротой идет к погибели и к страданиям душевным ужасным...» «Дома праздность, обжорство и злость», — писал он 28 июня.
Трудно себе представить ту сложную внутреннюю борьбу, которая происходила в Толстом в этот период его жизни. Он искал выхода и не находил его. Продолжать ту жизнь, которую он считал дурной — он не мог. Он чувствовал, что
не имел права бросить жену, детей, и не было никого, кто бы мог ему дать разумный совет.
«Не понимаю, как избавить себя от страданий, а ее от погибели, в которую она со стремительностью летит», — спрашивает он себя.
«Напрасно я не уехал. Кажется, этого не миную. Хотя ужасно жаль детей. Я все больше и больше люблю и жалею их», — писал он 14 июля 1884 года.
Одним из поводов к ссоре Толстых было то, что Софья Андреевна категорически отказалась кормить свою новорожденную девочку и наняла из соседней деревни здоровую, толстую бабу Аннушку, которая одновременно кормила Сашу Толстую и своего ребенка.
«У нас в семье все плотское благополучно, — писал Толстой Черткову 24 июня. — Жена родила девочку. Но радость эта отравлена для меня тем, что жена, противно выраженному мною ясно мнению, что нанимать кормилицу от своего ребенка к чужому есть самый нечеловеческий, неразумный и нехристианский поступок, все-таки без всякой причины взяла кормилицу от живого ребенка. Все это делается как-то не понимая, как во сне. Я борюсь с собой, но тяжело, жалко жену».
И дальше, а том же письме, он пишет:
«Бедные мы, до чего мы заблудились. У нас теперь много народа — мои дети и Кузминских, и часто я без ужаса не могу видеть эту безнравственную праздность и обжирание. Их так много, они все такие большие, сильные. И я вижу и знаю весь труд сельский, который идет вокруг нас. А они едят, пачкают платье, белье и комнаты. Другие для них все делают, а они ни для кого, даже для себя — ничего. И это всем кажется самым натуральным, и мне так казалось; и я принимал участие в заведении этого порядка вещей. Я ясно вижу это и ни на минуту не могу забыть. Я чувствую, что я для них trouble fete*, но они, мне так кажется, начинают чувствовать, что что-то не так. Бывают разговоры — хорошие. Недавно случилось: меньшая дочь заболела**, я пришел к ней, и мы начали говорить с девочками, кто что делал целый день. Всем стало совестно рассказывать, но рассказали и рассказали, что сделали дурное. Потом мы повторили это на другой день вечером, и еще раз. И мне бы ужасно хотелось втянуть их в это — каждый вечер собираться и рассказывать свой день и свои грехи! Мне кажется, что это было бы прекрасно, разумеется, если бы это делалось совершенно свободно...»
Обе дочери — и привлекательная Таня, и худенькая 13-летняя Маша — уже чутко прислушивались к отцу. Маша была похожа на отца. Те же глубокосидящие, умные, в душу проникающие серые глаза, широкий, умный лоб, некрасивый, большой рот. Первое впечатление от этой очень тоненькой, болезненной девочки с косичкой, особенно по сравнению с Таней, было: «бедная девочка, какая она некрасивая, серенькая...» И Маша, точно чувствуя это, держалась в тени. Она не была избалована материнской лаской. Ее погодок Лев, болезненный Андрюша и Таня были любимцами матери. Проницательные глаза девочки часто останавливались на отце, слова его, иногда не совсем ей понятные, западали ей в душу. Маша многое понимала, хотя взрослые не замечали этого, и всем своим существом, жаждавшим любви, робко тянулась к отцу.
* Помеха (фр.).
* Маша.
Временами семейные раздоры утихали. Толстой, погруженный в писание — «Исследование и перевод 4-х Евангелий» и «Критика Догматического Богословия» — смирялся и, как умел, применялся к жизни семьи.
«Живем мы в деревне, — писал он Черткову 3 октября 1884 года, — я, жена, две дочери, 3 маленьких мальчика и новорожденная девочка. И я не ошибусь, говоря, что нам очень хорошо, — чисто, дружно и небезбожно. За это лето у меня много было тихих, но больших радостей. В семье моей большое приближение ко мне. А радость это чувствовать — не могу вам передать. Только таких радостей, как увидать смягчение сердца, отречение от прежнего и признание истины, и чувствовать, что ты в этом был участником, — таких радостей я никогда не испытывал. Старшие мальчики в Москве и потому по инерции мы, должно быть, поедем. Жена говорит — около 20-го. Но жизнь в Москве будет другая. О свете и речи нет. Я все-таки не могу подумать, как я поеду. Чувствую, что мне никуда не надо и не должно ехать...»
23 октября Софья Андреевна писала мужу из Москвы в Ясную Поляну, где он остался один после отъезда семьи в Москву:
«Я вижу, что ты остался в Ясной не для той умственной работы, которую я ставлю выше всего в жизни, а для какой-то игры в Робинзона. Отпустил Андриана, которому без памяти хотелось дожить месяц, отпустил повара, для которого тоже это было удовольствие — не даром получать свою пенсию, и с утра до вечера будешь работать ту неспорую физическую работу, которую и в простом быту делают молодые парни и бабы. Так уж лучше и полезнее было бы с детьми жить. Ты, конечно, скажешь, что так жить — это по твоим убеждениям, и что тебе так хорошо; тогда это дело другое, и я могу только сказать: «наслаждайся», и все-таки огорчаться, что такие умственные силы пропадают в колоньи дров, ставлении самоваров и шитье сапог, — что все прекрасно, как отдых и перемена труда, но не как специальные занятия».
В этот же день, 23 октября, Толстой изложил жене свой план, как вести хозяйство Ясной Поляны самому, без управляющего.
...«Мне стало ясно, — писал он, — что если то, что я считаю истиною и законом людей, должно сделаться этим законом на деле в жизни, то это сделается только тем, что мы, богатые, насилующие, будем произвольно отказываться от богатства и насилия; и это произойдет не вдруг, — а медленным процессом, который будет вести к этому. Процесс этот может совершаться только тогда, когда мы сами будем заведывать своими делами, и, главное, сами входить в сношения с народом, работающим на нас».
Октября 25-го Софья Андреевна ответила ему: «Я сама точь-в-точь то же думала; т. е. в именьи, где живешь хотя половину года, недобросовестно не заниматься самому, именно по отношению к народу; выгоду можно извлекать ту же, а по-моему большую, и все то, что пропадает, что крадут, что бесхозяйственно тратится, все это с умом можно раздавать, помогать, делить с народом. Отношения будут самые приятные — выгода была в Ясной такая ничтожная, что про нее и говорить нечего; а с твоим уменьем и умом (когда ты только захочешь), ты всякое дело можешь отлично вести. Ну что ж, если б это бы и был предлог в деревню ездить, то тем лучше, тебе будет не совестно и не скучно оставлять нас для дела, нас же кормящего, воспитывающего и содержащего. — Поняла я тебя или нет, я не знаю, но как поняла, так и отвечаю».
Так шла семейная жизнь Толстых, порою казалось, что все успокаивалось и
они могли, живя вместе, каждый идти своим путем. Может это и было бы возможно, если бы не было детей, но для Толстого были совершенно невыносимы те условия, в которых они воспитывались. Как он писал Черткову:
«Письменная работа нейдет, физическая работа почти бесцельная, т. е. не вынужденная необходимостью, отношений с окружающими меня людьми почти нет, приходят нищие, я им даю гроши, и они уходят, и на моих глазах в семье идет вокруг меня систематическое развращение детей, привешивание жерновов к их шее. Разумеется, я виноват, но не хочу притворяться перед вами, выставлять спокойствие, которого нет. Смерти я не боюсь, даже желаю ее. Но это-то и дурно; это значит, что я потерял ту нить, которая дана мне Богом для руководства в этой жизни и для полного удовлетворения. Я путаюсь, желаю умереть, приходят планы убежать или даже воспользоваться своим положением и перевернуть всю жизнь!»
Временами, когда ему становилось особенно тяжело, он уезжал, чаще всего в Ясную Поляну. В марте 1885 года он уехал в Крым со своим другом князем Л. Д. Урусовым. Урусов заболел и доктора предписали ему теплый климат. Впервые после Севастопольской кампании Толстой попал в Крым.
«Проехали по тем местам, казавшимся неприступными, где были неприятельские батареи, и странно воспоминание войны даже соединяется с чувством бодрости и молодости», — писал он Софье Андреевне.
Почти каждый день во время пребывания в Крыму он писал жене. Как всегда, он наслаждался природой, совершая длинные прогулки, то верхом, то пешком, но мысли Толстого, его внимание сосредоточены не на красотах Крыма, хотя он и упоминает о душистых фиалках, скалах, кипарисах, журчащих фонтанах. Толстой везде видит людей, бедных, стариков и старух, обиженных богатыми, татар, заброшенных в татарской деревушке мальчика с вдовой матерью.
В августе Софья Андреевна должна была жить в Москве из-за переэкзаменовок Ильи и Льва. Заботы ее и ответственность увеличивались. Она уже сама
ведала изданием сочинений своего мужа, дававшим постоянный довольно большой доход, правила корректуры, следила за приходами и расходами. Но к великому огорчению матери, Илья провалился. Он мечтал заняться хозяйством, охотой, поселиться в деревне. Наука не интересовала его, и он решил бросить гимназию. Илья уехал в Ясную Поляну, а мать осталась в Москве с другим сыном, Львом, более успешно сдававшим переэкзаменовки.
«Не знаю, что буду делать зимой, — писала Софья Андреевна мужу 20 августа 1885 года, — перееду или нет. Книги требуют большого труда и присутствия, а жить только для книг, если провалится и Леля — не стоит. Теперь я уже так измучилась здесь, что в этот приезд ничего не соображу и не решу, тем более одна».8
В следующем письме, от 21 августа, она пишет мужу про Илью:
«Я уговаривала его остаться в 7-м классе, но у него в голове, кроме собак — ничего, это ясно, и мне иногда ужасно хочется перевесть всю эту дурацкую, барскую и жестокую вещь — охоту...»9
Толстой жил с Таней и младшими детьми в Ясной Поляне. Постоянно к нему приезжали его единомышленники, Чертков, Бирюков, англичанин Фрей. Этой же осенью появился в Ясной Поляне еврей Фейнерман, поселился в деревне и стал учить грамоте яснополянских детей. Но уроки эти были запрещены властями. Чтобы получить права учителя, Фейнерман должен был принять православие. Фейнермана крестили в местной церкви, и Таня была его крестной матерью. Гувернантка детей, miss Gibson, которую, за ее осанку grande dame, Толстые прозвали Великой Княгиней, пришла в ужас, что Тане позволили быть крестной матерью, а возмущение Софьи Андреевны, узнавшей об этом post factum, вызвало новую ссору между нею и мужем.
Толстой писал по этому поводу Черткову 29 августа 1885 года: «Фейнермана переход в православие я не сужу. Мне кажется, что я бы не мог сделать этого, потому что не могу себе представить такого положения, в котором бы было лучше не говорить и не делать правду...».
Впрочем, крещение в православие не помогло Фейнерману. Власти не утвердили его учителем яснополянской школы.
Как всегда, Толстой пробыл в Ясной Поляне до глубокой осени. Он не делал никаких планов, «жил, — как он писал жене, — пока живется». Но живя один, он все же скучал без семьи, особенно без дочерей, которые подходили к нему все ближе и ближе. Незаметно влияние его на них сказывалось — они старались жить лучше, менее праздно, решили убирать за собой свои комнаты, бросить есть мясо. Сам Толстой в то время уже сделался вегетарианцем, и старался бросить курение.
Но не долго длился мир с женой и спокойствие. Приехав в Москву и окунувшись снова в праздную, барскую жизнь города, которую он так презирал, он опять затосковал. К концу декабря он дошел до предела отчаяния и раздражения.
«Случилось то, — писала Софья Андреевна сестре Тане, — что уже столько раз случалось: Левочка пришел в крайне нервное и мрачное настроение. Сижу раз, пишу, входит: я смотрю — лицо страшное. До тех пор жили прекрасно: ни одного слова неприятного не было сказано, ровно, ровно ничего. «Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку».
Понимаешь, Таня, если бы мне на голову весь дом обрушился, я бы не так удивилась. Я спрашиваю удивленно: «Что случилось?» «Ничего, но если на воз
накладывают все больше и больше, лошадь станет и не везет». — Что накладывалось, неизвестно. Но начался крик, упреки, грубые слова, все хуже, хуже и, наконец, я терпела, терпела, не отвечала ничего почти, вижу человек сумасшедший и когда он сказал, что «где ты, там воздух заражен», я велела принести сундук и стала укладываться. Хотела ехать к вам хоть на несколько дней. Прибежали дети, рев. Таня говорит: «Я с вами уеду, за что это?» Стал умолять остаться. Я осталась, но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто, подумай, Левочку всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его, дети 4: Таня, Илья, Леля, Маша ревут на крик: нашел на меня столбняк, ни говорить, ни плакать, все хотелось вздор говорить, и я боюсь этого и молчу, и молчу три часа, хоть убей, говорить не могу. Так и кончилось. Но тоска, горе, разрыв, болезненное состояние отчужденности — все это во мне осталось. — Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: ну теперь, за что же? Я из дому ни шагу не делаю, работаю с изданием до трех часов ночи, тиха, всех так любила и помнила это время, как никогда — и за что?».
«Что же лучше делать? — писал Толстой Черткову декабря 9 — 15-го. — Терпеть и лгать, как я лгу теперь всей своей жизнью — сидя за столом, лежа в постели, допуская продажу сочинений, подписывая бумаги о праве на выборы, допуская взыскивания с крестьян и преследования за покражи моей собственности, по моей доверенности? Или разорвать все — отдаться раздраженью. Разорвать же все, освободить себя от лжи без раздраженья не умею, не могу еще. Молю Бога — т. е. ищу у Бога пути разрешения и не нахожу»*.
И он кончает письмо словами:
«Писал это два дня тому назад. Вчера не выдержал, стал говорить, сделалось раздражение, приведшее только к тому, чтобы ничего не слыхать, не видать и все относить к раздражению. Я целый день плачу один сам с собой и не могу удержаться».
После этой тяжелой сцены Толстой, вместе с дочерью Таней, уехал в подмосковное имение к своим друзьям Олсуфьевым.
20 декабря, успокоившись, Толстой писал жене: «Я говорил и говорю одно: что нужно разобраться и решить, что хорошо, что дурно, и в какую сторону идти; а если не разбираться, то не удивляться, что будешь страдать сама и другие будут страдать. О необходимости же что-то сейчас делать — говорить нельзя, потому что необходимого для людей, у которых есть деньги на квартиру и пищу, — ничего нет, кроме того, чтобы обдуматься и жить так, как лучше. Но, впрочем, ради Бога, никогда больше не будем говорить про это. Я не буду».
Мысль о необходимости умственного развития народа всегда занимала Толстого.
Еще 24-летним юношей, участвуя в Дунайской кампании, Толстой задумал издавать журнал для солдат, «полезных (моральных) сочинений», как он писал в дневнике 20 декабря 1853 года.
Мы знаем также, как много сил Толстой потратил на школьное дело в начале 60-х годов, и на составление «Азбуки» и «Книг для чтения» в 1871 и в 1872 году.
17 февраля 1884 года Толстой писал Черткову:
«Я увлекаюсь все больше и больше мыслью издания книг для образования
* Письмо это не было послано.
русских людей. Я избегаю слова для народа, потому что сущность мысли в том, чтобы не было деления народа и не народа... Не верится, чтобы вышло, боюсь верить, потому, что слишком было бы хорошо».
В то время в России существовала так называемая «лубочная литература». По домам, из деревни в деревню, ходили книгоноши, продавая картинки в ярких красках, примитивные стихи, сонники, песенники. Эта безвкусная, нехудожественная, грубая литература не могла способствовать ни нравственному, ни умственному развитию читателей из народа.
А между тем, потребность в духовной пище росла. Несмотря на малограмотность, рабочие и крестьяне прекрасно разбирались в настоящем художественном творчестве, в искреннем, правдивом слове и чувствовали фальшь и бездарность подносимой им псевдонародной литературы.
5 февраля 1884 года Толстой писал жене из Ясной Поляны:
«Петр Осипов* очень интересен по вопросу о чтении народном. Он принес мне свою библиотеку — короб книг; тут и Жития, и Катехизисы, и Родное Слово, и Истории, и Географии, и Русский Вестник, и Галахова Хрестоматия, и романы. Он высказывал свое мнение о каждом роде книг. И все это очень заинтересовало меня, и заставило многое и вновь подумать о народном чтении».
Писатель Г. П. Данилевский, посетивший Толстого в сентябре 1885 года, приводит в своих воспоминаниях разговор с Толстым по этому поводу:
«И эти миллионы русских грамотных стоят перед нами, как голодные галчата с раскрытыми ртами, — сказал Толстой, — и говорят нам: господа, родные писатели, бросьте нам в эти рты достойной вас и нас умственной пищи (курсив мой. — А. Т.): пишите для нас, жаждущих живого, литературного слова; избавьте нас от всех тех же лубочных Ерусланов Лазаревичей, Милордов, Георгов и прочей рыночной пищи. Простой и честный русский народ стоит того, чтобы мы ответили на призыв его доброй и правдивой души».1
«Я об этом много думал, — добавляет Данилевский, — и решился, по мере сил, попытаться на этом поприще». Но одного доброго желания было недостаточно. «Кавказский Пленник», «Бог правду видит, да не скоро скажет», «Чем люди живы», «Где любовь, там и Бог» и другие рассказы естественно выливались из-под пера Толстого. Он не «пытался» писать. Он не мог не писать.
Когда осенью 1884 года было основано книгоиздательство «Посредник», одной из главных трудностей, с которой столкнулись его сотрудники, было нахождение этой общедоступной художественной литературы, несмотря на то, что Чертков с большим рвением взялся за это дело. Он заручился согласием наиболее известных писателей и художников сотрудничать в «Посреднике» и предложил издателю, Ивану Дмитриевичу Сытину, взять на себя печатание и распространение картин и книжечек для народа, вместо лубочной литературы, которую Сытин выпускал в большом количестве.
Сытин сам вышел из крестьян, окончил 4-классное сельское училище, был человеком малограмотным, но умным и сметливым. Он был одним из тех дельцов, про которых говорят, что они «чужого не возьмут, но и своего не упустят». Только благодаря своей сметливости и упорству Сытин пробился в люди. Поработав некоторое время мальчиком в книжной лавке, куда его отдали
* Петр Осипов Зябрев — крестьянин Ясной Поляны. Всю жизнь занимался самообразованием, много читал, собирал книги.
родители, он присмотрелся к делу и впоследствии сам открыл свою книготорговлю, которая постепенно разрослась и превратилась в одно из самых крупных книгоиздательств России. Газета «Русское Слово», издававшаяся Сытиным, была одной из самых распространенных в России.
В ноябре 1884 года в лавку к Сытину вошел аристократического вида красивый, рослый молодой человек в дорогой дохе, и стал с жаром доказывать Сытину необходимость просвещения народа. Сытину, привыкшему смотреть на всякое дело исключительно с точки зрения расчета, идеи о народном благе, христианском долге, о необходимости духовной пищи для рабочих и крестьян, были совершенно новы и чужды. Но Чертков импонировал Сытину своим барством, своей упрямой настойчивостью, властностью. Имена писателей — Толстого, Лескова, Гаршина, Короленко — и художников — Ге, Репина, Крамского и других, — о которых упомянул Чертков, как об участниках будущего народного издательства, были известны Сытину и он, после некоторого колебания, согласил-ся издавать дешевые книжечки по 80 коп. за сотню, для широкого распространения среди народных масс.
В конце 1884 года Чертков познакомил Толстого со своим другом П. И. Бирюковым. Бирюков происходил из костромских дворян. Он окончил Морскую академию и перед ним открывалась блестящая карьера в морском ведомстве. Но это его не интересовало. Познакомившись с идеями Толстого, он вместе с Чертковым горячо принялся за работу в книгоиздательстве «Посредник».
Дело было нелегкое. Мало того, что литература должна была быть первоклассной в смысле художественности, но печатаемый материал не должен был противоречить основным идеям главных сотрудников «Посредника».
Между Толстым и Чертковым шла оживленная переписка по общим вопросам религии и философии, также как и о материале для печатания и о произведениях самого Толстого.
Само собой случилось так, что Чертков занялся распространением и переводами на иностранные языки писаний Толстого и постепенно сделался главным редактором его сочинений. Он делал эту работу добросовестно, следил за тем, чтобы Толстой в своем творчестве не позволял себе ни малейшего противоречия и отступления от своих принципов. Он по-своему ценил художественное творчество Толстого, но для Черткова, воспитанного в сектантской среде, главную роль играли непротивленческие религиозные принципы в писаниях Толстого. Толстой не мог не любить крестьян: для него они были главной основой, существом русской жизни. Чертков же совсем не знал, не понимал и не любил крестьянства, но уважал его как «трудовой» и обездоленный класс в России.
Элемент морализирования совершенно отсутствует в художественном творчестве Толстого и, в частности, в его народных рассказах. Можно вывести то или иное заключение, вытекающее из их содержания, но искусственности в них нет. Произведение, как выразился Гоголь, «выпевается» как нечто цельное, с положительными и отрицательными чертами описываемых типов. В художественном творчестве так же, как в музыкальном произведении, всякая фальшивая нота нарушает гармонию, художественную ценность произведения. Понимал ли это Чертков?
В письме от 31 января 1885 года он писал Толстому:
«Вашего «Кавказского Пленника» я в первый раз прочел теперь. Мне понравился рассказ в высшей степени. Но скажу вам откровенно про одну вещь... На стр. 20 сказано: «Заболел раз татарин, пришли к Жилину: «поди полечи». Жилин ничего не знает, как лечить. Пошел, посмотрел, думает: «Авось поздоровеет сам». Ушел в сарай, взял воды, песку, помешал. При татарах нашептал на воду, дал выпить. Выздоровел на его счастье татарин». Затем еще на стр. 23: «Жилин, желая пойти на гору высмотреть окрестную местность, говорит малому, сторожившему его: «Я далеко не уйду, только на ту гору поднимусь: мне траву нужно найти, ваш народ лечить»...
Если смотреть на Жилина, как на изображение живого человека с его достоинствами и недостатками, то с этой литературной точки зрения приведенные отрицательные черты, пожалуй, придают только больше реальности описываемому типу. Но я смотрю на книгу с точки зрения ее практического влияния на впечатлительного читателя, и я наверное знаю, что эти два места должны вызвать в таких читателях одобрительный смех и, следовательно, давать им еще один толчок в том уже слишком господствующем направлении, которое признает, что несравненно практичнее при достижении своих целей не слишком строго разбирать средства. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы вы мне позволили в лубочном издании пропустить эти несколько строк...
Раз коснувшись этого вопроса, я уже скажу вам... о том, что меня давно мучает в вашем рассказе «Бог правду видит». Когда начальник спрашивает о подкопе и говорит Аксенову: «Старик, ты правдив, скажи мне перед Богом, кто это сделал?». Аксенов отвечает: «Я не видал и не знаю». А между тем он «и видел и знает...».
На это письмо Черткова Толстой отвечает:
«На исключение тех мест, о которых вы писали, я очень радостно согласен и благодарен. Только сделайте сами» (Курсив мой. А. Т.). Как художник, Толстой сам не мог бы внести эти поправки.
Но какое могли иметь значение для Толстого эти мелочи, по сравнению с той
преданностью и жертвенностью, с которыми Чертков относился к его религиозным взглядам. Толстой был одинок. Сочувствие и помощь Черткова наполняли сердце его глубокой благодарностью. Он внимательно и чутко прислушивался к нему:
«Что вы выпускаете из моей последней книги?»* — спрашивал он Черткова в письме от 28 августа 1884 года. И сейчас же, со свойственной ему деликатностью, оговаривается: «Это не праздный и не эгоистический вопрос. Напротив — мне хочется знать, что вам кажется соблазнительным — вовсе не чтобы спорить, а чтобы исключить или смягчить, и главное, в будущем знать, что для других соблазнительно».
Насколько Толстому нужна была поддержка близких, видно из его письма к Черткову от 6 — 7 июня: «Мне очень тяжело вот уже дней 6, но утешение одно — я чувствую, что это временное состояние, мне тяжело, но я не в отчаянии, я знаю, что я найду потерянную нить, что Бог не оставил меня, что я не один, — писал он. — Но вот в такие минуты чувствуешь недостаток близких живых людей — той общины, той церкви, которая есть у Пашковцев, у православных. Как бы мне теперь хорошо было передать мои затруднения на суд людей, верующих в ту же веру, и сделать то, что сказали бы мне они. Есть времена, когда тянешь сам и чувствуешь в себе силы, но есть времена, когда хочется не отдохнуть, а отдаться другим, которым веришь, чтобы они направляли».
Усиленная работа над статьей «Так что же нам делать?», которую Толстой никак не мог закончить, утомила его. Ему захотелось вернуться к художественному творчеству.
«Хочу начать и кончить новое. Либо смерть судьи, либо записки не сумасшедшего», — писал он в дневнике от 27 апреля 1884 года.
Повесть «Смерть Ивана Ильича», или «Смерть судьи» Толстой начал писать еще в 1882 году. На эту тему его навела смерть бывшего члена Тульского окружного суда. Писал он отрывками, бросал, снова возвращался к ней через некоторый промежуток времени и закончил только в марте 1886 года.
Таких чиновничьих семей, как семья судьи Ивана Ильича, многое множество. Живут они как все люди этого класса, делают карьеру, 20-го числа каждого месяца получают жалованье, ходят в свободное время в театр и в гости, болеют, умирают. Судья Иван Ильич умирал. Страдания его были невыносимы, но ужас, который он переживал, происходил не столько от физической боли, сколько от сознания неизбежности смерти. В безвыходном отчаянии кричал и бился Иван Ильич. Жена и сын его страдали вместе с ним от жалости к нему и полного бессилия ему помочь. И так продолжалось три дня.
Но совершенно неожиданно у читателя проявляется новый интерес к этому человеку. В серой, скучной оболочке чиновника вдруг просыпается бессмертная душа человеческая.
«Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умирающий все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал...
...И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их,
* «В чем моя вера?».
надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто», — подумал он. «А боль? — спросил он себя. — Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?» — Он стал прислушиваться.
«Да, вот она. Ну что ж, пускай боль».
«А смерть? Где она?»
Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было.
Вместо смерти был свет.
«Так вот что! — вдруг вслух проговорил он. — Какая радость!..».
За этот период времени, в 1884 — 1886 гг., Толстой написал целый ряд народных рассказов для «Посредника». Темы для рассказов — «Чем люди живы», иллюстрированных Н. Н. Ге, «Два старика», «Три старца» — Толстой получил от олонецкого крестьянина В. П. Щеголенка, с которым познакомился в 1879 году. Некоторые темы были взяты из народных легенд, другие из действительной жизни или просто были придуманы Толстым, как например, «Сказка об Иване-дураке».
Много лет спустя, когда Толстого спрашивали, какие произведения свои он считает лучшими, он отвечал: народные рассказы «Чем люди живы» и «Где любовь, там и Бог».
Во время своей поездки в Крым, куда он сопровождал своего больного друга, князя Л. Д. Урусова, Толстой получил от Черткова рассказ «Дядя Мартын», напечатанный в журнале «Русский рабочий». Толстому он очень понравился и он сейчас же его переработал, изменив со временем название на «Где любовь, там и Бог». Толстой не знал, что рассказ «Дядя Мартын» был написан в 80-х годах французским писателем R. Saillens и был очень огорчен, и тотчас же извинился, когда Saillens в 1888 году обвинил его в плагиате.
В народной литературе Толстого охвачены разнообразные темы: о тщете накопления собственности — «Много ли человеку земли нужно», о вреде пьянства — «Первый винокур», о любви, о Боге, о прощении, но нигде так ярко не выражена философия Толстого, как в сказке об Иване-дураке. Устами дурака Ивана глаголет истина. Иван, не мудрствуя лукаво, живет попросту, по-Божьи, стараясь никого не обидеть и жить в мире со всеми, в то время как брат его Семен-воин старался завоевать мир, но царь индейский оказался сильнее его: «не допустил царь индейский Семенова войска до выстрела, и послал своих баб по воздуху на Семеново войско разрывные бомбы кидать. Стали бабы сверху на Семеново войско, как буру на тараканов, бомбы посыпать; разбежалось все войско Семеново и остался Семен-царь один *. Печальная участь постигла и другого брата, Тараса-брюхана, нажившего себе большое богатство. Разорил его купец. И соблазненные дьяволом, братья запутываются все больше и больше, а Иван-дурак мирно живет в своем царстве дураков таких же, как и он сам. Воевать дураки отказываются, деньги им не нужны. Они работают, кормятся и дают приют всем, кто хочет спокойно жить и работать. Вся сложность человеческой жизни с цивилизацией, войнами, разделением государств, накоплением капиталов — им непонятна. Они дураки и, как дураки, даже не способны осознать всей мудрости и праведности своей философии.
* «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе, и трех чертенятах» была написана в 1885 году, когда аэропланов не было еще и в помине.
Интересно отношение писателя И. С. Аксакова к народным рассказам Толстого. В письме от 5 июля 1885 года Страхов писал Н. Я. Данилевскому о рассказах Толстого «Свечка» и «Два старика»:
«В рассказах, — говорит Иван Сергеевич, — обнаруживается, что Л. Н. стоит к Святой истине в таких чистосердечных, любовных отношениях, тайна которых не подлежит нашему анализу и которые ставят его, автора, вне суда нашего. Очевидно, у него свой конто-курант с Богом»."
Сотрудники «Посредника» работали с воодушевлением. Гаршин вместе с Толстым написал текст к картине Репина «Страдания Господа нашего Иисуса Христа». От этой картины Толстой пришел в восторг.
2 мая 1885 года он писал Черткову;
«Репину, если увидите, скажите, что я всегда любил его, но это лицо Христа связало меня с ним теснее, чем прежде. Я вспомню только это лицо и руку, и слезы навертываются».
Н. Н. Ге написал иллюстрации к «Чем люди живы» и к сказке об Иване-дураке.
Кроме книг Толстого, «Посредник» напечатал книжечку «Греческий учитель Сократ» А. М. Калмыковой, над переделкой которой немало потрудился Толстой; были напечатаны некоторые жития святых и многое другое. Книжечки эти издавались в сотнях тысяч экземпляров и распространялись по всей России.
Положение крестьянства, его бедность, недостаток земли всегда удручали Толстого. Недостаточно было поднять культурность народа, давши ему образование, — надо было улучшить его материальное положение. Но как это сделать?
И вот Толстой прочитал книгу «Прогресс и бедность» американского экономиста Генри Джорджа, разрешающего этот вопрос путем национализации всей земельной собственности и установления единого государственного налога на землю, взимающегося соразмерно ее стоимости. Теория Джорджа заинтересовала его. Она давала прямой, логический ответ и разрешение вопроса несправедливости владения крупной земельной собственностью богатыми в ущерб трудовому крестьянству.
«Был поглощен Джорджем и последней и первой его книгой «Progress and Poverty», [«Прогресс и бедность»] — писал он Черткову 24 февраля 1885 года, — которая произвела на меня очень сильное и радостное впечатление».
В том же 1885 году Толстой получил рукописную статью крестьянина Т. М. Бондарева: «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца». Взгляды Бондарева совпадали с отношением Толстого к крестьянскому труду. В предисловии, написанном в мае 1886 года, Толстой излагает взгляды Бондарева на труд, те же взгляды, которые он так просто и ярко выразил в сказке об Иване-дураке: «В поте лица снеси хлеб твой».
«Хлебный труд, говорит Бондарев, есть лекарство, спасающее человечество. Признай люди этот первородный закон законом божеским и неизменным, признай каждый своей неотмененной обязанностью хлебный труд, то есть то, чтобы самому кормиться своими трудами, и люди все соединятся в вере в одного Бога, в любви к друг другу, и уничтожатся бедствия, удручающие людей. Все будут работать и есть хлеб своих трудов, и хлеб и предметы первой необходимости не будут предметами купли и продажи».
Бондарев поражал Толстого своим незаурядным умом и твердостью и ясностью мышления. «Знаете, что я вам скажу? — говорил Л. Н. Толстой
А. С. Пругавину. — Двум русским мужикам, простым, чуть грамотным мужикам, я обязан более, чем всем ученым писателям всего мира».3
Толстой имел в виду Сютаева и Бондарева.
Толстому хотелось напечатать статью Бондарева, но по цензурным соображениям сделать это было очень трудно. Правительство принимало все более и более строгие меры по отношению к распространению вольных сочинений Толстого и его последователей. Правительство беспокоилось, что круг единомышленников Толстого увеличивается. Люди отходили от православной церкви, не подчинялись требованиям правительства.
В 1884 году Толстому писал молодой человек Залюбовский, задумавший отказаться от военной службы по религиозным мотивам. Толстой решил не отвечать Залюбовскому. не считая возможным влиять на молодого человека в таком серьезном вопросе. Тем не менее Залюбовский отказался взять в руки оружие. Его арестовали, заключили в тюрьму и приговорили к отбыванию наказания на два года в дисциплинарном батальоне.
«Обвиняемый, считая себя христианином, — писал Толстому А. П. Залюбовский, — старается жить по Евангелию Христа, которое основано на следующих пяти заповедях: 1) не гневаться на брата, 2) не разводиться с женою, 3) не противиться злу, 4) не клясться вовсе и 5) любить врагов. На основании этих пяти заповедей он отказывается от принятия присяги, употребления оружия и участия в военных действиях».... «То, что ваш брат сделал и делает, это великое дело, которое может совершить человек в жизни. Не знаю, как бы я выдержал, но я ничего так не желал бы для себя и для своих детей», — писал Толстой брату Залюбовского.
Обращаясь к петербургскому художественному критику В. В. Стасову с просьбой сделать для Залюбовского все возможное, Толстой писал ему: «Дело, о котором прошу, огромной важности, никогда ничто не было мне близко к сердцу и важно».
Толстой искал подтверждения своего вероучения не только в России. Его интересовали взгляды людей других стран и он обрадовался, получив письмо от сына William-a Lloyd Garrison-a, защитника негров в Америке, исповедующего, так же как и он, теорию непротивления злу насилием.
18 января 1886 года семью Толстых постигло новое горе. Умер младший сын Алеша, от горловой болезни, доктор определил, что это ангина. Алеша задыхался, горел от страшного жара и через 36 часов умер.
Точно мрачная туча нависла над семьей Толстых. Маленького 4-летнего Алешу любили все, только двухлетняя Саша ничего не понимала, смеялась и, как всегда, радовалась жизни.
Софья Андреевна, не отходившая от Алешиной постели, рассказывала, что перед самым концом Алеша вдруг широко открыл свои большие, серые, с большими ресницами глаза: «Вижу, вижу...», сказал он, и так и умер с выражением удивления и восторга на личике. Для обоих родителей эта смерть была тяжелым ударом. 18 января 1886 года Толстой писал Черткову: «... Об этом говорить нельзя. Я знаю только, что смерть ребенка, казавшаяся мне прежде непонятной и жестокой, мне теперь кажется и разумной и благой. Мы все соединились этой смертью еще любовнее и теснее, чем прежде».
Но для матери смерть ребенка была бессмысленной жестокостью. Она долго не могла справиться с своим горем и в постоянной напряженной работе по
хозяйству, в занятиях по продаже книг старалась отвлечься от мучивших ее мыслей. Только он один, Левочка, мог понять, пожалеть, но она чувствовала, что он отходит от нее все дальше и дальше.
«Все в доме, особенно Лев Николаевич, а за ним, как стадо баранов, все дети, навязывают мне роль бича, — писала она в дневнике от 25 октября 1886 года. — Свалив всю тяжесть и ответственность детей, хозяйства, всех денежных дел, воспитанья, всего хозяйства и всего матерьяльного, пользуясь всем этим больше, чем я сама, одетые в добродетель, приходят ко мне с казенным, холодным, уже вперед взятым на себя видом, просить лошадь для мужика, денег, муки и т. п. Я не занимаюсь хозяйством сельским — у меня не хватает ни времени, ни уменья — я не могу распоряжаться, не зная, нужны ли лошади в хозяйстве в данный момент, и эти казенные спросы с незнанием положения дел, меня смущают и сердят».
В июле Толстой, навивая на воз сено, зашиб ногу. Думали, что болезнь несерьезная, но нога сильно разболелась, поднялась температура, у Толстого оказалось рожистое воспаление и он больше двух месяцев пролежал в постели.
«Последние два месяца — болезнь Льва Николаевича — было, — писала Софья Андреевна в дневнике от того же числа, — последнее мое (странно сказать), с одной стороны, мучительное, а с другой — счастливое время. Я день и ночь ходила за ним; у меня было такое счастливое, несомненное дело — единственное, которое я могу делать хорошо — это личное самоотвержение для человека, которого любишь. Чем мне было труднее, тем я была счастливее. Теперь он ходит, он почти здоров. Он дал мне почувствовать, что я не нужна ему больше, и вот я опять отброшена, как ненужная вещь, от которой одной ждут и требуют, как и всегда это было в жизни и в семье, того неопределенного, непосильного отречения от собственности, от убеждений, от образования и благосостояния детей, которого не в состоянии исполнить не только я, хотя и не лишенная энергии женщина, но и тысячи людей, даже убежденных в истинности этих убеждений».5
В конце того же года скончалась мать Софьи Андреевны — Любовь Александровна Берс. Но смерть старушки-матери, с которой Софья Андреевна редко виделась, прошла для нее менее болезненно, чем все то, что происходило в ее собственной семье.
Жизнь семьи Толстых раздвоилась. Обе его дочери тянулись к отцу. Софья Андреевна, сыновья — жили своими интересами. Взгляды Толстого, новые друзья тяготили их. Но дочери были еще молоды и не могли всецело отдаться взглядам отца и проводить их в жизнь. Тане было трудно. Она любила обоих родителей и часто мирила их. Светская жизнь нравилась Тане. Ей было легко и весело с воспитанными, образованными людьми ее круга. Она любила и понимала искусство, любила красоту, хорошую мебель в комнатах, хорошо сшитые платья, дорогие вещи. Она любила веселье и вносила его с собой всюду, где бы она ни появлялась. Вокруг нее всегда крутилась молодежь, молодые люди ухаживали за ней и она тонко, почти бессознательно, кокетничала с ними.
Отец восхищался ею, сурово косился на ее поклонников, боясь как бы кто-нибудь из них не позволил себе вольным словом, взглядом загрязнить ее кристальную чистоту.
Маша вырастала в некрасивую, тонкую девушку с серьезными, вдумчивыми глазами. Одевалась она очень просто, старалась гладко зачесывать вьющиеся
непокорные волосы, туго закручивая их в крутой пучок на затылке. С матерью у нее не было близких отношений. Она обожала отца и жадно впитывала в себя его слова. Она росла, взрослела, развивалась под влиянием его взглядов. Со свойственной ей чуткостью она угадывала его желания, его мысли. Незаметная, скромная, она постепенно сделалась необходимой отцу, сначала выполняя самые простые его поручения: легкими, неслышными шагами носилась то за стаканом воды, то за книгой, позднее она, вместе с Таней, переписывала его рукописи. И чем труднее было поручение, тем охотнее оно выполнялось Машей.
Отцовские гости, стеснявшиеся своих засаленных, пахнущих кожей полушубков, грязных валенок или сапог, чувствовали себя лучше, когда встречали скромно одетую, с приветливыми, ласковыми глазами молодую девушку, провожавшую их в отцовский кабинет.
Большей частью это были крестьяне и рабочие, интересовавшиеся взглядами Толстого на религию, земельную собственность, на организацию христианских земледельческих общин. Иногда Толстой читал им свои новые статьи, рассказы или произведения других авторов, обсуждался вопрос о пригодности тех или иных произведений для народного чтения.
Софья Андреевна не любила толстовцев. Кто-то из семейных, не то тетя Таня, не то тетя Соня, прозвали их «темными». Название это привилось.
«Кто у графа сидит?» — спрашивала иногда Софья Андреевна у лакея.
«Не могу знать, ваше сиятельство, — отвечал лакей, — темный какой-то».
Служащие тоже не любили «темных». На чай никогда не давали, грязи от них много, паркетные полы сапожищами пачкали, воняли дегтем и непременно все лезли к самому графу в кабинет.
Графинины гости — совсем другое дело: чистые, холеные, приезжали на своих лошадях, иногда с лакеями, а некоторые хорошо на чай давали. И постепенно круг знакомых раздвоился на светлых и темных, и только некоторые из «темных» — Бирюков, Чертков, М. А. Шмидт, дедушка Ге — вошли в семью Толстых на положении друзей дома.
Большинство великосветских знакомых не соприкасались с «темными», но было несколько семей, преклонявшихся перед его «литературным гением», которые «прощали» Толстому его заблуждения, снисходительно-ласково относились к «темным» и любили бывать у Толстых. К таким принадлежали семья графов Олсуфьевых и семья Стаховичей.
Олсуфьевы были исключительно образованные и культурные люди. Таня дружила с Лизой Олсуфьевой и двумя ее братьями, Мишей и Митей. Среди молодежи считалось, что Таня Толстая влюблена в старшего брата Мишу, в то время как другой брат, Митя, был влюблен в Таню. Все любили добродушного, милого старого графа, но Толстой особенно дружил с графиней Анной Михайловной, необыкновенно чуткой, умной женщиной, тонко понимавшей Толстого, хотя и не разделявшей его религиозных взглядов. В семье Олсуфьевых Толстой отдыхал и иногда, желая уйти от иногочисленных посетителей и семейной обстановки, забравши с собой Таню, он уезжал к ним в деревню и подолгу гостил у них.
Вторая семья, дружившая с Толстыми, была семья Стаховичей. Это были богатые, образованные и блестящие люди. Двое из них особенно привязались к Толстым: Зося Стахович боготворила Толстого как художника, знала наизусть целые главы из «Войны и мира». Независимая, гордая красавица с строгими, классическими чертами лица, на год старше Тани, Зося имела еще больше
поклонников, чем Таня, но на всех молодых людей смотрела сверху вниз и считалась холодной и неприступной.
Михаил Александрович Стахович — Миша — неделями живал в Ясной Поляне. Это был настоящий барин. Он прекрасно одевался, следил за своей красивой внешностью, сорил деньгами направо и налево и давал на чай лакеям не серебром, а золотом. Одно время Миша подпал под влияние Толстого, ходил вместе с ним на работу к крестьянам, косил, убирал сено, пахал, но влияние это было неглубокое. Миша Стахович был влюблен в Таню и старался заслужить ее любовь своим «опрощением». Софья Андреевна любила Мишу и втайне надеялась, что Таня выйдет за него замуж — это была «хорошая партия».
По-видимому, отец — Александр Александрович Стахович — с детства привил своим детям любовь к литературе. Он был не только большим ее знатоком, но был и превосходным чтецом. Толстой заслушивался, когда Александр Александрович читал вслух Островского, Гоголя. Иногда, вечерами, в яснополянской зале семья и гости собирались вокруг круглого стола красного дерева, Софья Андреевна штопала детские чулки или вязала своим многочисленным детям шерстяные одеяла, младшие мотали для матери клубки мягкой, пушистой шерсти. Таня углем зарисовывала чей-нибудь портрет, а Стахович читал.
Толстой наслаждался больше всех. Он особенно любил: «Бедность не порок» и «Не так живи как хочется». Толстой мечтал издать пьесы Островского в «Посреднике» и незадолго до его смерти обратился к нему, прося разрешения напечатать его драматические произведения в народном издании, но не успел получить ответа. Островский умер.
Осенью 1886 года Стахович читал в Ясной Поляне «Не так живи как хочется». Когда через три недели после этого чтения он снова приехал в Ясную Поляну, Толстой сказал ему: «Как я рад, что вы приехали! Вашим чтением вы
расшевелили меня. После вас я написал драму... Или я давно ничего не писал для театра или действительно вышло чудо, чудо!».1
В конце августа Толстой получил письмо от директора народного театра «Скоморох» с просьбой поддержать театр. Может быть, это было одной из причин, побудивших Толстого начать писание «Власти тьмы», а чтение Островского послужило новым толчком, побудившим его взяться за перо. Возможно, что лежа в постели во время длительной болезни ноги, он усиленно думал и, перебирая многочисленные темы, всегда громоздившиеся в его голове, он случайно набрел на тему, содержание которой еще в 1880 году сообщил ему прокурор Тульского окружного суда, Николай Васильевич Давыдов.
Почему именно этот рассказ произвел такое впечатление на Толстого? Мало ли злодеяний, преступлений, убийств совершаются в мире. Толстого задело за живое и потрясло то, что, совершив ряд преступлений, задушив ребенка, которого прижила от него его падчерица, молодой, красивый парень, крестьянин Колосков, не побоялся всенародно покаяться в своих злодеяниях.
«Сырая, скучная осень, — писала Софья Андреевна Толстая в октябре 1886 года. — Андрюша и Миша катались на коньках на нижнем пруду. У Тани и Маши зубы болят. Лев Николаевич затевает писать драму из крестьянского быта»2.
26 октября С. А. снова записывает в дневнике: «Левочка написал первое действие драмы. Я буду переписывать. Отчего я перестала слепо верить в его даже авторскую силу?».3
30 октября Софья Андреевна переписала второе действие драмы, а меньше чем через месяц «Власть тьмы» уже была вчерне написана. Оставалась только работа по отделке, уточнению некоторых народных выражений, переделка некоторых сцен и действий.
В конце ноября «Власть тьмы» была отдана на просмотр в цензуру.
Не успело новое произведение выйти из-под пера Толстого, как слух о нем распространился в Москве и Петербурге. Знаменитая артистка Александрийского театра, Савина, написала Толстому, прося его предоставить театру право первой постановки «Власти тьмы» для ее бенефиса.
Но «Власть тьмы» запретили не только к постановке, но и для печати.
Софья Андреевна взволновалась и написала начальнику Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистову письмо с просьбой разрешить драму, на что Феоктистов ответил, что: «Пьеса должна произвести самое удручающее впечатление на публику: в ней изображается целый ряд прелюбодеяний и убийств», что пьеса ужасна по своему цинизму и т. д. По мнению Главного управляющего по делам печати и цензуры, драма не может быть допущена к печати «в виду ее скабрезности и отсутствия всякой литературности».
Между тем, А. А. Стахович, который был в полном восторге от «Власти тьмы», читал ее в высших придворных кругах Петербурга и 27 января 1887 года прочел «Власть тьмы» в доме графа Воронцова-Дашкова, министра двора императора Александра III. Государь, великие княгини и ряд придворных присутствовали при этом чтении. Вот как описывает это событие А. А. Стахович:
«Сильное впечатление произвел 4-й акт; видно было, что он захватил всех, что выразилось в антрактах в разнообразных, но общих похвалах. После конца 5-го действия все долго молчали, пока не раздался голос Государя: «Чудесная вещь».
И эти два слова разверзли уста всем. Пошли толки: о задушевном признании Никиты, святой радости Акима, любви глухой Акулины к Никите, желавшей, чтобы спасти его, взять на себя его преступление... Восторженные возгласы: чудо, чудо, раздавались со всех сторон».4
Вскоре после этого Александрийский театр приступил к постановке драмы. Было проведено 17 репетиций, из театра ездили в Ясную Поляну для изучения крестьянской обстановки — изб, одежды, быта.
Одновременно с этим, в начале февраля, «Власть тьмы» вышла в полном собрании сочинений в издании С. А. Толстой и в книгоиздательстве «Посредник», сначала в двенадцати тысячах экземпляров, затем в двадцати, и, наконец, в сорока тысячах экземпляров по цене три копейки за книжку.
Но Александрийскому театру не суждено было поставить «Власть тьмы*. Узнав о лестном отзыве государя о драме и о его желании, чтобы пьеса ставилась в Александринке, Феоктистов написал возмущенное письмо Победоносцеву, послав ему пьесу Толстого для прочтения.
Всесильный прокурор Синода рассвирепел и написал государю письмо с просьбой снять «Власть тьмы» со сцены Александрийского театра.
«День, в который драма Толстого будет представлена на императорских театрах, будет днем решительного падения нашей сцены», — писал Победоносцев.
Государь не решился идти против прокурора Синода и согласился, «что эту драму на сцене давать невозможно, она слишком реальна и ужасна по сюжету».
И пьесу запретили.
Начиная с 1888 года, «Власть тьмы» шла в разных театрах Европы: во Франции, Швейцарии, Италии... Россия же была лишена возможности видеть на сцене произведение одного из величайших своих писателей, несмотря на то, что сам государь назвал его «чудесной вещью»!
«Власть тьмы» была разрешена к постановке только в 1895 году, уже в царствование Николая П.
Нет ничего удивительного, что цензура с трудом пропустила драму Толстого. Во «Власти тьмы» с невероятной силой выступает нелепость всякого человеческого наказания. Какое значение имеют урядники, тюрьмы, каторга по сравнению с карой Божьей, с мучениями совести. Стоит с обнаженной душой раскаявшийся грешник перед Господом. Все, что мучило его годами, все тяжкие грехи свои раскрыл он перед Богом и людьми. Больше скрывать нечего и бояться больше нечего. Самое страшное позади.
Босой, растрепанный стоит человек на коленях перед народом и у всех по очереди просит прощения за свои окаянства.
«Берите его!» — кричит урядник. — «А старосту пошлите, да понятых, надо акт составить»...
Но отец Никиты, старик Аким, отстраняет урядника как ненужное, постороннее тело, мешающее главному, основному...
«А ты, значит, тае, светлые пуговицы, тае, значит погоди... Божье дело идет... кается человек, значит»...
Но Божье дело мало интересует урядника. Ему надо показать свою власть, наказать преступника.
«Старосту!» — повелевает он громовым голосом.
«Дай Божье дело отойдет, — молит его Аким.- — Говори, дитятко, все говори... Легче будет!»
Старик счастлив. Он знает, что сын его теперь уже на праведном пути: «Кайся Богу, не бойся людей. Бог-то, Бог-то, он во...».
20 июня 1887 года Толстой писал Черткову: «Самое лучшее положение для души — это не то, чтобы не быть виноватым, а чувствовать себя виноватым».
И это были не слова. Он, действительно, чувствовал себя виноватым и перед женой, и перед мужиком, которого он встречал на прогулке и который жаловался ему на свою бедность, и перед детьми, и перед толстовцами.
Особенно тяжело ему было с женой, он ничего не мог изменить и невольно заставлял ее страдать. В 1887 году Софье Андреевне шел 43-й год. Она была очень моложава. Цвету лица ее. не знавшему ни румян, ни белил, ни даже пудры, позавидовала бы любая красавица. На гладком, бело-розовом лице ее не было ни единой морщинки. От частого рождения детей она вся расширела, пополнела. Во всей фигуре ее, в разговоре, в том, как она подносила торнет к близоруким глазам, была спокойная уверенность. Быстрые движения, легкая походка не гармонировали с ее широкой фигурой. Она не носила ни пенсне, ни очков, чтобы не портить своей наружности, но из-за близорукости часто не улавливала выражения лица своего собеседника, перемигивания детей, замышлявших какую-нибудь шалость, нахмуренного лица Лёвочки, и по той же близорукости не узнавала иногда людей, смешивала одних с другими и казалась бестактной.
Самого Толстого никак нельзя было назвать старым. Хотя ему шел уже 60-й год, он был здоров и силен.
Софья Андреевна любила говорить о своей молодости и его старости, но на самом деле это были только слова — она этого не чувствовала. Если бы он не мучил ее своими странными убеждениями, она любила бы все так же — этого необыкновенного, гениального, некрасивого, беззубого человека. Она родила 12 человек детей и ждала 13-го. Всех, кроме Саши, она выкормила своей грудью и они — восемь, оставшихся в живых — и малые и большие, составляли главную заботу ее жизни.
На ней лежали теперь все хлопоты по изданию его сочинений, составлявших главный доход семьи, она постоянно беспокоилась, что не так поведет дела, что они разорятся, а разорение и бедность казались ей страшнее всего на свете. Ее раздражало, что Лёвочка этого именно и хотел. Он хотел, чтобы они все опростились и шли работать и чтобы дети перестали учиться. Что сделалось с Лёвочкой-писателем, барином, охотником? Этого, ее «настоящего» Лёвочку узурпировали какие-то «темные» люди, с Чертковым во главе, которые предъявляли к нему требования, вылепливали из него чуждый ей образ учителя, проповедующего самоотречение, любовь к ближнему, всяческое воздержание и отречение от собственности. И этот учитель отрицал православную церковь, обличал правительство, которое она привыкла уважать еще с детства, когда отец ее был дворцовым доктором в Кремле. Этот учитель осуждал и курение, и питье вина, и мясоедение, и всякие невинные развлечения детей: танцы, спектакли и хорошую одежду. Он дошел до того, что проповедовал полное целомудрие — и она, жена, почему-то сделалась его грехом и соблазном.
«В Ясную Поляну я перееду не раньше 20 мая, — писала Софья Андреевна мужу из Москвы в ночь на И апреля 1887 года. — Перспектива делить свою жизнь с Фейнерманом так тяжела, что хоть совсем не переезжать».1
Фейнерман был еврей и один из тех «темных», которых Софья Андреевна особенно не взлюбила. В то время он жил в Ясной Поляне. Несмотря на то, что он крестился с целью сделаться сельским учителем, администрация его не утвердила в этой должности. Но как истинный последователь Толстого, Фейнерман все же решил опроститься н наняться в пастухи к крестьянину за 80 рублей в лето. Толстой сообщил Софье Андреевне о намерении Фейнермана в письме к ней и добавил, что очень завидует тому, что Фейнерман будет пасти скотину.
«Фейнерману нечего завидовать, — отвечала ему Софья Андреевна в письме от 13 апреля. — То, что ты на свете делаешь, того никакие Фейнерманы не сделают. А он ни на что не годен, и пастух будет плохой. Эти люди работать по-настоящему не умеют! Они делают то, что им легче всего, что собственно не работа».'
В другом письме о «темных» Софья Андреевна пишет: «...Куда всей этой дряни (темным) деваться, к тебе их и гонят. Порядочные люди все или при деле, или при семьях живут. Ты опять скажешь, что я сержусь, а я не сержусь, но у меня, к несчастью моему, грубо здравый взгляд на людей, и я не могу не видеть, как ты, то, что есть. У тебя в голове и воображении типы, а не люди. И ты людей, дополняя недостатки и отбрасывая неподходящее — всех подводишь под эти типы, одухотворяя и идеализируя их».'
Софья Андреевна не любила, когда Толстой с дочерьми уезжал в Ясную Поляну, она немножко ревновала его к дочерям, которые теперь почти всегда переписывали его рукописи. Она волновалась о его здоровьи, считая, что никто не умеет лучше его накормить, присмотреть за ним, чем она. Все чаще и чаще с ним случались припадки, вероятно, прохождение камней в желчном пузыре. Боли были настолько сильные, что он весь покрывался холодным потом, громко стонал, а один раз Софья Андреевна нашла его в зале — он катался по полу, таская за собой тяжелый стул и буквально рыча от боли...
Для того, чтобы успокоить жену, Толстой иногда приглашал с деревни повара, бывшего крепостного Николая Михайловича, но старик был уже слабый и хворый и чаще всего Толстые — отец с дочерьми и с приезжими гостями, делали все сами: готовили, убирали, мыли посуду.
В апреле 1887 года в Ясную Поляну приехал профессор Пражского университета Масарик. Толстого еще в Москве познакомил с ним профессор философии при Московском университете Н. Я. Грот, и за свое пребывание в России Масарик несколько раз посетил Толстого.
В письме от 29 апреля Толстой писал жене: «Два дня у меня гостит Масарик. Мне с ним очень приятно было». И в конце того же письма добавляет: «Ходил с Масариком на Козловку. Получил твои два хорошие письма. Так радостно, когда чувствую, что у тебя хорошо на душе, и что все было весело. Масарик ставит самовар и раздувает очень хорошо, и думает и понимает также».
3 мая Толстой опять пишет: «Погода нынче из всех дней: гроза, жара, соловьи, фиалки, наполовину зеленый лес — так весело, хорошо в Божьем мире. Вчера я половину дня пахал. Устал порядочно, но самое хорошее состояние, и было очень хорошо. Пашу я не один, с Константином. Он работает на моей лошади Копыловым*, а вчера мы вдвоем. Нынче работал над своим писанием. Не думай, чтобы мне было неудобно и дурно, — превосходно. Только вас недостает».
По утрам он писал, а после обеда работал на дворе или в поле: пахал, пилил деревья, носил. По субботам топили баню. Это была простая, крытая соломой, бревенчатая изба около пруда. Вода в чугуны и бочки натаскивалась ведрами, пол настилался чистой, пахнущей ржаным хлебом соломой, на раскаленный пол плескалась ведрами вода и, шипя, обращалась в тяжелый, густой пар. Люди часами потели, мылись, опять потели, иногда, зимой, изнемогая от жары, выскакивали на мороз, катались в снегу и опять парились. Баня была отдохновением, удовольствием и необходимостью. Не все, даже зажиточные русские семьи, имели в домах ванны. В Ясной Поляне Софья Андреевна настояла на том, чтобы была устроена ванна, но проведенной воды не было, так же как и в Москве, и каждый раз как кто-нибудь из семьи принимал ванну, дворник должен был привозить бочками воду за полторы версты и наливать бак ведрами.
Почти весь 1887 год Толстой писал свою статью «О жизни и смерти», которую он, после нескольких месяцев работы, озаглавил просто «О жизни» — смерти нет, душа человеческая бессмертна.
Статья «О жизни» диаметрально противоположна материалистически-атеистическому учению. Единственный смысл жизни, — говорит Толстой, — это жизнь не телесная, а духовная. Когда в человеке просыпается «разумное сознание», «продолжать личное существование» и жить только стремлением к личному благу — невозможно. «Происходит нечто подобное тому, — писал Толстой, — что происходит в вещественном мире при всяком рождении. Плод родится не потому, что он хочет родиться, ... и что он знает, что хорошо родиться, а потому, что он созрел и ему нельзя продолжать прежнее существование; он должен отдаться новой жизни не столько потому, что новая жизнь зовет его, сколько потому, что уничтожена возможность прежнего существования. Разумное сознание, незаметно вырастая в его личности, дорастает до того, что жизнь в личности становится невозможной.
* Анисья Копылова — бедная яснополянская вдова.
Происходит совершенно то же, что происходит при зарождении всего. То же уничтожение зерна, прежней формы жизни и проявление нового ростка; та же кажущаяся борьба прежней формы разлагающегося зерна и увеличение ростка, — и то же питание ростка на счет разлагающегося зерна*.
Жизнь, смысл жизни только в отречении от своей телесной личности, в служении, любви к людям.
«Истинная любовь всегда имеет в основе своей отречение от блага личности и возникающее от того благоволение ко всем людям... И только такая любовь дает истинное благо жизни и разрешает кажущееся противоречие животного и разумного сознания».
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь.»
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
И Толстой добавляет: «Любовь истинная есть сама жизнь... Жив только тот, кто любит».
Статья «О жизни» мало кому известна, а между тем она может быть более, чем другие произведения Толстого, дает понятие о том, что произошло с ним самим: проросло зерно и личная жизнь перестала иметь для него значение. Главный смысл жизни теперь заключался в этом все большем и большем росте его духовного сознания.
Поняла ли по существу Софья Андреевна статью «О жизни»? Но в ней Лёвочка, слава Богу, не ругал правительство и церковь, и статья понравилась Софье Андреевне. Она не только переписывала ее для своего мужа, но даже вызвалась перевести статью на французский язык, чему он очень обрадовался.
Корректуру статьи «О жизни» Толстой поручил профессору Гроту. Грот был очень рад этому. Он был за последнее время одним из постоянных посетителей Толстого. Беседы с Гротом, Н. Н. Страховым были ценны Толстому. Споры и разногласия чаще укрепляют собственные мысли, чем убеждают собеседника. Н. Н. Страхов, профессор Грот были ученые философы, теоретики. Рассуждения их были чисто отвлеченными. Толстому же хотелось немедленно, поскольку он мог, провести свои взгляды в жизнь, отдать себя на служение Богу и людям.
Он видел жизнь людей богатых, с многочисленными слугами, людей, с утра до ночи объедающихся жирной, обильной пищей, пьющих, кутящих. С другой стороны он видел ужасающую нищету деревни, больных, вдов, которым некому было вспахать их полоску земли, крестьян безлошадных, без коров, с кучей босоногих, белоголовых ребят, выросших на картошке и кислой капусте, без молока, со вздутыми животами и тоненькими ножками.
Он наблюдал, как в городах рабочие, а в деревнях крестьяне с отчаяния пропивали последние гроши. Он видел замученных работой и недоеданием женщин, цепляющихся за свой скарб, который мужья тащили к кабатчику.
«Трезвому совестно то, что не совестно пьяному, — писал Толстой в своей статье «Для чего люди одурманиваются».
Он наблюдал, как в подполье зарождалась и крепла новая, страшная сила воинствующего безбожия, атеизма, социалистов-революционеров, марксистов, людей, обещавших новую, свободную жизнь народу. Для Толстого сила эта, отрицавшая духовное начало, была гораздо страшнее, чем царское правительство. Он видел, что так называемым интеллигентам нечего было противопоставить этой силе. У них не было даже знанья массы русского народа.
Толстой искал путей, как помочь людям.
В своей статье «Праздник просвещения»* Толстой резко нападает на так называемую «интеллигенцию»: «Мужик всякий считает себя виноватым, если он пьян, — писал Толстой, — и просит у всех прощения за свое пьянство. Несмотря на временное падение, в нем живо сознание хорошего и дурного». Но интеллигенты, смотрящие сверху вниз на «народ», почему-то считают себя вправе смотреть на мужика, как на «низшее существо». Это, мол, «дикий народ», от них нельзя ожидать ничего лучшего. Как же они, эти образованные, празднуют свой университетский праздник просвещения — Татьянин день?
«...Люди, — пишет Толстой, — стоящие, по своему мнению, на высшей ступени человеческого образования, не умеют ничем иным ознаменовать праздник просвещения, как только тем, что в продолжение нескольких часов сряду есть, пить, курить и кричать всякую бессмыслицу; ужасно то, что старые люди, руководители молодых людей, содействуют отравлению их алкоголем, — такому отравлению, которое подобно отравлению ртутью, никогда не проходит совершенно и оставляет следы на всю жизнь (сотни и сотни молодых людей в первый раз мертвецки напились и навеки испортились и развратились на этом празднике просвещения, поощряемые своими учителями); но ужаснее всего то, что люди, делающие все это, до такой степени затуманили себя самомнением, что уже не могут различать хорошее от дурного, нравственное от безнравственного».
Отвыкнув курить, Толстой почувствовал большое облегчение, как он выразился «очищение», и ему захотелось помочь людям освободиться от грехов пьянства и курения. Он написал по этому поводу целый ряд статей — «Для чего люди одурманиваются» он закончил летом 1890 г. — и решился создать общество «Согласия против пьянства». Общество постепенно увеличивалось и к 1890 году имело уже 741 членов. Вероятно. Толстой зарегистрировал бы это общество, если это не было бы связано с большими трудностями формального характера.
В одном из писем к Черткову в феврале 1889 г. Толстой чертит прямую линию — кратчайшее расстояние от сознания человека к совершенству, но человек иначе и ходить не может, как так, — пишет Толстой.
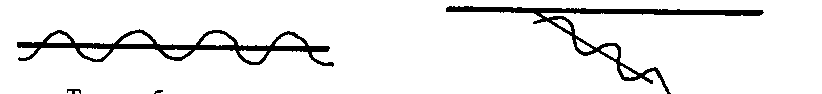
Только бы он не ходил так:
...Хочу идти прямо, и грешу, является и грех, который я таким и знаю, в котором каюсь, но не делаю сделки, обмана перед Богом. А обман этот много хуже греха — это хула на Святого Духа».
Уже тогда, в конце 80-х и начале 90-х годов, Толстой чувствовал, что так называемое просвещенное человечество потеряло правильное направление. Смелее, громче раздавались голоса безбожников, социалистов, все равнодушнее становилось отношение людей образованных к вопросам религии. Вся же многомиллионная масса русского крестьянства продолжала жить, руководясь старыми, пусть примитивными, но какими-то своими религиозными традициями. Толстой это видел. Недаром он взывал ко всем писателям, чтобы они дали свой труд на просвещение русского народа, жаждущего этого самого просвещения, как «голодные галчата».
* 12 января, в день св. Татьяны, Московский университет праздновал ежегодно день своего основания.
Из мыслей этих и зародилась статья Толстого «Что такое искусство», которую он тогда же начал обдумывать.
Большинство русской интеллигенции было оторвано от народа, не знало и не понимале его. И твердого, духовного руководства народу дать не могло.
«Просвещение, — заканчивает свою статью Толстой, — не основанное на нравственной Жизни, не было и никогда не будет просвещением, а будет всегда только затемнением и развращением».
Люди, ищущие интересов духовных, невольно тянулись к Толстому. Переписка Толстого со всем миром — росла, увеличивалось количество посетителей, как с разных концов России, так и из-за границы. Но и помимо случайных посетителей, в Ясной Поляне было пропасть народа. Во флигель каждое лето приезжала многочисленная семья Кузминских. Две старшие дочери — биг Маша, как ее звали в отличие от литль Маши Толстой, была немного моложе Тани, а Вера — помоложе Маши Толстой — и три мальчика: Миша, Саня и Вася — вносили в жизнь молодежи большое оживление.
Жизнь детей Толстых и Кузминских, двух матерей — тети Сони и тети Тани — гувернанток, нянек, почти не разделялась. Вместе ездили купаться на реку Воронку, ходили за грибами, учились, устраивали детские концерты, ездили верхом, играли в крокет. Веселились, ссорились, дрались, и когда подходила осень и расставались на всю зиму, Толстые уезжали в Москву, Кузминские в Петербург — неизменно плакали и сокрушались, что лето так скоро кончилось.
Целый ряд друзей как бы вросли в Ясную Поляну, стали своими. С годами дедушка Ге и сын его Колечка стали совсем своими. Дедушку нельзя было не любить, такой он был простой, милый. Все, что он делал, он делал легко и просто, радуясь жизни, никого не уча и никого, начиная с самого себя и своих детей, не насилуя. Дедушка никогда не говорил, что он отказался от собственности, ходил в поношенном пиджачке, старался жить по учению Христа, любил Христа, именно любил, изображал Христа так, как понимал Его, не как Бога, а как величайшего Учителя мира, сиял радостью и добротой, и всем видом своим доказывал, что гораздо легче и радостнее быть добрым и хорошим, чем злым и плохим.
Дедушка не выносил притворства, ходульности, высокопарных слов, немножко косился на Черткова за его морализирование и нисколько не стеснялся своих слабостей. Он любил сладенькое и часто приходил к Софье Андреевне: «Маменька, — обращался он к ней своим мягким южным говором, — нет ли у вас чего-нибудь вкусненького?» И маменька шла в свою комнату, откидывала дверцу старинной, красного дерева шифоньерки, где хранились конфекты, и угощала дедушку.
Сын его, Колечка Ге, был такой же ласковый, жизнерадостный и чудесно смеялся. Когда Колечка смеялся — смеялись все, так это было заразительно. Сергей Толстой любил придумывать каламбуры и рассказывать анекдоты. Колечка слушал серьезно и, по мере рассказа, кожа на лице его, как гармоника, собиралась, особенно на лбу, в глубокие складки, и вдруг гармоника распускалась и Колечка начинал беззвучно трястись всем телом, смеялся иногда до слез, до изнеможения. Если при этом присутствовали дети, то все, не поняв по существу анекдота, особенно Саша, которая рада была придраться ко всякому случаю, чтобы похохотать, заливались смехом.
Черткова в семье Толстых побаивались. Несмотря на то, что старшие мальчики Толстые были с ним на ты, Чертков стеснял их, и они его избегали. Чертков был не виноват в этом. Он очень старался подойти к ним по-дружески, но ему это не удавалось. Его нельзя было назвать неискренним. Он жертвенно служил Толстому, искренно исповедывал его учение, много работал в «Посреднике» и над редактированием и печатанием произведений Толстого, которые он начал издавать за границей, главным образом в Англии. Несмотря на это, было в нем что-то, что стесняло людей. Может быть, это была его аристократичность в манере, во всей его громадной барской фигуре, его красивом лице, его англезиро-ванном произношении, которое так не вязалось с его опрощением, может быть, это было его желание поучать. Может быть, молодежь чувствовала в нем какой-то надрыв, которого не было в дедушке, в М. А. Шмидт, в Поше Бирюкове, — трудно сказать.
Сыновья Толстого втихомолку подсмеивались над ним и передавали друг другу рассказы, подобные тому, как в разгар рабочей поры, когда вся деревня и некоторые из членов семьи Толстых с самим Львом Николаевичем во главе, потные и усталые, возили сено, они встретили Черткова, шедшего куда-то в ярко красной рубашке ниже колен. Братья спросили его, куда он идет. «Я иду на сэло бэсэдовать с крестьянами», — ответил Чертков.
В 1886 году Чертков женился на Анне Константиновне Дитерихс. Чтобы не огорчать родителей — мать Черткова, Елизавету Ивановну, и семью генерала Дитерихса — молодые обвенчались церковным браком. Анна Константиновна Дитерихс, курсистка, народница, очень либеральных взглядов, несмотря на то, что вышла из консервативной семьи, познакомилась с Чертковым в «Посреднике». Она вполне разделяла взгляды своего мужа, но и в ней, также как и в нем, не хватало радости жизни. Она была хорошенькая, с правильными чертами лица, ротиком бантиком, темными вьющимися волосами и большими, черными глазами, но это была какая-то болезненно-трагичная красота. Казалось, что вот-вот она сломится под тяжестью жизни, что хрупкое тело ее не выдержит. И в точно удивленных, недоумевающих, красивых глазах ее, и в низком голосе (она чудно пела) чувствовался надрыв.
В 1888 году в семье Толстых произошли два крупных события: женился Илья (28 февраля). 13 февраля этого года Толстой писал дедушке Ге: «...У нас все хорошо — очень хорошо даже. Жена донашивает будущего ребенка — остается месяц. Илья женится — на Философовой (вы, верно, знаете — славная, простая, здоровая, чистая девушка) 28 февраля и находится в том невменяемом состоянии, в котором находятся влюбленные. Жизнь для него остановилась и вся в будущем...».
31 марта родился шестой сын, которого назвали Иваном — худенький, хрупкий и болезненный ребенок. По этому поводу Н. Н. Ге писал Толстому: «...Новорожденного Ваню целую — дай Бог, чтобы в нем жил Иоанн Богослов, любимейший писатель и человек»'.
Темных, которые бы вошли в семью Толстых и были признаны Софьей Андреевной, было немного. Одним из них был П. И. Бирюков или, как все его называли, Поша. Он не принадлежал к той клике последователей Толстого, которых презирала Софья Андреевна. То, что Поша был воспитанный молодой человек из хорошей семьи, имело большое значение. Поша был простой, приветливый в обращении и скромный молодой человек. В глазах Софьи
Андреевны он не был лодырем, работал не за страх, а за совесть в «Посреднике» и был искренно предан Толстому и его учению. Отношение Софьи Андреевны несколько поколебалось, когда в начале 1889 года Поша сделал Маше предложение и Маша решила выйти за него замуж. Софья Андреевна не хотела этого брака, потому что Поша был «толстовцем» и тоже потому, что своим материнским сердцем она почувствовала, что Маша не влюблена в Пошу, а решила выйти за него замуж, чтобы вместе с ним вести трудовую жизнь, следуя принципам отца. Лев Николаевич тоже боялся этого брака. Но чувства его были гораздо сложнее. Он не совсем понимал, насколько Маша по-настоящему полюбила Пошу и боялся, с другой стороны, что если Маша не выйдет замуж, то сделает это ради него, отца, чтобы остаться с ним, чего Лев Николаевич в душе желал. С каждым годом он сильнее и сильнее привязывался к Маше и терять ее ему было нелегко.
В своем дневнике от 25 апреля 1889 года он писал о Маше: «Большая у меня нежность к ней. К ней одной. Она как бы выкупает остальных».
Но к общему удовольствию, кроме бедного Поши, который долго не мог утешиться, свадьба расстроилась.
В 1889 году к работе «Посредника» примкнул новый последователь Толстого — Иван Иванович Горбунов-Посадов, со временем ставший главным его и редактором, и издателем. Познакомившись с Горбуновым, Толстой записал в дневнике: «Очень умен, и даровит, и чист». Вероятно, ближе познакомившись с Горбуновым, Толстой мог бы добавить к этому определению: и добр, до слез чувствителен, даже сентиментален и скромен. Толстого Иван Иванович боготворил. Он ловил каждое слово его и иногда, когда Толстой читал вслух свои вещи, Горбунов по-детски отдувал губы, сопел носом и потихоньку утирал свои добрые, голубые, ласковые глаза не совсем чистым платком. А иногда, чтобы скрыть волнение, он, в порыве разговора, вскакивал и грузно шагал по комнате, утирая пот с очень русского, широкого, с мясистым носом и толстыми губами, лица.
Эти люди, несмотря на то, что их прозвали «темными», были совершенно особенными по своим душевным качествам. Леонида Фоминична Анненкова незаметно появилась в доме Толстых и сразу была принята как близкий друг и без всякого усилия завоевала любовь всего Толстовского дома. Вся она была мягкая, полная, с мягким южным говором, приятная, как та мягкая, пушистая шерсть, из которой она вечно что-то вязала. Она говорила мало, больше слушала своего любимого учителя и незаметно молча проводила в жизнь то, что он говорил, и то, во что она раз и навсегда поверила.
Декабря 25-го, 1889 года Толстой писал Анненковой: «Помогай вам Бог. Пожалуйста, пишите нам. Я вас очень люблю. Получил и огромное количество носок, чулок и перчаток. Все это прекрасно».
Большинство этих толстовцев жили, питались Толстым. Одним из таких был Гавриил Андреевич Русанов. «Толстой дал мне счастье и я стал христианином», — писал Русанов. Но и Русанов очень много дал Толстому. И хотя Толстой редко с ним виделся, так как у Русанова была сухотка спинного мозга и он был прикован к креслу по болезни, но Толстой часто переписывался с ним и пользовался его советами и указаниями по поводу своих писаний. Русанов страдал и, как люди много пережившие, достиг большой духовной высоты. Толстой считал его одним из лучших людей, которых он когда-либо встречал, любил и уважал его.
Несмотря на то, что Софья Андреевна не разделяла взглядов толстовцев, она инстинктивно чувствовала подлинность и искренность многих из них и уважала. К таким можно причислить: М. А. Шмидт, Пошу Бирюкова, дедушку Ге, Л. Ф. Анненкову и некоторых других. Но когда в других она улавливала неискренность, притворство, желание подыграться под толстовство — она была беспощадна.
«Тяжелое время пришлось переживать на старости лет, — писала Софья Андреевна в дневнике декабря 10-го, 1890 года, — Лёвочка завел себе круг самых странных знакомых, которые называют себя его последователями. И вот утром сегодня приехал один из таких, ...бывший в Сибири за революционные идеи, в черных очках, сам черный и таинственный, и привез с собой еврейку-любовницу, которую назвал своей женой только потому, что с ней живет. Так как тут Бирюков, то и Маша пошла вертеться там же внизу и любезничала с этой еврейкой. Меня взорвало, что порядочная девушка, моя дочь, водится со всякой дрянью и что отец этому, как будто сочувствует. И я рассердилась, раскричалась...»2
В этом случае Софья Андреевна ошиблась. Буткевич был искренним последователем Толстого, и со временем, когда Софья Андреевна узнала его ближе, она примирилась с ним.
Как-то к Толстому приехал новый последователь — Клопский. Софья Андреевна быстрее всех раскусила его, но много он ей перепортил крови.
«Приехал Клопский, — записывает она в дневнике 14 января 1891 года. — Он противен ужасно. Какой-то темный».3
Через день она опять пишет: «Какая подчас идет тяжелая борьба. Сегодня утром дети учатся внизу, а там этот Клопский. И говорит он Андрюше: «Зачем вы учитесь, губите свою душу? Ведь отец ваш этого не желает». Девочки сейчас же подхватили, что готовы пожать его благородную руку за эти речи. Мальчики прибежали и мне все рассказали».4
Вероятно, Андрюша, которому было четырнадцать лет и который всегда плохо учился, очень был рад такому совету, но каково было матери?
Был еще целый разряд друзей Толстого, которых нельзя было назвать ни светскими, ни темными, — ученые, писатели, художники, музыканты, просто посетители.
«Я так сошелся с Толстым, — писал профессор Грот своему брату, — что просто влюблен в него... Это чудесный человек, единственный, которого я знаю (человек в полном смысле слова)».5
Грот не был последователем Толстого, но Грот сделался постоянным посетителем и другом дома Толстых. Этой дружбе способствовало еще и то, что Гроты, их многочисленное семейство, жили рядом с Хамовническим домом в Москве и дети Гроты часто играли с детьми Толстых в саду и ходили друг к другу в гости.
К этому же времени относится начало дружбы художника И. Е. Репина с Толстым. Она началась еще, когда Репин иллюстрировал народные рассказы Толстого, но со временем Репин сошелся со всей семьей и часто и подолгу гостил в Ясной Поляне.
В 1887 году Репин писал два портрета Толстого в Ясной Поляне: Толстой с книгой в вольтеровском кресле и Толстой на пашне. Позировать Толстой терпеть не мог по двум причинам: это было скучно и тратилось время, а главное, это подчеркивало ту «знаменитость» его, Толстого, то, что он хотел забыть, что тяготило его, мешало его вечной борьбе с «грехом честолюбия», как он говорил. Но огорчать Репина он не хотел. Несмотря на то, что Репин был уже знаменитостью — его «Бурлаки», картина Иоанна Грозного с сыном и др. нашумели и он был известен всей России — он был очень скромен и подкупал этим Толстого. Добрая, грустно-насмешливая улыбка почти не сходила с его лица. Когда Толстой говорил, он молча, сосредоточенно слушал и нельзя было понять, вникал ли Репин в сущность того, что говорил Толстой, или устремлял все свое внимание на изучение лица, которое он воспроизводил. Писать портрет Толстого на пашне было трудно. Толстой ни за что не согласился бы позировать в то время, когда он делал самое, как он считал, важное дело. Держа в сильных, мускулистых руках тяжелую соху, Толстой шел, не останавливаясь, утопая в мягкой земле, в то время как Репин перебегал с одного конца поля на другой, стараясь зарисовать пахаря. Художник и сам пробовал пахать и, взявши соху из рук Толстого, прошел одну полосу. Но лошадь его не слушалась, он накривил полосу, устал и передал соху обратно в руки Толстому.
В том же 1887 году (в апреле) Толстого посетил Лесков. Рассказ «Христос в гостях у мужика» был одним из первых произведений, напечатанных в «Посреднике» с разрешения автора. Рассказ этот продавался за 1/2 копейки в розничном издании. В письме к Черткову от 24 — 25 апреля Толстой писал: «Был Лесков. Какой умный и оригинальный человек!».
И этим же летом в Ясную Поляну приехал знаменитый юрист А. Ф. Кони — человек исключительно блестящего ума, с широким кругозором, живой, талантливый собеседник.
Во время пребывания Кони, Толстой брал его с собой на дальние прогулки. Этой привилегией пользовались лишь немногие, только те, к кому Толстой относился с особенным интересом и симпатией, так как обычно он любил гулять один. Толстому и в голову не приходило, что непривычному петербуржцу эти прогулки были невмоготу. «Толстой с удивительной для его лет гибкостью и легкостью взбегал на пригорки и перепрыгивал через канавки быстрыми и
решительными движениями упругих ног», — писал Кони в своих Воспоминаниях.6
Разговоры шли и о литературе, которую оба собеседника так хорошо знали, и о судебной практике Кони. Одно из судебных дел, о котором рассказал Кони Толстому, произвело на него сильное впечатление, и Толстой просил Кони записать его. Это дело — Коневская повесть, послужила для Толстого темой для романа «Воскресенье».
И в это же лето, после долгого перерыва, Ясную Поляну посетила «бабушка» — Александра Андреевна Толстая. Старые друзья виделись теперь очень редко. И когда они виделись и переписывались, они постоянно спорили друг с другом. «Бабушка» никак не могла понять нового мировоззрения Толстого, его отрицания церкви и порицания государства. Но тем не менее старая привязанность теплилась в глубине их душ, главное — оставалось глубокое уважение друг к другу, не говоря уж о том, что бабушка ценила Толстого как великого художника.
Вот как описала «бабушка» свое пребывание в Ясной Поляне: «Я очень любила эти утренние часы. Лев, обновленный сном, был в отличном духе и необыкновенно мил. Мы разговаривали совершенно спокойно: он часто читал мне любимые его стихи Тютчева и некоторые Хомякова, которые он ценил особенно; и когда в каком-нибудь стихотворении появлялось имя Христа, голос его дрожал и глаза наполнялись слезами... Это воспоминание и до сих пор меня утешает: он, сам того не сознавая, глубоко любит Спасителя и, конечно, чувствует в нем необыкновенного человека; трудно понять противоречие его слов и его чувства.
Уходя на работу в свой кабинет, он мне обыкновенно оставлял все журналы, книги и письма, полученные накануне. Нельзя себе представить, какой ворох этого материала почта приносила ежедневно не только из России, но и со всех стран Европы и даже из Америки — и все это было пропитано фимиамом... Я часто удивлялась, как он не задохся от него, и даже ставила ему это в великую заслугу»7.
Бывало, когда Толстому надо было спешно переписать какую-нибудь работу, она распределялась между всеми: переписывала Софья Андреевна, дочери и гости. Так было и в этот раз, когда Толстой закончил статью «О жизни». В числе переписчиков оказались А. А. Толстая и Ал. Мих. Кузминский. А на другой день Толстой читал всем вслух свою статью.
«Чтение продолжалось около двух часов, — писала «бабушка» в своих воспоминаниях. — Я поняла гораздо более, чем ожидала; были места прекрасные, но сердце мое не дрожало и не горело. Мне казалось, что я то сижу в анатомическом кабинете, то, что я бегаю по кривым дорожкам в полуосвещенном лабиринте и все сбиваюсь, путаюсь и не могу вздохнуть свободно... Разумеется, об этом я не поведала никому...»8
Известность Толстого проникла и за границу. Завязалась переписка с Европой и Северо-Американскими Штатами, иностранцы приезжали знакомиться с Толстым.
Молодой человек, ученик высшей нормальной школы в Париже, Ромэн Роллан, написал Толстому, спрашивая его, как надо строить жизнь, как организовать ручной труд. Толстой ответил Роллану таким длинным и пространным письмом, что одно время даже хотел переделать его в статью.
20 июня 1887 года Толстой писал Черткову: «Я получаю много писем из Америки. Два от старинных членов Non resistance. И это меня радует. И здесь братья, и там». Сильное впечатление на него произвела книга Алис Стокгэм
«Tocology». Толстой настоял, чтобы книга эта была переведена на русский язык и написал к ней предисловие.
«Вопросы о воздержании, — писал Толстой об ее книге, — от табака и всяких возбудительных напитков, начиная от алкоголя и кончая чаем, вопросы о питании без убийства живых существ, вегетарьянство, вопросы о половом воздержании в семейной жизни и мн. др., отчасти уже решенные, отчасти разрабатываемые и имеющие огромную литературу в Европе и Америке, у нас еще и не затрагиваются, а потому книга Стокгэм особенно важна для нас: она сразу переносит читателя в новый для него мир живого человеческого движения».
Толстой получал все передовые журналы и газеты, как русские, так и заграничные. В журнале «Century Magazine» ему попалась статья Джорджа Кеннана о Петропавловской крепости и Сибирской ссылке. Кеннан ездил в Сибирь, видел каторжан и написал книгу: «Сибирь и ссылка». Будучи в России в 1887 году, Кеннан заезжал к Толстому.
Приезжали и другие американцы: Elisabeth Hapgood, впоследствии переводчица произведений Толстого, журналист Вилльям Стэд и др. Но самой большой радостью для Толстого было общение с людьми, исповедовавшими то же самое христианское учение — непротивление злу насилием, как и он. Книгу Адина Баллу «Christian non-resistance» Толстой получил от пастора унитарианской церкви Вильсона, в июне 1889 года. В своем дневнике Толстой пометил: «превосходно». В ноябре 1889 года Толстой писал Поше:
«Во-первых, о книге Баллу. Я очень рад, что она на вас произвела такое же впечатление, как на меня — восторга, желания общения с ним, выражения ему своей благодарности и любви, что я и исполнил».
Слава Толстого, общение с людьми не только в России, но и за океаном постепенно расширялись, росли, и чем шире становился этот круг, тем больше беспокоилось правительство. Надо было пресечь влияние Толстого, но как оно могло это сделать?
Применять к Толстому меры, как к обыкновенному политическому преступнику, — нельзя было. Если бы Толстой был сослан, уехал в Европу или Америку, — мало того, что это вызвало бы негодование всех цивилизованных стран, но это увеличило бы популярность Толстого в России. Посадить Толстого в тюрьму или сослать его в Сибирь было тоже невозможно — это могло бы вызвать волнения в России, студенческие беспорядки, забастовки, и опять только усилило бы его славу. Что было делать? И правительство избрало два пути: преследование последователей Толстого и запрещение его книг. Розничная продажа «Власти тьмы» в дешевых изданиях была запрещена.
Народные рассказы, содержание которых, как нам известно, было проникнуто глубоким христианским чувством, — и те подвергались нападкам властей. Представленные на заключение архимандрита Тихона, духовного цензора по делам печати, рассказы Толстого получили следующую оценку: они «проникнуты одним и тем же тенденциозным балагурством (курсив мой. — А. Т.) и хотя, по-видимому, имеют нравоучительный характер, но скорее вносят в душу читающего не назидание, а разрушение нравственного благоустройства».
И затем следует постановление Комитета по делам печати о запрещении сборника, изданного «Посредником» с рассказами Толстого. Мало этого, народные рассказы Толстого: «Бог правду видит, да не скоро скажет», «Чем люди живы», «Где любовь там и Бог», «Три старца», «Много ли человеку земли нужно», «Зерно
с куриное яйцо», «Первый винокур», «Два старика» и др. были запрещены в отдельных изданиях.
Но репрессивные меры нисколько не ослабляли влияния Толстого на молодежь того времени. Не говоря уже о том, что их привлекало самое учение Толстого — христианская жизнь, полная воздержания, элемент жертвенности и аскетизма, несомненно, всю эту молодежь привлекал и элемент революционности, протест против существующего порядка, который давно уже бурлил в интеллигентных кругах России. Собирались в «Посреднике», толковали, с жадностью поглощали все новые произведения Толстого и, как результат, не желая только разговаривать, а немедленно же действовать, соединялись в кружки и образовывали толстовские христианские общины. В этих общинах земля признавалась общей, все должны были работать, пища была простая, вегетарианская, отношения между мужчинами и женщинами — братские. Но немногие общины удержадись и, по-видимому, главной причиной распада общин были споры о собственности, недоразумения, осуждения других и друг друга.
«Был у меня Алехин осенью, — писал Толстой Н. Н. Ге. — Живет он и они все удивительно. Например, вопрос половой они все решают полным воздержанием, жизнь святая. Но, Господи, прости мои согрешения, — осталось мне тяжелое впечатление. Не от того, что я завидую чистоте их жизни из своей грязи, этого нет, я признаю их высоту и, как на свою.радуюсь на нее, но что-то не то. Душа моя, не показывайте этого письма, это огорчит их; а я, может быть, ошибаюсь».
Еще в конце 1887 года полиция сделала обыск у последователя Толстого М. А. Новоселова. У него нашли статью Толстого «Николай Палкин» (обличение государя Николая I). Новоселов был арестован.
В начале 1888 года министр внутренних дел гр. Д. А. Толстой, докладывая государю Александру III о найденной у Новоселова статье Л. Н. Толстого, говорил о нецелесообразности преследования Толстого за сочинение противоправительственного характера. Д. А. Толстой добавляет, что Толстой писал эту статью «вне каких-либо преступных связей и намерений, исключительно под влиянием религиозного фанатизма, и привлечение его к дознанию вызвало бы совершенно нежелательные толки и последствия».10
Затем, министр предложил московскому генерал-губернатору «пригласить» к себе гр. Толстого и, сделав ему должное внушение, предложить вместе с тем представить немедленно все имеющиеся у него экземпляры этого издания. Государь утвердил доклад Д. А. Толстого.
Ответ Толстого на приглашение явиться к генерал-губернатору можно было предвидеть. Толстой через своего знакомого, управляющего канцелярией генерал-губернатора, Истомина, сообщил, что «прибыть добровольно для объяснений по вопросу о каких бы то ни было своих сочинениях», он отказывается, «так как в подобном приглашении усматривает вторжение в свой духовный мир». Кроме того, Толстой сообщил, что гектографированных копий «Николая Палкина» он никогда не видал. Долгоруков считает «возможным ограничиться заявлением гр. Л. Н. Толстого»: помимо высокого значения его таланта, «всякая репрессивная мера, принятая относительно гр. Л. Толстого, окружит его ореолом страдания и тем будет наиболее содействовать распространению его мыслей и учения»."
Через некоторое время Новоселова освободили, но репрессии по отношению к толстовцам продолжались. В июле 1889 года был сделан обыск в общине, организованной единомышленником Толстого, А. В. Алехиным.
В Ясной Поляне была очень убогая церковно-приходская школа, где с ребятами занимались полуграмотные учителя, и сестры Толстые, следуя по стопам отца, решили учить деревенских ребят грамоте. Толстой иногда заходил к дочерям на уроки, давал им советы, а порою и сам увлекался и по старой привычке занимался с детьми.
Правительству это не понравилось, и губернатору было вменено в обязанность школу эту закрыть. В то время тульским губернатором был Н. В. Зиновьев, близкий сосед, часто с дочерьми посещавший Ясную Поляну. Зиновьеву было очень неприятно выполнение этого приказа. Но другого выхода не было. В марте 1890 года в Ясную Поляну приехал инспектор народных училищ, но Толстой его не принял. Пришлось самому губернатору взять на себя эту обязанность.
Зиновьев сам приехал в Ясную Поляну и в очень деликатной форме просил сестер Толстых прекратить занятия с детьми, так как правительство не может в дальнейшем разрешить существование нелегальной школы. Школу закрыли, но сам Толстой продолжал не обращать никакого внимания на недовольство правительства. Он огорчался, когда преследовали его единомышленников, но продолжал свободно, во всеуслышание, высказывать свои взгляды. И что бы правительство ни делало, остановить рост влияния Толстого оно не было в силах.
Это было весной, в Хамовническом доме, в Москве. Собрались гости, между ними Репин, артист Андреев-Бурлак, ученик Московской консерватории, учитель мальчиков Толстых, Андрюши и Миши, скрипач Лясотта. Сережу и Лясотта просили что-нибудь сыграть.1
Сережа отличался от других Толстых большой застенчивостью, сдержанностью и замкнутостью. Все свои переживания, порывы нежности, страсти он часто скрывал под напускной грубостью, резкостью. Он был самый серьезный и трудолюбивый из всех братьев Толстых, жил своей обособленной жизнью, не примыкая ни к матери, ни к отцу, редко делился своими мыслями с семейными, тая все в себе, и только когда Сергей садился за фортепьяно и часами играл своего любимого Шопена, Бетховена, Баха, Грига и пытался что-то сам сочинять, все невольно заслушивались. Все всегда говорили, что у Сережи замечательное «тушэ». На самом деле только роялю одному Сергей открывал свою душу: в звуках то бурно-страстных, то нежно-певучих чувствовались и грусть, и внутренняя борьба этого некрасивого, замкнутого в себе юноши.
Должно быть, в этот весенний вечер 1888 года молодые люди сыграли с особенным подъемом сонату Бетховена, посвященную Крейцеру. Первая часть сонаты, которую Толстой особенно любил, произвела на всех сильное впечатление. Говорили о том, что было бы хорошо, если бы Толстой написал рассказ на тему Крейцеровой сонаты, Репин его иллюстрировал, а актер Андреев-Бурлак — изобразил. Идея эта никогда не осуществилась. Андреев-Бурлак вскоре умер. Но у Толстого мысль продолжала зреть. Трудно сказать, когда именно зародилась идея «Крейцеровой сонаты» в голове Толстого — в этот вечер, под влиянием музыки, или же гораздо раньше, когда Толстой, еще в 70-х годах, набросал и забросил рассказ «Убийца жены», и, как бывало с ним раньше, слушая музыку, он уже созидал свою повесть.
3 апреля 1889 года, когда Толстой гостил у своего друга С. С. Урусова в Спасском, он записал в дневнике: «Рано. Хотел писать новое, но перечел только
все начала и остановился на «Крейцеровой сонате». И 5 апреля: «Очень много и недурно писал «Крейцерову сонату». А между тем 28 декабря 1890 года Софья Андреевна писала в дневнике, что «мысль создать настоящий рассказ была ему (Толстому) внушена Андреевым-Бурлаком, актером и удивительным рассказчиком». «Он же, — пишет дальше Софья Андреевна, — рассказал ему, что раз, на железной дороге, один господин сообщил ему свое несчастье от измены жены, и этим-то сюжетом и воспользовался Лёвочка».2
Описывая жизнь своего героя Полозова, Толстой несомненно изобразил некоторые стороны своих отношений с женой: периоды нежности и охлаждения, несогласия, раздоры, все это он взял из их совместной жизни. Софья Андреевна чувствовала это и поэтому не любила «Крейцерову Сонату».
«Выходили стычки и выражения ненависти за кофе, скатерть, пролетку, за ход в винте, все дела, которые ни для того, ни для другого не могли иметь никакой важности, — писал Толстой в «Крейцеровой Сонате». — Во мне, по крайней мере, ненависть к ней часто кипела страшная! Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называли любовью. Период любви — период злобы; энергический период любви — длинный период злобы, более слабое проявление любви — короткий период злобы... Мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющие жизнь друг друга и старающиеся не видать этого. Я еще не знал тогда, что 0,99 супружеств живут в таком же аду, как и я жил, и что это не может быть иначе».
Описывая отношения Полозова с женой, Толстой кое-какие черты взял из своей жизни. Ревность мужа к жене... У Софьи Андреевны была нервная привычка раскачивать ногу и часами мерно стучать ногой о пол, что раздражало ее семейных; или вбирать в себя пищу губами, громко хлюпая. Разве здесь не выражены чувства самого Толстого?
«Удивительно, какие совпадения и в правильной и даже неправильной жизни! — -писал Толстой. — Как раз когда родителям жизнь становится невыносимой друг от друга, необходимы делаются и городские условия для воспитывания детей. И вот является потребность переезда в город».
А Толстой раздражал жену своими «идеями». Ее раздражали его разговоры о целомудрии в браке, воздержании... Разве она не была законной женой его?
«...Ты затягиваешься и ты убиваешь себя, — писала она ему 19 апреля 1888 года в Ясную Поляну, — Я... думала: «не ест мяса, не курит, работает через силу, мозг не питает и от того сонливость и слабость. Какая глупость вегетарианство... Убить в себе жизнь, убить все плотские стремления, все потребности — почему же уж совсем себя сразу не убить? Ведь ты совершаешь над собой медленное убийство, какая разница?».э
В дневнике от 14 декабря 1890 года Софья Андреевна писала:
«Дописала сегодня в дневниках Лёвочки до места, где он говорит: «Любви нет, есть плотская потребность сообщения и разумная потребность в подруге жизни ». Да, если бы я это его убеждение прочла 29 лет тому назад, я ни за что не вышла бы за него замуж».4
Он презирал себя за то, что, идейно разойдясь с женой, он все еще тянулся к
ней, как к женщине, и он ненавидел и упрекал себя, когда поддавался физическому влечению.
Писание «Крейцеровой сонаты» заняло почти два года. Толстой писал с перерывами, порой остывал к повести и снова с увлечением принимался за нее. В письме к другу своему Г. А. Русанову Толстой писал (12 марта 1889 г.):
«Слух о повести имеет основание. Я уже года два тому назад написал начерно повесть действительно на тему половой любви, но так небрежно и неудовлетворительно, что и не поправляю, и если бы занялся этой мыслью, то начал бы писать вновь». 8 декабря 1889 года Толстой записал в дневнике: «Поправлял «Крейцерову сонату»... Надоела К. С».
Когда Толстой писал, что произведение ему «надоело», это означало, что он приближался к концу. Не вполне закончив повесть, в то время как повесть уже ходила по рукам, он стал писать «Послесловие». Толстой получал множество самых разнообразных отзывов о «Крейцеровой сонате»: недоумевающие, осуждающие, дружески-критические, восторженные.
В своем «Послесловии» Толстой старался ответить на многочисленные поставленные ему вопросы.
«Только поставьте идеалом целомудрие, — писал он, — считайте, что всякое падение кого бы то ни было с кем бы то ни было есть единственный, неразрывный на всю жизнь брак, и будет ясно, что руководство, данное Христом, не только достаточно, но единственно возможно».
В письме к В. И. Алексееву (10 февраля 1890 г.) Толстой писал: «Содержание того, что я писал, мне было так же ново, как и тем, которые читают. Мне в этом отношении открылся идеал, столь далекий от действительности моей, что сначала я ужаснулся и не поверил, но потом убедился, покаялся и порадовался тому, какое радостное движение предстоит и другим и мне».
Н. Н. Страхов, хотя и критиковал «Крейцерову сонату» с точки зрения внешней обработки повести, написал Толстому восторженное письмо по поводу ее содержания.
«Спасибо, Николай Николаевич, — отвечал ему Толстой. — Я очень дорожил Вашим мнением и получил суждение гораздо более снисходительное, чем ожидал. В художественном отношении я знаю, что это писание ниже всякой критики: оно произошло двумя приемами, и оба приема несогласные между собой, и от этого то безобразие, которое вы слышали. Но все-таки оставляю как есть и не жалею. Не от лени, но не могу поправлять: не желаю же оттого, что знаю верно, что то, что там написано, не то что не бесполезно, а наверное очень полезно людям и ново отчасти. Если художественное писать, в чем не зарекаюсь, то надо сначала и сразу».
Критика Черткова была по существу содержания:
«Я продолжаю фантазировать по направлению толчка, полученного от чтения вашей повести, — пишет он Толстому... — Повесть в теперешнем ее виде может только возбудить в читателе вопрос, сомнение, но не выяснить его настолько, насколько вы в состоянии его выяснить, вводя в повесть центр христианских убеждений, который отсутствует пока...»
Этот отзыв друга, по-видимому, огорчил Толстого: «Вчера получил длинное письмо от Черткова, — записал он в дневнике от 31 октября 1889 года, — Он критикует Кр. сон. очень верно. Желал бы последовать его совету, да нет охоты. Апатия, грусть, уныние».
Нуждался ли Толстой в этой критике? Он сам относился к себе строже, чем кто-либо. «Я пишу Крейцерову сонату и даже «Об Искусстве» и то и другое отрицательное, злое, а хочется писать доброе», — писал он в дневнике от 24 июля 1889 года,
В этот период своего творчества отделка сочинений, стиль, уже кажутся Толстому излишней роскошью, главное — это успеть высказать мысли, могущие принести пользу:
«Писал немного об искусстве — отступил немного от правила, — писал он сентября 12-го, 1889 года в дневнике, — поправлял из кокетства авторского. Зато писал только до тех пор, пока писалось».
Отзывы близких не безразличны Толстому, но самое главное, это быть правым перед своей совестью: «Только бы в чистоте, т. е. чистым от всяких похотей, — писал он Н. Н. Ге старшему, — объядения, вина, курения, половой похоти и славы людской; в смирении, т. е. готовым всегда на то, чтобы мой труд ругали и меня срамили».
И Толстого и ругали и срамили. Теперь, говорили люди, он, прожив бурную жизнь, на старости лет проповедует целомудрие, воздержание.
«Бороться, это самая и есть жизнь», — писал Толстой в «Мыслях об отношениях между полами».
И дальше: «Не целомудрия задачу должен себе задавать человек, а приближения к целомудрию».
«Крейцерову сонату» запретили, несмотря на то, что о ней говорили везде и всюду и она ходила по рукам. «Трудно себе представить, — пишет А. А. Толстая в своих воспоминаниях, — что произошло, например, когда явились «Крейцерова соната» и «Власть тьмы». Еще не допущенные к печати, эти произведения переписывались уже сотнями и тысячами экземпляров, переходили из рук в руки,
переводились на все языки и читались везде с неимоверной страстностью. Казалось подчас, что публика, забыв все свои личные заботы, жила только литературой графа Толстого... Самые важные политические события редко завладевали всеми с такой силой и полнотой».6
Никто, по-видимому, не ожидал, что «Крейцерова соната», как и многие другие произведения Толстого последнего времени, подвергнется гонениям. Но 25 февраля 1890 года был арестован 13-й том полного собрания сочинений Толстого, где повесть была напечатана. Посоветовавшись с А. А. Толстой, Софья Андреевна обратилась к министру внутренних дел Дурново с просьбой снять цензурное запрещение с XIII тома сочинений. На свое письмо она получила следующий ответ от начальника Главного управления по делам печати, Феоктистова:
«Министр Внутренних Дел, — писал Феоктистов, — получил письмо Вашего Сиятельства и поручил Вам передать, что при всем желании оказать Вам услугу, Его Высокопревосходительство не в состоянии разрешить к печати повесть «Крейцерова соната», ибо поводом к ее запрещению послужили не одни только, как Вы изволите предполагать, встречающиеся в ней неудобные выражения».7
Но Софья Андреевна была не из тех людей, которые легко сдаются. Чем больше препятствий, тем больше у нее прибавлялось энергии. Посоветовавшись с «бабушкой» и Ал. Мих. Кузминским, она решила поехать в Петербург и лично просить государя разрешить повесть к печати. Государь оказался либеральнее своих подчиненных и дал Софье Андреевне разрешение на выпуск XIII тома. Это было уже в апреле 1891 года. Софья Андреевна вернулась из Петербурга веселая и довольная. Запрещение к выпуску XIII тома повлекло бы за собой большой материальный ущерб. Кроме того, Софья Андреевна была, видимо, польщена приемом и вниманием, оказанным ей государем, о чем она охотно рассказывала всем своим родным и знакомым.
Многие не поняли глубокого смысла «Крейцеровой сонаты». Люди опошлили, исказили смысл повести. Один из штатов Америки оказался менее либерален, чем русский царь, и запретил повесть, как порнографию, а в Германии какой-то издатель пустился на грязную рекламу с целью наживы, и на обложке напечатал голую женщину.
Половой вопрос в течение всего этого периода занимал Толстого. Он прожил сам бурную жизнь. Боролся с соблазном похоти в продолжение всей своей жизни и знал всю силу этого соблазна, ведущего людей к преступлениям, иногда к полному нравственному падению. Не успев закончить «Крейцерову сонату», он в течение двух недель набросал повесть «Дьявол», где, со всей силой своего творческого пера, изобразил жуткую животную страсть человека к крестьянской женщине и его борьбу с ней.
«Дьявол», или как Толстой называл ее вначале «История Фредерикса», быль, рассказанная сестрой главного действующего лица, Фредерикса, с которым случилась эта история. Это одно из тех произведений, которые настолько его увлекали, что он писал их запоем, сразу. 10 ноября 1889 года Толстой сделал следующую заметку в дневнике: «После обеда неожиданно стал писать историю Фредерикса». Но, набросав повесть вчерне, Толстой уже почти не возвращался к ней и только 20 лет спустя написал новый вариант ее, озаглавленный сначала «Иртенев» и в окончательной редакции «Дьявол».
Об этой повести Софья Андреевна ничего в то время не знала. Толстой
умышленно скрыл ее от жены. Он знал, что она вызовет бурю ревности Софьи Андреевны к его прошлому роману с крестьянкой Аксиньей, который так болезненно восприняла Софья Андреевна, узнавши о нем уже после их свадьбы, роман, отчасти послуживший темой для «Дьявола».
В этот период, 1889 — 1891 гг., Толстой снова возвращается к рассказу «Отец Сергий», впервые им набросанному в письме к Черткову 3 февраля 1890 года, где он описывает падение известного своей святой жизнью монаха, соблазненного женщиной. В дневниках Толстого встречаются несколько записей об «Отце Сергии»:
Июля 14-го, 1890 года: «Хочется и начать Отца Сергия сначала». Августа 3-го: «Ясно обдумывалось». И августа 18-го: «Все глубже и глубже забирает эта история».
В феврале Толстой с дочерью Машей и племянницей Верой Кузминской ездили в Шамординский монастырь, куда постриглась монахиней сестра Толстого, Марья Николаевна Толстая. Мужской монастырь Оптина Пустынь, в котором Толстой неоднократно бывал, находился в нескольких верстах от Шамордина. Снова он посетил старца Амвросия и долго беседовал с двумя монахами, Шидловским и Леонтьевым. По всей вероятности, посещение монахов и задушевные разговоры с ними дали ему большой материал к писанию «Отца Сергия».
В письме к Е. И. Попову, 20 сентября 1890 года, Толстой писал: «...Ослабляет нас в нашей борьбе с искушением то, что мы задаемся вперед мыслью о победе, задаем себе задачу сверх сил, задачу, которую исполнить или не исполнить не в нашей власти. Мы, как монах, говорим себе вперед: я обещаюсь быть целомудренным, подразумевая под этим внешнее целомудрие. И это, во-первых, невозможно, потому что мы не можем себе представить тех условий, в которых мы можем быть поставлены, и в которых мы не выдержим соблазна. И, кроме того, дурно; дурно потому, что не помогает достижению цели — приближения к наибольшему целомудрию, а напротив...
Задачей может быть одно: достижение наибольшего, по моему характеру, темпераменту, условиям прошедшего и настоящего, целомудрия — не перед людьми, которые не знают того, с чем мне надо бороться, а перед собой и Богом...»
В этих словах Толстой с особенной ясностью высказывает мысль, неоднократно повторяемую им всем его горячим, часто неразумным, последователям, смело, с горячностью и самоуверенностью молодости убежденным, что они могут достичь совершенства и ставящим себе непосильные задачи.
Целый ряд замыслов бродят в голове Толстого. Он начинает писать повесть, сюжет которой рассказал ему Кони, но эта, как Толстой называет ее, «Коневская повесть» — будущее «Воскресение» — не пошла, замысел оказался слишком широким, и он откладывает ее; «Отец Сергий» увлекает его несомненно сильнее; надо заканчивать статью о непротивлении — «Царство Божие внутри вас». Одновременно он исправляет набросанную им повесть «Ходите в свете, пока есть свет», повесть, которую он начал в начале 80-х годов и которая очень нравилась Черткову, так как была написана в духе толстовства, но которая, он чувствовал, была слаба в художественном отношении.
В то же самое время Толстой придумывает совершенно новую форму сочинения, в которой действуют не одни и те же герои, а ряд лиц, в руки которых попадает фальшивый купон. Но и это не идет. Он устал. «Царство Божие» и «Крейцерова соната» поглотили главные его силы и совершенно неожиданно,
может быть даже для самого себя, он взялся за комедию, которая вначале называлась «Исхитрилась», а потом — «Плоды просвещения».
Как бы Толстой ни старался не придавать значения художественной форме и обработке, он не мог перестать быть художником и, как художник, он увлекся этой новой для него формой творчества. Писание комедии было для него отдыхом.
Толстой всю жизнь издевался над спиритизмом и спиритами и никак не верил рассказам о сверхъестественных явлениях, стуках, верченье столом, разговорах с потусторонним миром. Его недоверие утвердилось после того, как он присутствовал на одном спиритическом сеансе в Москве, у Н. А. Львова. Тогда же он записал в дневнике: «Львов рассказывал о Блавацкой, переселении душ, силах духа, белом слоне, присяге новой вере. Как не сойти с ума при таких впечатлениях?».
Осенью 1886 года Толстой набросал два плана комедии, но, не дописав, бросил. И вернулся к ней лишь в конце марта 1889 года. Может, комедия так и не была бы закончена, если бы не дочь Таня. Она и Сережа только что вернулись из заграницы. Таня затеяла спектакль в Ясной Поляне и просила отца разрешения поставить его комедию. 22 декабря 1889 года Толстой записал в дневнике: «Все три дня поправлял «комедию». Кончил. Плохо. Приехало много народу, ставят сцену. Мне это иногда тяжело и стыдно, но мысль о том, чтобы не мешать проявлению в себе божественного — помогает».
Но веселое оживление всей молодежи невольно захватило и Толстого. Главная затейница Таня будоражила всех в доме и с жаром принялась за постановку спектакля. Председатель Тульского окружного суда, Н. В. Давыдов, взялся режиссировать. Самарин, Цингер, Лопатин и другие распределили между собой роли. Во время репетиций Толстой часто отнимал у актеров рукопись и уносил к себе в кабинет, чтобы внести кое-какие поправки. Обе сестры Толстые играли превосходно, у Тани, несомненно, были артистические способности. Она всегда что-то изображала: нервную барыню, офицерскую жену, обезьяну или заводную куклу, и так художественно, что все помирали со смеху. В комедии она играла главную роль горничной. Маша прекрасно знала народный язык и превосходно играла ворчливую кухарку. Три мужика были настолько хороши и жизненны, что Толстой уверял, что актеры создали из ничего замечательные крестьянские типы.
«Дети хотели играть комедию, — писал Толстой Черткову 22 декабря 1889 года, — спросили, можно ли мою (Плоды просвещения). Я согласился. И начал поправлять и теперь кончил. Очень слабая это вещь, но может принести, думается, своего рода пользу. А впрочем совестно все, что занимался таким пустяком, когда так много, кажется, нужно. Рад только тому, что освободился от нее».
Приготовлений было много, построили сцену в зале, съехалось из Тулы много публики. Пьеса имела большой успех, местами публика покатывалась со смеху, но громче и заразительнее всех смеялся сам автор.
Но Толстой снова себя бичует. В дневнике от 27 декабря 1889 года он записал: «Играют мою пьесу и, право, мне кажется, что она действует на них и что в глубине души им всем совестно и от того скучно. Мне же всё время стыдно, стыдно за эту безумную трату среди нищеты».
В апреле 1890 года Н. В. Давыдов поставил комедию в г. Туле в пользу исправительного приюта. 19 апреля того же года пьесу ставили в Китайском театре в Царском Селе в пользу бедных города, в присутствии государя и государыни.
Но несмотря на это, даже эта невинная комедия подверглась цензурным репрессиям. На основании резолюции государя Александра III, гласившей, что Его Величество изволит находить эту пьесу неудобной для сцены, цензура разрешает ее ставить только в любительских спектаклях. Позднее постановка разрешалась по особым ходатайствам в каждом отдельном случае и только в 1894 году вышел отдельный циркуляр, разрешающий постановку «Плодов просвещения» во всех театрах Российской Империи.
Статья о непротивлении, впоследствии названная «Царство Божие внутри вас», двигалась медленно. Она была начата под влиянием Эдина Баллу, смерть которого огорчила Толстого как смерть самого близкого человека. Находить единомышленников, да еще за океаном, было одним из самых больших утешений в жизни Толстого.
«Царство Божие» он писал с перерывами. Его отвлекали другие замыслы: перевод и переделка рассказа Гюи де Мопассана «В порту» («Франсуаза»), статья «Для чего люди одурманиваются». В середине ноября Толстой писал Русанову: «Давно уже бьюсь над этим (статьей о непротивлении) и не могу кончить, и не могу оторваться и отдаться другим, манящим меня художественным планам». А 18 ноября он записывает в дневнике: «Хочется тоже свободное, художественное, но не позволяю себе, пока не кончу этого». 2 марта 1891 года Софья Андреевна записала в своем дневнике:
«Лёвочка грустен, я спросила почему, он говорит: не идет писание. — А о чем? — О непротивлении. Еще бы шло! Этот вопрос всем и ему самому оскомину набил, и перевернут, и обсужден он уже со всех сторон. Ему хочется художественной работы, а приступить трудно. Там резонерство уже не годится. Как попрет из него поток правдивого, художественного творчества — он его уже не остановит, а там вдруг непротивление окажется неудобным, а остановить поток невозможно, вот и страшно его пустить, а душа тоскует».1
1890 и 1891 годы были особенно напряженные в смысле отношений Толстого с женой. Зимой 1890 года яснополянские крестьяне вырубили и увезли несколько деревьев из леса, посаженного Толстым. Они были арестованы и преданы суду. Событие это потрясло Толстого. Никогда еще он не чувствовал с такой острой болью расхождения своих убеждений с фактическим положением вещей. Из-за его собственности, которую он отрицал, будут преданы суду и посажены в тюрьму крестьяне, срубившие деревья, может быть, по крайней нужде своей...
«...Я теряю равновесие, — писала Софья Андреевна в своем дневнике. — Ведь легко сказать, но во всякую данную минуту меня озабочивают: учащиеся и болящие дети, гигиеническое и, главное, духовное состояние мужа, большие дети с их делами, долгами, детьми и службой, продажа и планы Самарского имения — их надо достать и копировать для покупателей, издание новое и 13-ая часть с запрещенной «Крейцеровой сонатой», прошение о разделе с овсянников-ским попом, корректуры 13-го тома, ночные рубашки Мише, простыни и сапоги Андрюше; не просрочить платежи по дому, страхование, повинности по имению, паспорты людей, вести счеты, переписывать и пр. и пр. — и все это непременно непосредственно должно коснуться меня».2
Илья был молод, неопытен, хозяйство у него не шло, он завел охотничьих собак, хороших лошадей, жил сверху средств, жена его ожидала второго ребенка; Лева был больной, нервный, непостоянный в своих увлечениях, мать беспокоилась
о нем; Маша все еще стремилась выйти замуж за Бирюкова, и Софья Андреевна сердилась. Она не сочувствовала «опрощению» Маши, тому, что она начала сама стирать свое белье, изнуряла себя физической работой; мальчики учились скверно; Таня никак не могла устроить своей жизни, не находила человека, за которого могла бы выйти замуж, дружила с «темным» Поповым, явно влюбленным в нее; Ваничка хворал. В своем дневнике Софья Андреевна признается, что она не должна была подавать в суд на крестьян. Ничто не могло так огорчить «Лёвочку», как этот ее поступок.
«И вот, когда случится такая история, как в прошлую ночь, — писала она в дневнике про сцену, которая произошла между нею и мужем, когда они до пяти часов утра не могли успокоиться и упрекали друг друга, — я вижу, что я ошиблась, потеряла какую-то центральность и сделала больно Лёвочке совсем нечаянно. История эта, как и надо было ожидать, вышла из-за осужденных на шестинедельный арест мужиков за срубленные в посадке деревья. Когда мы подавали жалобу земскому начальнику, мы думали простить после приговора. Оказалось, уголовное дело — отменить наказание нельзя, и Лёвочка пришел в отчаяние, что из-за его собственности посадят мужиков Ясенских. Ночью он не мог спать, вскочил, ходил по зале, задыхался, упрекал, конечно, меня, и упрекал страшно жестоко».
Толстой хотел уйти из дома совсем, ночами мучился, не спал.
«Я думаю, что надо заявить правительству, — писал он в дневнике 16 декабря 1890 года, — что я не признаю собственности и прав, и предоставить им делать, как они хотят». Под «они» он подразумевал семью.
После этого события Толстой все сильнее и сильнее задумывался о том, как бы ему избавиться от этой, тяготившей его, собственности. Старшие сыновья, которым, особенно Илье, хотелось быть самостоятельными, поддерживали это решение. И вот, в апреле месяце, съехалась вся семья. Имущество было оценено и
разделено на девять частей. Младший в роду, Ваничка, получил по традиции половину Ясной Поляны с главным домом, Софья Андреевна получила остальную половину с флигелем; старший, Сергей, получил родовое имение Никольское-Вяземское; Маша, следуя принципам отца — отказалась от всякого имущества; Илья получил Чернское имение Гриневку, Лев — московский дом, Таня имение в, Овсянникове, находившееся в семи верстах от Ясной Поляны, и часть денег, Андрей, Миша и Саша получили Самарское имение.
Толстой писал одному своему другу об этом событии: «Теперь все собрались дети... и решили все делить имение... Я должен буду подписать бумагу, дарственную, которая меня избавит от собственности, но подписка которой будет отступлением от принципа. И все-таки подпишу, потому что, не поступив так, я бы вызвал зло».
Намерение Толстого отказаться от авторского права и передать свои произведения в общее пользование встретило резкий отпор со стороны Софьи Андреевны. Опять перед ней встал вопрос о «нищете», как она выражалась, о перемене всей жизни, на которую ни она, ни дети, за исключением Маши, не были приспособлены: болезненный Лев, привыкшая к роскоши и беззаботной жизни Таня, болезненный Ваничка. Как воспитать «малышей»? Как дать им образование? Она не была готова на такие жертвы. Она не могла этого сделать.
Если бы у нее не было такого страха перед этой, всегда мерещившейся ей нищетой, если бы она получила другое воспитание и знала бы, как миллионы других семей, не имевших ни наследства, ни постоянного дохода от сочинений, как жить, приучая своих детей с детства к рабочей дисциплине, она не боялась бы так, но другой жизни, иной чем та, к которой приучал ее сам Толстой, она не знала. Она не решалась пойти на уступки, передать часть земли крестьянам, хотя хозяйство всегда было в убыток. Она выросла в городе и не любила и ничего не понимала в земледелии, скотоводстве, садоводстве, и с тех пор, как Толстой перестал заведывать хозяйством, оно приходило во все больший и больший упадок. Она могла бы уступить и отдать в общее пользование без борьбы все те сочинения, которыми особенно дорожил Толстой, написанные им после 80-го года: его народные рассказы, его статьи, и уступить их с готовностью и любовью, что успокоило бы его. С какой радостью и благодарностью Толстой принял бы такую жертву! Но она этого не решалась сделать.
11 июля 1891 года Толстой писал жене:
«Я все это время думал составить и напечатать объявление об отказе в праве собственности от моих последних писаний, да все не думалось об этом; теперь же думаю, что, может быть, это будет даже хорошо в отношении упрека тебе со стороны публики в эксплоатации, как пишет артельщик, — если ты напечатаешь от себя в газетах такое объявление, можно в форме письма к редактору:
«Муж мой, Лев Николаевич Толстой, отказывается от авторского права на последние сочинения свои, предоставляя желающим безвозмездно печатать и издавать их. Сочинения эти следующие»: (за этим идет перечень всех народных рассказов, последних его статей, «Плоды просвещения», «Для чего люди одурманиваются», «Крейцерова соната», «Послесловие»).
«Делая это известным, прошу тех, которые хотят печатать эти сочинения, держаться того текста, который напечатан в моем издании. Примите уверение...
Гр. София Толстая».
«Я думаю, что это было бы хорошо, — добавляет Толстой в постскриптуме. — Но если это не нравится тебе, то не делай, не печатай от себя, а пусть будет от меня. Тогда так:
«М. Г. Отказываясь от авторского права на последние сочинения мои, я предоставляю всем желающим печатать и издавать их... Сочинения эти следующие:... Примите уверение и т. д.».
На это письмо Софья Андреевна делает следующее примечание:
«На предложения эти я тогда не согласилась, считая несправедливым обездоливать многочисленную, и так небогатую семью нашу. На руках же моих оставалось много уже напечатанных книг. Намерение свое Лев Николаевич исполнил уже без моего участия, от себя лично, в сентябре 1891 года».
Толстой писал Софье Андреевне в Москву, куда она ездила по своим книжным делам. По возвращении ее, он снова коснулся вопроса об отдаче авторских прав на последние свои произведения в общее пользование.
Совершенно вне себя Софья Андреевна упрекала мужа в том, что он не заботится о семье, что он на нее одну возложил всю тяжесть забот о доме, хозяйстве и издании, что он эгоистичен, что он со своими «темными» и своими прихотями сведет ее с ума, что она не хочет больше жить. Он же считал, что, отдавши все семье, он просит немногого — уступки самого для него дорогого, тоге, что он по своим убеждениям не может продавать те сочинения, которые он писал на благо людей и которые должны быть достоянием всех. Он умолял ее пойти на уступки, помочь ему...
Во время одного из таких бурных разговоров, когда Софья Андреевна не в состоянии была ни слушать, ни рассуждать, она, не помня себя, выскочила из дома и побежала на станцию пешком с намерением броситься под поезд. Ал. Мих. Кузминский, спокойно совершавший свою ежедневную прогулку, столкнулся с ней на большой дороге. Он сразу понял, что что-то случилось, успокоил Софью Андреевну и привел ее домой.
Дети все это видели и страдали каждый по-своему. Таня старалась примирить родителей. Она очень любила мать, но сочувствовала взглядам отца и умоляла мать пойти на уступки. Сергей старался отойти от всего этого. Илья был занят своими материальными заботами и семьей. Лев был больше на стороне матери. У Маши были плохие отношения с матерью, она была всецело предана отцу и страдала за него больше всех.
В своем дневнике от января 2-го, 1891 года Софья Андреевна писала: «Маша, вообще, — это крест, посланный Богом. Кроме муки со дня ее рождения, ничего она мне не дала. В семье чуждая, в вере чуждая, в любви к Бирюкову, любви воображаемой, — совсем непонятная».
Маша шла за отцом: она отказалась от своей части в разделе, она горела самоотречением и жертвенностью, убивала в себе плоть, спала на досках, покрытых тонким войлоком, вегетарианствовала и работала с утра до вечера то в поле, то уча детей, то помогая больным, несчастным, посещая крестьянские семьи, и всюду внося утешение и радость. В деревне все ее знали, большей частью звали ее «Машей» и говорили ей «ты». А вечерами Маша сидела и своим мелким, аккуратным почерком переписывала рукописи отца.
Случался ли пожар на деревне, горели ли крестьянские дети в скарлатине или дифтерите, овдовела ли какая-нибудь баба, Маша была тут как тут. И эта жизнь давалась ей нелегко. Она любила и теннис, и цыганские песни, хорошо играла на
гитаре, пела верным, но небольшим голосом, и у нее, как и у Тани, было много поклонников. Несмотря на ее некрасивое лицо, в ней было много прелести, женственности и скрытой страстности. Для матери Маша была — крест, для отца — она была утешением.
16 сентября 1891 г., после долгих колебаний и недоразумений с женой, Толстой все же решился исполнить свое намерение и отречься от сочинений последних лет.
«Милостивый Государь, — писал он в редакции газет. — Вследствие часто получаемых мною запросов о разрешении издавать, переводить и ставить на сцене мои сочинения, прошу вас поместить в издаваемой вами газете следующее мое заявление:
Предоставляю всем желающим право безвозмездно издавать в России и за границей, по-русски и в переводах, а равно и ставить на сценах все те из моих сочинений, которые были написаны мною с 1881 года и напечатаны в XII томе моих полных сочинений издания 1886 года, и в XIII томе, изданном в нынешнем 1891 году, равно и все мои неизданные в России и могущие вновь появиться после нынешнего дня сочинения».
В то время, как разыгрывалась эта внутренняя драма в семье Толстых и, казалось бы, что Толстым было не до гостей, образ жизни в Ясной Поляне не изменялся. За длинный стол садилось 10 — 14 человек. Те же пикники, верховая езда молодежи, многочисленные соседи, пение четы Фигнеров — соседей по имению, артистов императорской оперы, те же няни, поносы детей, их ссоры, капризы, приезды художников, скульпторов, профессора Грота, иностранцев... по вечерам пение с гитарами... чтение вслух, разговоры...
По утрам Толстой уходил от всего этого шума и оживления в свой новый кабинет. Он работал теперь в комнате, которая называлась «под сводами». При Н. С. Волконском это была кладовая. В сводчатый, низкий потолок были ввинчены тяжелые железные кольца, на которых вешались в старину домашние копченые окорока. Сводчатый кирпичный потолок не пропускал ни малейшего звука из других комнат. Свет проникал в комнату из двух высоких, с решетками, окон. У одного из окон — письменный стол, на стенах — рабочие инструменты: коса, пила, в углу ящик с сапожными инструментами. Стены голые, мебель простая, кожаная.
Но и здесь Толстой не мог спастись от людей. Тихо, не емея проронить ни одного слова, в уголке сидел И. Е. Репин с палитрой и писал. К нему присоединился, впервые приехавший, скульптор Гинцбург.
Со станции привезли тюки с глиной. Но оказалось, что в так называемой песочной яме, около шоссе, был не только песок, но и разных цветов прекрасная глина, не хуже покупной. В Ясной Поляне наступило увлечение лепкой. Лепили художники — Ге, Репин, Гинцбург, лепили Софья Андреевна и Лёва, лепили дети зверей и чашечки...
Софья Андреевна ворчала, что полы и мебель пачкали глиной, в зале и кабинете Толстого стояли, покрытые мокрыми тряпками, бюсты. Толстой терпеливо позировал.
Вот как это описывал Гинцбург в своих воспоминаниях: «Мы начали устраиваться. Я уселся возле И. Е. (Репина), который уже кончил свой портрет. Меня восхитила эта работа: обстановка комнаты, свет, падающий из окна, да и
сама фигура Л. Н-ча были написаны с удивительной правдивостью и мастерством» .
Гинцбург был прав: «Толстой в своем рабочем кабинете» — едва ли не лучший из когда-либо сделанных портретов Толстого.
«Признаться, мне очень трудно было работать, — рассказывает дальше Гинцбург; — опасение произвести шум заставляло меня сидеть на одном месте и не шевелиться, а между тем, для работы над круглой статуэткой необходимо двигаться и наблюдать натуру со всех сторон. Мне казалось, что наше присутствие стесняло Льва Николаевича»7.
Гинцбург не ошибался: разумеется, присутствие посторонних мешало Толстому писать. Гинцбург, как вьюн, вертелся вокруг своей статуэтки, прыгал, приседал, пятился, щурясь, точно прицеливался к Толстому. Он буквально не мог ни одной минуты сидеть на месте.
Гинцбург скоро сделался своим человеком и часто приезжал в Ясную Поляну, обычно вместе со своим другом, заведующим Художественным отделом Петербургской Публичной библиотеки, литературным критиком Владимиром Васильевичем Стасовым. — Трудно себе представить что-либо более противоположное по внешности, чем эти два друга. Гинцбург — маленький, смуглый, с горящими черными глазами, крошечными ручками, тоненьким голосом, скромный, лысый человечек, и Стасов — человек громадного роста, богатырского сложения, с длинной бородой и густой шевелюрой, сразу все заполняющий своим громогласней и восторженностью. Слова «маститый», «Лев Великий» не сходили с его уст, причем он говорил не просто, а громко вещал, изрекал, занимая внимание всех.
Бывали, однако, времена, когда и маленький, скромный Гинцбург овладевал вниманием всех, даже детей. Молча, не произнося ни слова, он изображал портного за работой. Делал вид, что вынимает материю, отмечает мелком, кроил, тачал, наметывал, отсиживал ногу, скакал по комнате, чтобы нога проснулась и, кончив работу, с легкостью вскакивал с ногами на стул и затягивал песенку. Все покатывались со смеху и кричали: «Еще, еще! Изобразите даму!» И он опять изображал даму.
Из всех трех бюстов, находящихся и по сию пору в Ясной Поляне, Толстой считал, что самый лучший — работы Н. Н. Ге, но некоторые знатоки признавали первенство за Гинцбургом. Репинский бюст также вышел очень удачным, но эта работа померкла по сравнению с его картиной «Толстой в его рабочем кабинете».
Уже в июле в Ясной Поляне пошли разговоры о голоде. А 9 сентября 1891 года Софья Андреевна пишет мужу из Москвы:
«Дунаев и Наташа* рассказывали о голодающих и опять мне все сердце перевернуло, и хочется забыть и закрыть на это глаза, а невозможно; и помочь нельзя, слишком много надо. А как в Москве это ничего не видно! Все то же, та же роскошь, те же рысаки и магазины и все всё покупают и устраивают, как и я, пошло и чисто свои уголки, откуда будем смотреть в ту даль, где мрут с голода. Кабы не дети, ушла бы я нынешний год на службу голода, и сколько бы ни прокормила, и чем бы ни добыла, а все лучше, чем так смотреть, мучиться и не мочь ничего сделать».8
Так писала Софья Андреевна, не думая о том, что и муж ее и она в последующие месяцы уйдут с головой в помощь этим умирающим с голода людям,
* Наталья Николаевна Философова, сестра жены Ильи Львовича.
и что именно на этой-то совместной работе они снова, хоть на время, найдут друг друга.
Толстому всегда претила благотворительность — самооправдание, самоутешение людей праздных, богатых, бросающих крохи голодным, несчастным. В молодости он чуть не подрался на дуэли с Тургеневым из-за спора о благотворительности.
«Дети иногда дают бедным хлеб, — писал он в дневнике в конце июня 1891 года, — сахар, деньги и сами довольны собой, умиляются на себя, думая, что они делают нечто доброе. Дети не знают и не могут знать, откуда хлеб, деньги. Но большим надо бы знать это и понимать то, что не может быть ничего доброго в том, чтобы отнять у одного и дать другому. Но многие большие не понимают этого».
«...Добрых дел нельзя делать вдруг по случаю голода, а что если кто делает добро, тот делал его и вчера, и третьего дня, и будет делать его и завтра, и послезавтра, и во время голода, и не во время голода».
Так писал Толстой Лескову в ответ на его письмо, когда Лесков обратился к Толстому с вопросом об угрозе голода в Самарской, Рязанской и Тульской губерниях.
Уже среди лета 1891 года стало совершенно очевидно, что пшеница и рожь выгорели и неурожай грозил страшным бедствием.
Несмотря на все свои рассуждения о том, что временная помощь голодающим не имеет смысла, что надо любить людей, изменить жизнь, и тогда не будет бедствий, потому что люди в корне изживут неравенство и бедность, вопрос о голоде все сильнее и сильнее тревожил Толстого. Из голодающих мест Рязанской губернии приехал знакомый Толстых, Иван Иванович Раевский. Он умолял Толстого помочь крестьянам в этом бедствии. В сентябре Толстого посетил еще один его знакомый и своими рассказами о голоде совсем расстроил Толстого. «Не спал до 4-х часов — все думал о голоде», — записал Толстой в дневнике 17 сентября. Через два дня после этого посещения он поехал к брату в Пирогово, где уже началась степная полоса, захваченная неурожаем, и оттуда проехал в другие степные уезды. Вернувшись затем на несколько дней в Ясную Поляну, он взял 500 рублей у Софьи Андреевны на первую помощь и снова уехал в голодные места Тульской и Рязанской губерний.
Толстой уже не мог оставаться бездеятельным. Со свойственным ему жаром он принялся за дело. Написал статью о голоде, которую послал Гроту для напечатания, а сам с дочерьми, Машей и Таней, и племянницей Верой Кузминской, уехал в Бегичевку, в имение И. И. Раевского. Сын Лев уехал одновременно в голодные районы Самарской губернии.
Вначале Софья Андреевна бурно протестовала против отъезда мужа с дочерьми в Рязанскую губернию.
«Когда они приехали и объявили мне, — пишет Софья Андреевна в своем дневнике от 8 октября 1891 г., — что в Москву не поедут, а будут жить в степи, я пришла в ужас. Всю зиму врозь, да еще 30 верст от станции, Лёвочка с его припадками желудочной и кишечной боли, девочкам в этом уединении, а мне с вечным беспокойством о них. Меня это до того поразило, едва один вопрос кое-как, с болью, разрешился... опять новый вопрос, новое решение. Я заболела от этого. С другой стороны, Лева написал, не зная еще о решении ехать к
Раевскому, чтоб мы все оставались в Ясной, что мой приезд в Москву помешает им троим учиться, что я совсем не нужна. Это был новый предлог моему горю. 29 лет жила я только для семьи; отреклась от всего, что составляет радость и полноту жизни всякого молодого существа, и стала никому не нужна. Сколько я плакала все это время! Видно, я очень плоха; но как же я так много любила, а любовь считается хорошим чувством...»'
Дочь Таня также вначале не сочувствовала отцу. В октябре 1891 г. она записала в дневнике: «Мы накануне нашего отъезда на Дон. Меня не радует наша поездка, и у меня никакой нет энергии. Это потому, что я нахожу, что действия папа не последовательны и что ему непристойно распоряжаться деньгами, принимать пожертвования и брать деньги у мама, которой он только что их отдал. Я думаю, что он сам это увидит. Он говорит и пишет, и я тоже думаю, что все бедствие народа происходит от того, что он ограблен и доведен до этого состояния нами, помещиками, и что все дело состоит в том, чтобы перестать грабить народ. Это, конечно, справедливо, и папа сделал то, что он говорит, — он перестал «грабить». По-моему, ему больше и нечего делать. А брать у других эти награбленные деньги и распоряжаться ими, по-моему, не следует... Да еще, что меня огорчает — папа говорит, что если нам нужны будут деньги, то он что-нибудь напишет в журнал и возьмет деньги. Я ему не говорю, что я думаю, потому что, может быть, я не права, — а если он сам... до этого не додумается, он со мной не согласится. Он слишком на виду, — все слишком строго его судят, чтобы ему можно было выбирать second best,* особенно когда у него уже есть first best.** Если бы я одна действовала, то с какой энергией я взялась бы за second best, не имея first best, а с ним вместе не хочется делать то, что с ним не гармонирует. Я рада, что у меня нет чувства осуждения и неприязни к нему за это, а только недоумение и страх за то, что он ошибается. А может быть и я? Это гораздо вероятнее».2
Но сомнения, как матери, так и дочери, очень скоро рассеялись. Софья Андреевна принялась за дело с жаром и энергией, свойственными ее характеру.
3 ноября она написала в редакцию «Русских Ведомостей» воззвание, с просьбой жертвовать на голодающих. Письмо это было перепечатано во всех газетах в России и за границей.
«Вся семья моя разъехалась служить делу помощи бедствующему народу, — писала она. — Муж мой, граф Л. Н. Толстой, с двумя дочерьми, находится в настоящее время в Данковском уезде с целью устроить наибольшее количество бесплатных столовых или «сиротских призрении», как трогательно прозвал их народ. Два старших сына, служа при Красном Кресте, деятельно заняты помощью народу в Чернском уезде, а третий сын уехал в Самарскую губернию открывать, по мере возможности, столовые.
Принужденная оставаться в Москве с четырьмя малолетними детьми, я могу содействовать деятельности семьи моей лишь материальными средствами. Но их нужно так много! Отдельные лица в такой большой нужде бессильны. А между тем каждый день, который проводишь в теплом доме, и каждый кусок, который съедаешь, служат невольным упреком, что в эту минуту кто-нибудь умирает с голоду. Мы все, живущие здесь в роскоши и не могущие даже выносить вида
* Второстепенное добро (англ.).
** Первостепенное добро (англ.).
малейшего страдания собственных детей наших, неужели мы спокойно вынесли бы ужасающий вид притуплённых или измученных матерей, смотрящих на умирающих от голода и застывших от холода детей, на стариков без всякой пищи? Но все это видела теперь моя семья. Вот что, между прочим, пишет мне дочь моя из Данковского уезда об устройстве местными помещиками на пожертвованные ими средства столовых:
«Я была в двух. В одной, которая помещается в крошечной курной избе, вдова готовит на 25 человек. Когда я вошла, то за столом сидело пропасть детей и, чинно держа хлеб под ложкой, хлебали щи. Им дают щи, похлебку и иногда холодный свекольник. Тут же стояло несколько старух, которые дожидались своей очереди. Я с одной заговорила, и как только она стала рассказывать про свою жизнь, то заплакала, и все старухи заплакали. Они, бедные, только и живы этой столовой, — дома у них ничего нет, и до обеда они голодают. Дают им есть два раза в день, и это обходится, вместе с топливом, от 95 коп. до 1 руб. 30 коп. в месяц на человека»...
«Следовательно, за 13 рублей можно спасти от голода до нового хлеба человека».3
И не успела Софья Андреевна оглянуться, как со всех сторон посыпались пожертвования. Меньше чем за две недели поступило более 13 000 рублей. В том числе отец Иоанн Кронштадтский прислал 200 рублей. Присылали и приносили сухари, вещи, материи, одежду... К многочисленным заботам Софьи Андреевны прибавилась колоссальная переписка и отчеты о поступающих средствах.
«Очень трогательно приносят деньги, — пишет Софья Андреевна мужу 4 ноября 1891 года. — Кто, войдя, перекрестится, и даст серебряные рубли; кто (один старик) поцеловал мне руку и говорит, плача: «Примите, милостивейшая графиня, мою благодарность и посильную лепту». Дал 40 рублей. Учительницы приносили, и
одна говорит: «Я вчера плакала над вашим письмом». А то приехал на рысаке барин, богато одетый, встретил Андрюшу в дверях, спросил: «Вы сын Льва Николаевича? — Да. — Ваша мать дома? Передайте ей», и уехал. В конверте
100 рублей. Дети приходили и приносили 3, 5, 15 рублей. Одна барыня принесла узел с платьем старым. Одна нарядная барышня, захлебываясь, говорила: «Ах, какое вы трогательное письмо написали! Вот, возьмите, это мои собственные деньги; папаша и мамаша не знают, что я их отдаю. А я так рада!» В конверте
101 рубль 30 копеек. Брашнин привез 200 рублей.
Не знаю, как вы все посмотрите на мою выходку. А мне скучно стало сидеть без участия в вашем деле, и я со вчерашнего дня даже здоровее себя чувствую; веду запись в книге, выдаю расписки, благодарю, разговариваю с публикой, и рада, что могу помочь распространению вашего дела, хотя чужими средствами».4
В начале ноября Толстой отправил в «Русские Ведомости» вторую свою статью: «Страшный вопрос», в которой он затрагивает беспокоивший его вопрос: «Есть ли в России достаточно хлеба, чтобы прокормиться до нового урожая?».
Но Толстой напрасно беспокоился — в России хлеба было вдоволь, и он очень скоро в этом убедился.
Чем больше Толстой и его помощники входили в положение крестьян, тем сложнее и разнообразнее разворачивалась их деятельность. Толстой был против выдачи муки на руки — больше злобы и зависти среди людей. Открывать столовые для голодных было и практичнее и справедливее. Можно было до известной степени выяснять нужду и кормить только тех, у кого совсем не было хлеба. Наряду с кормлением, скоро возникли другие нужды: сено для лошадей, околевавших с голода, подсобные заработки, топливо для крестьян и мн. др. Продовольствие: рожь, пшеницу, горох, картофель — выписывали из других губерний. Работа кипела. Не хватало помощников.
Постепенно к Толстому стали стекаться его единомышленники, студенты, молодежь, горевшая желанием помочь в общем бедствии. Обе сестры Толстые работали самоотверженно. Сомнения Тани быстро рассеялись и она всей душой отдалась делу, хотя по свойствам своего характера, воспитания и некоторой избалованности ей труднее было примениться к обстановке, чем Маше, которая, не рассуждая, шла за отцом и для которой лишения и трудности были тем, чего искала душа ее — жертвенности в служении отцу и людям.
В этот же короткий период осени 1891 года Толстые потеряли двух близких и преданных друзей: умер друг детства Толстого, А. А. Дьяков, и хозяин Бегичевки, приютивший Толстых и сблизившийся с ними на общей работе, Иван Иванович Раевский.
Ни одно доброе дело никогда не делалось без того, чтобы вокруг него не было больших трудностей, злобы, неприятностей. Правительство усмотрело в деятельности Толстого намерение ниспровергнуть существующую власть. Победоносцев писал государю: «Теперь у этих людей проявились новые фантазии и возникли новые надежды на деятельность в народе по случаю голода. За границею ненавистники России, коим имя легион, социалисты и анархисты всякого рода, основывают на голоде самые дикие планы и предположения, — иные задумывают высылать эмиссаров для того, чтобы мутить народ и восстановлять против правительства; немудрено, что, не зная России вовсе, они воображают, что это легкое дело. Но и у нас немало людей, хотя и не прямо злонамеренных, но безумных, которые предпринимают по случаю голода проводить в народ свою веру
и свои социальные фантазии под видом помощи. Толстой написал на эту тему безумную статью, которую, конечно, не пропустят в журнале, где она печатается, но которую, конечно, постараются распространить в списках...».5
В «Московских Ведомостях» появились статьи: «Семейство его сиятельства графа Л. Н. Толстого», «План графа Л. Н. Толстого» и «Слово общественным смутьянам».
Софья Андреевна взволновалась: «Сегодня «Московские Ведомости» чуть ли не революционером тебя выставили за твою статью, — писала она мужу 9 ноября. — С какой подлостью они и тут видят какую-то политическую подкладку. Меня тоже они выбранили за письмо. Только злом и жива эта газета».6
Она никак не могла успокоиться. «Сегодня пишу письмо министру внутренних дел по поводу статей «Московских Ведомостей». По-моему, они зажигают революцию своими статьями, приравнивая Толстого, Грота и Соловьева к какой-то воспрянувшей, по их мнению, либеральной партии, которая, воспользовавшись народным бедствием, хочет что-то делать в смысле политическом. Рассказать всю эту подлость — трудно. Достаньте «Московские Ведомости» 9 и 11 ноября и прочтите. Мысль, которую я хочу провести министру, есть та, что если революционерам указывают на эту мнимую опору лучших представителей интеллигенции и нравственного влияния на общество, то они поверят своему счастью и поднимутся опять. А в настоящее время это ужасно и даже опасно. — Я только вчера узнала, что двое из главных деятелей «Московских Ведомостей» были рьяные революционеры и надели теперь личину правительственно-православную*. И как они видны из-под этой личины!» — писала Софья Андреевна своим в Бегичевку.
В другом письме она пишет:
«Милый друг Лёвочка, вы живете там в тишине, и не подозреваете, какую тут грозу на вас направили. Сейчас был Грот, он говорил, что во все газеты послан приказ из Главного управления по делам печати, чтобы никакую статью Толстого не печатать нигде. «Московские Ведомости» прокричали тебя революционером за «Страшный вопрос», и злобе в сферах правительства и «Московских Ведомостей» нет границ. И как это правительство не видит, что «Московские Ведомости» систематически готовят революцию — тогда спохватятся».8
Недаром Толстой писал всем своим друзьям — Н. Н. Ге, Черткову, Русанову, что он сошелся с женой на деле кормления голодных так, «как никогда не сходился». Как орлица, защищающая своих птенцов, Софья Андреевна готова была броситься на любого врага в защиту того, что делалось ее семейством. Постепенно, сама того не замечая, она со всей страстностью своей натуры, несмотря на занятость, постоянные болезни Ванички и заботы о других детях, погрузилась в то же дело, которое на местах проводилось ее мужем и детьми.
«Но теперь вот в чем вопрос, — писала она в том же письме от 17 ноября 1891 года, — статья о столовых крайне необходима. Я читаю публике выписки из ваших писем, все страшно интересуются. Статьи твои запрещены. Выхода два: пусть будет подписано: Татьяна Толстая. Она ведь хотела тоже писать, или дай я пошлю государю цензоровать самому. Только вложи в статью побольше чувства, ты это так умел прежде, когда был художник; разбуди его — и забудь о всяком задоре и тенденции. Как чувство самое маленькое получает немедленно отголо-
* Лев Тихомиров.
299
сок — это поразительно! Мужички самарские пришли и в восторге, что я их поместила; и я в восторге. Вчера писала Маше. Сашу все лихорадит, остальные здоровы. Снег валит».9
Ввиду этого распоряжения не печатать ни одной статьи Толстого, следующую статью пришлось пустить за подписью Т. Толстая. В Бегичевку наведывался исправник, неожиданно приехали два священника, командированные к Толстому тульским архиереем для проверки его деятельности. Правая черносотенная печать распоясывалась все больше и больше. Выдержки перевода статьи о голоде, посланные Толстым англичанину Диллону для напечатания, были переведены «Московскими Ведомостями» на русский язык и перепечатаны с подобающими комментариями.
«Письма графа Толстого, — писали «Московские Ведомости», — не нуждаются в комментариях: они являются открытой пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя, который, с весьма понятною целью, приписывается графом одной только России. Пропаганда графа есть пропаганда самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда... Но подпольные агитаторы стремятся к мятежу, — писали далее «Московские Ведомости», — выставляя в виде приманки «конституцию», как средство к тому хаосу, о котором они мечтают, а граф открыто проповедует программу социальной революции, повторяя за западными социалистами избитые, нелепые, но всегда действующие на невежественную массу фразы о том, как «богачи» пьют пот народа, пожирая все, что народ имеет и производит!».10
Взбаламутились мелкие придворные людишки, всегда ютящиеся около горнила власти, пошли разговоры об аресте Толстого, заключении его в Суздальский монастырь, начались обыски и аресты его единомышленников. За Толстым и его помощниками был учрежден самый тщательный надзор местной полиции. Местные священники распространяли слухи, что Толстой и его последователи «антихристовы дети», в Бога не веруют, не молятся, что они явились на голод, «чтобы соблазнить народ», и что «нужно их избивать». Молодые девушки, Маша, Таня, Вера Величкина, и не подозревали, какая травля шла за их спиной и какие им грозили опасности. Но крестьяне, природным умом своим, прекрасно разбирались в истине. «Какие же это антихристовы дети, это ангелы Божьи, которых нам послал Господь», — заявил один из крестьян.
Взволновалась и «бабушка» Александра Андреевна Толстая.
«Можно себе представить, — писала она в своих воспоминаниях, — с каким демонским злорадством московские крысы ухватились за эту статью, перепечатав ее в своих «Ведомостях», со своими комментариями и придавая мыслям автора совершенно другой и, разумеется, худший смысл. Не берусь описывать, какой сумбур последовал во всей Европе из-за этой статьи и сколько было придумано наказаний бедному Льву Николаевичу. Сибирь, крепость, изгнание, чуть ли не виселицу предсказывали ему московские журналисты...»
«И вот, — писала она дальше, — когда я узнала и увидела, какой опасности может подвергнуться Лев Николаевич..., я решила употребить все свое влияние, чтобы его спасти. Я написала государю, что мне очень нужно его видеть, и просила назначить мне для этого время. Представьте мою радость, когда я вдруг получила ответ, что в тот же день государь зайдет ко мне сам.
Я была сильно взволнована, ожидая его посещения, и мысленно просила Бога
помочь мне. Наконец, государь вошел. Я заметила, что лицо его утомлено и он был чем-то расстроен. Но это не изменило моего намерения и лишь придало мне большую решимость. На вопрос государя, что я имею сказать ему, я ответила прямо:
— На днях вам будет сделан доклад о заточении в монастырь самого гениального человека в России.
Лицо государя мгновенно изменилось: оно стало строгим и глубоко опечаленным.
— Толстого? — коротко спросил он.
— Вы угадали, государь, — ответила я.
— Значит, он злоумышляет на мою жизнь? — спросил государь»13.
Но, поняв в чем дело, государь дал распоряжение не трогать Толстого.
«Я нисколько не намерен сделать из него мученика и обратить на себя всеобщее негодование. Если он виноват, тем хуже для него».14
Но брожение умов продолжалось. Граф Ламздорф, советник при министре иностранных дел, записал в дневнике, что со всех сторон просили номер «Московских Ведомостей» со статьей Толстого, которую «нельзя приобрести ни за какие деньги; говорят, в Москве за номер этой газеты предлагают до 25 рублей».15
Софья Андреевна не могла успокоиться и поехала к Вел. Князю Сергею Александровичу, прося его дать распоряжение «Московским Ведомостям» напечатать опровержение статьи о Толстом. Но Сергей Александрович ответил, что Толстой должен сам это сделать, и Софья Андреевна умоляла мужа ответить на статью в «Московских Ведомостях».
12 февраля 1892 года Толстой писал жене:
«Как мне жаль, милый друг, что тебя так тревожат глупые толки о статьях «Московских Ведомостей», и что ты ездила к Сергею Александровичу. Ничего ведь не случилось нового. То, что мною написано в статье о голоде, писалось много раз в гораздо более сильных выражениях. Что ж тут нового? Это все дело толпы, гипнотизация толпы, нарастающего кома снега. Опровержение я написал. Но, пожалуйста, мой друг, ни одного слова не изменяй и не прибавляй, и даже не позволяй изменить. Всякое слово я обдумал внимательно и сказал всю правду, и вполне отверг ложное обвинение».
В своей статье Толстой писал:
«Выписка же, приписываемая мне и напечатанная мелким шрифтом, есть... очень измененное (вследствие двукратного — сначала на английский, а потом на русский язык — слишком вольного перевода) место из моей статьи о голоде, приготовленной для русского журнала, но не пропущенной цензурой...» «Место же, — заключает Толстой свое письмо, — напечатанное крупным шрифтом вслед за выпиской из неверного перевода моей статьи и выдаваемое за мысль, выраженную мною во втором, будто бы, письме о том, как должен поступить народ для избавления себя от голода, — есть сплошной вымысел. В этом месте составитель статьи-... пользуется моими словами, употребленными в совершенно ином смысле, для выражения не только чуждой, но и противной всем моим убеждениям мысли».
Но и это не вполне удовлетворило Софью Андреевну. Она сообщает мужу, что «Тут говорят, что расстроенная молодежь, усумнившаяся в тебе, рвет твои портреты и т. д. Вот, что жаль, и вот что следует восстановить»16 и пишет в заграничную печать разъяснение по поводу слухов об аресте Толстого: «Высшая власть была всегда особенно благосклонна к нашей семье».17
«Пожалуйста, не принимай тона обвиненной, — пишет Толстой жене 28 февраля 1892 года. — Это совершенная перестановка ролей. Можно молчать. Если же не молчать, то можно только обвинять — не «Моск. Ведом.», которые вовсе не интересны, и не людей, а те условия жизни, при которых возможно все то, что возможно у нас».
Чем глубже Толстой входил в положение крестьян, тем больше, как это всегда бывает, дело развивалось. Организовывались сотни столовых, но, наряду с кормлением людей, возникали все новые и новые нужды. Толстого пугало вынужденное безделие крестьян. Надо было им дать занятие. Толстой выписал лыко для плетенья лаптей, холст для шитья одежды. Он видел, что падают от бескормицы лошади. Надо было достать сена, часть лошадей переправить в места, не задетые неурожаем, где можно было их прокормить. Надо было раздобыть крестьянам топливо. Все это закупалось друзьями Толстого и вагонами доставлялось в голодные места.
«Другое дело, — писал Толстой жене 26 февраля, — это устройство приютов для маленьких детей от 1 до 3-х лет, или скорее — разливной, с молочной кашкой на крупе и пшене, которые устраиваются и принимают определенную форму. Я напишу подробнее, когда это совсем пойдет. Вообще нужно опять написать отчет о пожертвованиях, и о том, что сделано. А сделано, как оглянешься назад с того времени, как писался последний отчет, не мало. Столовых более 120 разных типов: устраиваются детские; с завтрашнего дня поступают на корм лошади, и много сделано разными способами в помощи дровами. Часто страшное испытываешь чувство: люди вокруг не бедствуют, и спрашиваешь себя: зачем же я здесь, если они не бедствуют? Да они не бедствуют то от того, что мы здесь, и через нас прошло — как мы умели пропустить — тысяч 50...».
Несмотря на трудности, вся семья Толстых, участвовавшая в помощи голодающим, испытывала большую радость от своей работы. Все лучшее, что было в России, сочувствовало Толстому, помогало пожертвованиями, каждый по своим возможностям. Жертвовали и из заграницы — Англии, Америки. От добровольных помощников, желавших помочь своим трудом — отбоя не было. Работали с подъемом, с воодушевлением.
Первыми откликнулись последователи Толстого: Бирюков, Попов, братья Алехины, Новоселов, Гастев и другие. С жаром начала работать и молодежь-студенты, курсистки, неопытные, не знавшие деревни: то, что было легко и естественно для Толстых, трудно давалось горожанам. Они не умели подойти к крестьянам, их понять и быть ими понятыми, они боялись ездить по далеким деревням в метель и сильный мороз, не умея править лошадьми, распрячь, запрячь, вытащить лошадь с санями из снежного сугроба. Но постепенно люди привыкали к обстановке и приспосабливались.
Жили дружно, одной семьей. По вечерам все собирались вместе, иногда читали вслух, беседовали, обменивались событиями и впечатлениями дня, играли в шахматы. По утрам Толстой продолжал писать свою статью «Царство Божие внутри вас» и обе дочери по-прежнему переписывали ему рукописи.
Гроза, пронесшаяся над головой Толстого, прошла для них почти незаметно — они были слишком погружены в свое дело; нужда и горе людей, которых они обслуживали, поглощали всецело их внимание.
Молодежь объединялась вокруг Тани и Маши. Скучно не было. Молодость брала свое. Петя Раевский, красивый молодой человек, студент-медик, любитель
охоты и цыган, влюбился в Машу, и она благосклонно принимала его ухаживание. Попов страдал, не смел открыто ухаживать за Таней — он был женат. Маша подружилась с молоденькой курсисткой-медичкой, Верой Величкиной, приехавшей работать на голодающих, и поверяла ей все свои сердечные тайны. Вера Величкина была одной из тех самоотверженных, немного восторженных девушек, которых было много в России. Большею частью некрасивые, выросшие в бедных интеллигентных или полуинтеллигентных семьях, они уже с ранней молодости стремились служить народу. Одни — шли в учительницы, другие — в фельдшерицы, третьи примыкали к революционерам и видели свое призвание и цель в ниспровержении существующего строя и революции. Выдержка, жертвенность и стойкость такого рода женщин поразительны, в какой бы области они ни работали; они себя отдавали делу до конца, не жалея ни сил, ни времени, ни здоровья. Они жаждали подвига, жертвенности. Вера Величкина отдалась служению голодающим с таким же жаром, с каким позднее отдалась революции, вступив в партию социал-демократов большевиков*.
Так же, как и в Ясную Поляну, в Бегичевку приезжало множество посетителей. В своих воспоминаниях Вера Величкина описьшает некоторых из них:
«...На другой день к нам приехало еще двое гостей, которые встретились и познакомились на станции, что было приятной неожиданностью для одного из них, не понимавшего ни слова по-русски, шведа по происхождению, Стадлинга. Он был корреспондентом одной из английских газет и явился в нашу глушь, чтобы видеть Льва Николаевича и познакомиться с его деятельностью в деле помощи голодающим крестьянам... Я показала Ек. Ив. и Стадлингу столовые в Бегичевке. Столовые имели такой уютный вид. Хлеб был такой хороший и нас так приветливо встретили, что все им ужасно понравилось. Стадлинг оставался у нас после около двух недель в Бегичевке и пришелся по душе всем сотрудникам. Положение нашего крестьянства произвело на него сильное впечатление. Еще по дороге к нам со станции, при виде наших бесконечных, пустынных полей, он с изумлением спрашивал свою спутницу: а где же работники этих полей? Потом он, не зная ни слова по-русски, уехал в Самарскую губернию, где тогда свирепствовал голодный тиф, и принял самое горячее участие в уходе за больными. Но всех наших окрестных крестьян он порядочно напугал. Благодаря агитации местного духовенства против Льва Николаевича, они жили все время в ожидании пришествия антихриста, который будет их соблазнять и накладывать свои печати. Стадлинг ходил в лапландском костюме, мехом вверх, что придавало ему не совсем обычный вид. Говорить по-русски он не умел, и, кроме того, у него был маленький фотографический аппарат, которым он делал снимки с заинтересовавших его типов и групп крестьян. Результатом всего этого было то, что население приняло его за антихриста и, когда я после приехала в те деревни, которые он посетил, мне там рассказывали, как у них был антихрист и накладывал свою печать. Посмотрит пристально на кого-нибудь и щелкнет своей печатью. — А потом, — добавляли они, — всех, кого он припечатал, назначат к выселению. И мы теперь уж и не знаем, что делать...».1
1 мая 1892 г. Толстой писал жене в Москву:
«Три дня тому назад явился к нам старик, 70-лет швед, живший 30 лет в Америке, побывавший в Китае, в Индии, в Японии. Длинные волоса, желтоседые,
* Она стала впоследствии женой Влад. Дм. Бонч-Бруеввча, личного секретаря Ленина.
такая же борода, маленький ростом, огромная шляпа; оборванный, немного на меня похож; проповедник жизни по закону природы. Прекрасно говорит по-английски, очень умен, оригинален и интересен. Хочет жить где-нибудь (он был в Ясной), и научить людей, как можно прокормить 10 человек одному с 400 сажен земли, без рабочего скота, одной лопатой. Я писал Черткову о нем, и хочу его направить к нему. А пока он тут копает под картофель и проповедует нам. Он вегетарианец без молока и яиц, предпочитая все сырое. Ходит босой, спит на полу, подкладывает под голову бутылку и т.п....»
Швед не ел не только мяса и рыбы, но даже молока и яиц, и «когда за завтраком подали большой самовар, — писал в своих воспоминаниях один из единомышленников Толстого Скороходов, — швед поднялся и, как пророк, с укоризной произнес, указывая на самовар: «И вы поклоняетесь этому идолу! Я имею миссию от китайцев, которые страдают от того, что лучшие их земли заняты чайными плантациями и негде им сеять хлеба насущного. Это происходит от спроса на чай. Вы должны отказаться от употребления чая, если вы знаете, что, употребляя чай, вы этим участвуете в отнятии насущного хлеба у наших братьев китайцев». Лев Николаевич со смущением перевел нам это с английского и предложил последовать этому призыву. Перестал сам пить чай, его заменили ячменным кофе, и самовар был убран».
Швед считал, что земля общая, как воздух, и каждый человек имеет право на известное количество земли и имеет право по своему выбору жить, где хочет. Швед этот долго жил в Нью-Йорке, где у него был свой дом. Один раз он услыхал, «как бедная женщина, нанимавшая в одном из его домов подвальный этаж, жаловалась на свою судьбу и проклинала его, богатого кровопийцу, за то, что он, давая им сырое подземелье, за это отнимает у нее последние ее гроши.» Я почувствовал правду ее слов, и мое душевное спокойствие нарушилось. Я перестал быть счастливым. Так как наше назначение на земле — счастье, то я и спросил себя: зачем мне мои богатства, если они приносят мне страдания? И я подумал; как сделать, чтобы опять быть счастливым? И я решил отдать все квартиры моего дома даром. Женщина, упрекавшая меня, стала упрекать меня еще сильнее: «А кто заплатит мне за те годы горя и лишений, — кричала она, — которые мы терпели, когда, угрожая нам выселением из сырого подвала на улицу, этот кровопийца вымогал у нас наши потом и кровью добытые деньги?». Вместо счастья, начался ад. Тогда я бежал. Я уехал в Индию и жил там своим трудом. Там я услыхал о Толстом. That's the man for me! Вот это человек для меня! — подумал я. — Я буду жить у него и учить его детей физиологии, для того, чтобы они узнали законы природы и научились жить согласно им и быть счастливыми. Буду у него работать на земле... Вот что я подумал и отправился к нему. И вот я здесь...».2
Швед прочно вселился в дом Раевских и не собирался уезжать. Хозяева начали тяготиться им, но Толстой заинтересовался шведом. Он находил, что он похож на пророка Иеремию, что во многом он прав, и даже заразился его теорией, перестал употреблять молоко и масло и решил есть все сырое. Эксперимент этот закончился тем, что у Толстого сделались страшные боли в животе от каких-то, приготовленных шведом, сырых лепешек. Приехавшая на несколько дней в Бегичевку Софья Андреевна пришла в ужас, увидав грязного, лохматого, босого, полуголого старика, мирно спящего под столом на полу. «Это еще что за голые ноги?» — спросила она, — «Лежит, как корова, на траве, копает землю, полощется в Дону, ест очень много, лежит в кухне — и только. Мы ему очень деликатно
сказали, что... ему надо уезжать, и он обещал уехать».21 Так писала Софья Андреевна дочери Тане, уехавшей отдохнуть к своим друзьям Олсуфьевым.
Из Бегичевки шведа выдворить не удалось и, к ужасу Софьи Андреевны, он позднее, следом за Львом Николаевичем, появился в Ясной Поляне. Оттуда он переселился в Овсянниково, маленькое соседнее имение Татьяны Львовны, и только отъезд осенью всей семьи Толстых и наступившие холода заставили его подняться с места и бесследно скрыться с горизонта Толстых.
Американцы откликнулись на призыв Толстого о помощи. Приехавший из Каномо американец обещал Толстому прислать два вагона муки. Посылала Толстому деньги американская журналистка Hapgood, посетившая Толстого в 1891 году и впоследствии переводившая целый ряд его сочинений на английский язык.
Приезжали к Толстому англичане квакеры, всегда готовые помочь людям в беде, любопытствующие американки-туристки...
В середине апреля появился отчет Толстого о его работе на голодающих за шесть месяцев:
Открытие 187 столовых, в которых кормилось около 10 000 человек.
Раздача дров населению.
Кормление лошадей населения.
Раздача льна и лыка для работ.
Столовые для детей, от грудных до 3-летнего возраста.
Выдача крестьянам семян и картофеля для посева.
Покупка лошадей и их раздача.
Всего собрано было 141 000 рублей, истрачено 108 000.
С конца мая Толстой проводил время между Ясной Поляной и Бегичевкой, но работа в помощь населению продолжалась в нескольких уездах Тульской и Рязанской губерний. Одновременно в Самарской губернии работали сын Лев и П. И. Бирюков.
Осенью 1892 года бедствия крестьян продолжались, хлеб снова не уродился и крестьянские закрома были пусты. Свирепствовал тиф. Помощь необходимо было продолжать.
«Так что же? — заканчивал Толстой свой осенний отчет. — Неужели опять голодающие? Голодающие! Столовые! Столовые! Голодающие! Ведь это уже старо и так страшно надоело.
Надоело вам в Москве, в Петербурге, а здесь, когда они с утра до вечера стоят под окнами или в дверях, и нельзя по улице пройти, чтобы не слышать одних и тех же фраз: «Два дня не ели, последнюю овцу проели. Что делать будем? Последний конец пришел. Помирать значит?»
«Хочу пройти, — писал он дальше, — и взглядываю нечаянно на мальчика. Мальчик смотрит на меня жалостными, полными слез и надежды, прелестными карими глазами, и одна светлая капля слезы уже висит на носу и в это самое мгновение отрывается и падает на натоптанный снегом дощатый пол. И милое измученное лицо мальчика с его вьющимися венчиком кругом головы русыми волосами дергается все от сдерживаемых рыданий. Для меня слова отца — старая избитая канитель. А ему — это повторение той ужасной годины, которую он переживал вместе с отцом, и повторение всего этого в торжественную минуту, когда они, наконец, добрались до меня, до помощи, умиляют его, потрясают его
расслабленные от голода нервы. А мне все это надоело, надоело; я думаю только, как бы поскорее пройти погулять!
Мне старо, а ему это ужасно ново.
Да, нам надоело. А им все так же хочется есть, так же хочется жить, так же хочется счастья, хочется любви, как я видел это по его прелестным, устремленным на меня полным слез глазам, — хочется этому измученному нуждой и полному наивной жалости к себе доброму жалкому мальчику».
С осени 1892 года главное руководство помощи голодающим в районе Бегичевки Толстой передал Поше Бирюкову. Софья Андреевна требовала возвращения семьи домой. В деревнях свирепствовал тиф, Софья Андреевна боялась, что они заразятся. Осенью скончалась от тифа Марья Петровна Берс, жена Степана Андреевича.
«Все устроится без моего личного присутствия, — писал Толстой жене 24 июля 1892 года, — особенно, если Пошу выпишем. Остаюсь здесь только на несколько дней, — дня на 4, 5, — может быть, и меньше, пока начну, и хоть начерно напишу отчет, для которого может понадобиться справиться на месте».
Переживания Толстого в связи с помощью голодающим были сложны, так же сложны, как вся его личная жизнь за последние годы. С точки зрения мнения людского, публики, даже некоторых последователей его, — жизнь Толстого была сплошным компромиссом, и только он один, стоя обнаженным перед Богом, мог судить, поступает ли он по велениям совести или по своим личным, эгоистическим побуждениям.
В ту минуту как он понял, что в стихийном народном бедствии нельзя медлить ни минуты и только он, Толстой, может помочь, все рассуждения его о коренном преобразовании всего государственного строя надо бьшо отложить и надо было дать хлеб умирающему с голода народу. Он не мог поступить иначе. Он шел своим путем, делал то, чего не мог не делать, принимая решения один, по своей совести. Он знал, что многие, даже самые близкие, не понимали и осуждали его.
«Враги всегда будут, — писал он в дневнике. — Жить так, чтоб не было врагов, нельзя. Напротив, чем лучше живешь, тем больше врагов. Враги будут, но надо сделать так, чтобы не страдать от них. И можно сделать, сделать так, что враги не только не будут страданием, но будут радостью. Надо любить их. И это легко.
Я один, а людей так ужасно, бесконечно много, так разнообразны все эти люди, так невозможно мне узнать всех их — всех этих индейцев, малайцев, японцев, даже тех людей, которые со мной всегда — моих детей, жену... Среди всех этих людей я один, совсем одинок и один».
«Близко Царство Божие — при дверях».
«Я не могу не думать этого и буду умирать с этим сознанием и жить; главное то, что мне осталось жить, хочу жить так, чтобы содействовать этому осуществлению.
Очень может быть, что я делаю не то, что нужно для этого, может быть, что я заблуждаюсь; но знаю, что только в такой жизни, которая осуществляет Царство Божие, в искании Царства Божьего и правды его для меня весь смысл жизни».
Идеализм и оптимизм Толстого были безграничны. «Есть три ступени жизни, — писал он в письме к Оболенскому в декабре 1892 года: — 1) для своего животного, 2) для славы людской, 3) для Бога».
Толстой твердо верил, что люди, в конце концов, поймут, что надо жить для Бога.
Ничто не могло дать ему такой радости, как проявление Божества в человеке, любовь к людям, стремление к самосовершенствованию: «Все яснее и яснее мне становится то, что только единое на потребу, — писал Толстой Е. И. Попову 20 июня 1894 года, — одно нужно: блюсти в себе свое божественное «я» и растить его с тем, чтобы перенести его в другую жизнь возвращенным, — след же, который он оставит в этой жизни, есть только неизбежное последствие этого возвращения, совершенствования. Я боюсь, что это покажется словами только: для меня это дело, не только дело, но единственная связь моя с жизнью. Только этим можно жить бодро, энергично, после того как в сознании, по крайней мере, отказался от земных внешних радостей, как цели жизни. Земные радости, когда их не ставишь целью, прикладываются».
В заключении к «Царству Божию» Толстой описал событие, причинившее ему острую боль:
«Я кончал эту двухлетнюю работу, когда 9 сентября мне случилось ехать по железной дороге в местность голодавших в прошлом году и еще сильнее голодающих в нынешнем году крестьян Тульской и Рязанской губерний. На одной из железнодорожных станций поезд, в котором я ехал, съехался с экстренным поездом, везшим под предводительством губернатора войска с ружьями, боевыми патронами и розгами для истязания и убийства этих самых голодающих крестьян.
Истязание людей розгами для приведения в исполнение решения власти, несмотря на то, что телесное наказание отменено законом 30 лет тому назад, в последнее время все чаще и чаще стало применяться в России.
Я слыхал про это, читал даже в газетах про страшные истязания, которыми как будто хвастался нижегородский губернатор Баранов, про истязания, происходившие в Чернигове, Тамбове, Саратове, Астрахани, Орле, но ни разу мне не приходилось, как теперь, видеть людей в процессе исполнения этих дел.
И вот я увидал воочию русских, добрых и проникнутых христианским духом людей с ружьями и розгами, едущими убивать и истязать своих голодных братьев.
Повод, по которому они ехали, был следующий.
В одном из имений богатого землевладельца крестьяне вырастили на общем с помещиком выгоне лес (вырастили, то-есть оберегали во время его роста) и всегда пользовались им, и потому считали этот лес своим, или, по крайней мере, общим; владелец же, присвоив себе этот лес, начал рубить его. Крестьяне подали жалобу. Судья первой инстанции неправильно (я говорю — неправильно со слов прокурора и губернатора, людей, которые должны знать дело) решил дело в пользу помещика. Все дальнейшие инстанции, в том числе и сенат, хотя и могли видеть, что дело решено неправильно, утвердили решение, и лес присужден помещику. Помещик начал рубить лес, но крестьяне, не могущие верить тому, чтобы такая очевидная несправедливость могла быть совершена над ними высшею властью, не покорились решению и прогнали присланных рубить лес работников, объявив, что лес принадлежит им и они дойдут до царя, но не дадут рубить лес.
О деле донесено в Петербург, ... государь велел министру привести решение суда в исполнение... Губернатор потребовал войско. И вот, солдаты, вооруженные
ружьями со штыками, боевыми патронами, кроме того с запасом розог, нарочно приготовленных для этого случая и везомых в одном из вагонов, едут приводить в исполнение это решение высшей власти».
Сталкиваясь со злом людским, он страдал больше, чем от острой физической боли, не мог сдержать слез, громко стонал. Его угнетало падение морали, развращенность людей, особенно молодежи. Он страдал, читая роман Бодлера, который ему был нужен, «чтобы, — как он писал Софье Андреевне, — иметь понятие о степени развращения fin de siecle».*
Он страдал, провожая яснополянских новобранцев, которые, для храбрости, напивались и пьяные безобразничали и дрались.
Толстой видел ту пропасть, в которую, как безумцы, устремилось человечество. Атеисты-революционеры все сильнее забирали умы молодежи: громкие, красивые слова — служение народу, борьба за равенство, братство людей, самый факт преследования этих борцов за свободу, конспирация — возбуждающе действовали на юношество. Путь революционный, радикальный, быстрый, требующий молниеносных жертв, храбрости, геройства — привлекал их к себе. Путь же Толстого — стремление жить по учению Христа, самосовершенствование, непротивление злу насилием — был, с точки зрения большинства — утопией.
Третий год Толстой работал над своим сочинением «Царство Божие». В письме к Черткову от 3 февраля 1893 года Толстой писал, что «никакая работа не стоила мне такого труда», как «Царство Божие внутри вас», и только в конце апреля 1893 года Толстой послал рукопись переводчикам в Германию и Францию.
В «Царстве Божием» окончательно выявилось мировоззрение Толстого.
«Вся жизнь историческая человечества есть не что иное, как постепенный переход от жизнепонимания личного, животного, к жизнепониманию общественному, и от жизнепонимания общественного к жизнепониманию божескому, — писал Толстой. — Вся история древних народов, продолжавшаяся тысячелетия и заканчивающаяся историей Рима, есть история замены животного, личного жизнепонимания общественным и государственным». И дальше: «Положение христианского человечества со своими тюрьмами, каторгами, виселицами, со своими фабриками, скоплениями капиталов, со своими податями, церквами, кабаками, домами терпимости, все растущими вооружениями и миллионами одуренных людей, готовых, как цепные собаки, броситься на тех, на кого их натравят хозяева, было бы ужасным, если бы оно было произведением насилия, но оно есть прежде всего произведение общественного мнения. А то, что установлено общественным мнением, не только может им же быть разрушено, но им же и разрушается».
Толстой видел постепенный упадок нравственности, веры в Бога. Он видел грубую, одностороннюю политику ограниченной власти, с другой стороны, не менее жестокую, ограниченную пропаганду революционеров. Работа с голодными крестьянами еще больше приблизила его к ним, показала пропасть, разделяющую этих бесконечно терпеливых, забытых людей, с богатыми классами. Толстой видел самоуверенность, эгоистичность и беззаботность богатых, их непоколебимое убеждение, что они имеют неотъемлемое право на роскошь, землю, слуг, в то время как миллионы людей должны жить впроголодь, работать с утра до ночи, не имея ничего.
Он знал, что так продолжаться не может. Он предвидел возможность
* Конца века (фр.).
революции и боялся ее. Только в вере в Бога и в следовании по пути, указанному людям Христом, могло быть спасение человечества.
«Царство Божие усилием берется»... Для себя именно этот путь и избрал Толстой.
Почему же он сам не отрекся от своей семьи, не ушел из богатой обстановки, в которой жил, и не построил свою жизнь по своим убеждениям?
Трудно было массам, осуждающим его, понять, что в этом-то и заключался его крест. Что было ему легче? Уйти от семьи, отряхнуться от угнетавшей его обстановки, от которой он внутренне уже отошел, и поселиться где-нибудь в деревне, окруженным близкими ему крестьянами, где наравне с другими он зарабатывал бы свое пропитание, или оставаться, не нарушая семью, не вселяя в членов семьи еще большей обиды, не оставляя детей, к которым он был глубоко привязан, без отца?
Ему легче было бы уйти. Но он считал своим долгом остаться. И, оставаясь, он изо всех сил стремился помочь своим близким увидать то, что было ему самому так ясно. В каждом из них отец старался найти хорошее и развить эти лучшие их свойства. Он любил их всех, каждого по-своему, и всегда, со свойственной ему чуткостью и лаской, подходил к ним, взрослым и маленьким.
«Что Андрюша? — опрашивал он жену в письме от ноября 18-го, 1892 года. — Отчего ты так отчаиваешься в нем? Мне, напротив, он всегда кажется как-то лучше, чем он бы мог почему-то быть».
«Что Саша?» — спрашивал он в следующем письме,
К Ване у отца было совсем особое чувство. В одном из писем он писал жене: «Вчера не успел тебе написать хорошенько. Нынче Ваничка пришел за чай и я ему рассказал, что ты нездорова. Я видел, как это огорчило его. Он сказал: «А что, как она очень заболеет». Я говорю: «Мы тогда поедем к ней». Он говорит: «И Руднева* повезем с собой». Потом пришел Лёва и послал его к Тане спросить письма вчерашние. Надо видеть, как он все понял, с какой радостью побежал исполнить, как огорчился, что Лёва думал, что он не так передал. Очень мил, больше чем мил — хорош».
В Бегичевке, где Толстой бывал теперь только наездом, он отвык от праздной, богатой жизни. Отношения с Софьей Андреевной, охладевшей к общественной работе — «мы, мол, Толстые, сделали достаточно, пусть другие потрудятся» — ухудшились. Она бурно протестовала, когда Толстой или одна из дочерей, чаще всего Маша, уезжали в Бегичевку. И соблазн ухода из дома постоянно мучил Толстого. Особенно тяжело было летом, когда съезжалось много праздного народа и кругом шло веселье, шум, пенье, суета. Но зато, когда осенью все уезжали и он оставался один с двумя дочерьми в Ясной Поляне, он наслаждался тишиной и простотой жизни.
Т. А. Кузминская рассказывала, как один раз она ездила в Ясную Поляну проведать «отшельников», как она говорила. Тетенька любила покушать и когда ей давали только вегетарьянскую пищу, она возмущалась и говорила, что не может есть всякую гадость, и требовала мяса, кур. В следующий раз, когда тетенька пришла обедать, к удивлению своему, она увидела, что за ножку стула была привязана курица и рядом лежал большой нож.
— Что это? — спросила тетенька.
* Тульский доктор, лечивший семью Толстых.
— Ты хотела курицу, — отвечал Толстой, едва сдерживая смех, — у нас резать курицу никто не хочет. Вот мы тебе все и приготовили, чтобы ты сама могла это сделать.
9 ноября 1892 года Толстой писал жене:
«Очень приятна мне здесь после усталости утренней работы — я стал больше уставать — тишина вечеров. Никто не развлекает, не тревожит. Книга, пасьянс, чай, письма, мысли свои о хорошем, серьезном, о предстоящем большом путешествии туда, откуда никто сюда не возвращается. И хорошо. Только ужасно грустно по твоим письмам, по-нынешнему Тане, что ты все тоскуешь. Как бы тебе дать спокойствия радостного, довольного, благодарного спокойствия, которое я иногда испытываю».
В округе Ясной Поляны, ближе к степной полосе, крестьяне также пострадали от неурожая. 31 января 1893 г. Толстой писал жене:
...«Поехал в Ясенки* к писарю и старшине поторопить их об отправке приговоров крестьян о продовольствии и узнать еще подробности о нуждающихся... и мы раздадим муку. Общей нужды нет такой, как около Бегичевки, но некоторые также в страшном положении. Такое же впечатление и Маши. Так что поедем в Бегичевку, как только приедет Таня, если она хочет приехать».
Лето 1893 года Толстой все еще занимался вопросом о голодающих, хотя фактически делом заведывал Поша Бирюков и старший Раевский — Иван. Хотя местами положение исправлялось, в некоторых деревнях нужда была еще ужасающая. В июле 1893 года Толстой писал жене из Бегичевки:
«Вчера в Татищеве получил мучительное впечатление. Нет хуже деревни. Обступили заморыши, старые и молодые, и, главное, дети в чепчиках, изможденные, улыбающиеся. Особенно одна двойняшка, — Мы устроили с старшей Шараповой доставать им молока, кроме детских. Это необходимо при повальных теперь детских поносах. Еще пристроил на год бездомных. И так изведу все деньги. Еще не достанет».
Осень 1893 года надо считать окончанием работы Толстого по голоду. Исправив отчет, составленный Бирюковым, Толстой послал его «Русским Ведомостям», где он и был напечатан, за подписью Толстого и Бирюкова, 19 октября 1893 года.
Теперь Толстой снова мог посвящать гораздо больше времени своему писанию и, закончив «Царство Божие», он начал новую статью, под заглавием: «Религия и нравственность».
В октябре 1893 г. Толстой прочел в газетах о Тулонских торжествах. Его поразил фальшиво-патриотический, напыщенный тон речей, неискренность всего того, что говорилось правящими от имени того народа, который даже не знал о существовании франко-русской дружбы. Эти мысли Толстого вылились в статье «Христианство и патриотизм».
Как всегда, Толстой много читал. Много книг на разных языках стекались в Ясную Поляну, иногда с автографами авторов.
«Зачитался я — «Северным Вестником», повестью Потапенко, — удивительно! Мальчик 18 лет узнает, что у отца любовница, а у матери любовник, возмущается этим, и выражает свое чувство. И оказывается, что этим он нарушил счастье всей семьи и поступил дурно. Ужасно. Я давно не читал ничего такого возмутительно-
* Деревня Ясенка в 7 верстах от Ясной Поляны.
го. Ужасно то, что все эти пишущие — и Потапенки, и Чеховы, Зола и Мопассаны даже не знают, что хорошо, что дурно; большей частью, что дурно, то считают хорошим, и этим, под видом искусства, угощают публику, развращая ее», — писал он Софье Андреевне 20 октября 1893 года.
Из этого потока книг Толстой выбирал то, что составляло теперь главный интерес его жизни. Получив «Тао-Те-Кинг» Лао-цзы на немецком языке, Толстой пришел в восторг и с помощью Е. И. Попова начал его переводить.
В это же время профессор Грот познакомил Толстого с кандидатом Киевской Духовной Академии и членом Московского Психологического общества, японцем Конисси. Конисси великолепно знал китайский и русский языки, перевел «Великую Науку» Конфуция и «Тао-Те-Кинг» Лао-цзы.*
С переводом Лао-цзы Конисси, очень любезный молодой человек, желавший всем быть приятным, попал в затруднительное положение.
Как-то вечером, в Москве, Конисси пришел в низкий кабинет Толстого со своей рукописью перевода Лао-цзы. Толстой пробежал его.
«Это неверно, это ошибка, — сказал Толстой. — Лао-цзы не мог сказать этого», и он прочел вслух следующую фразу: «Кто ведет войну ради человеколюбия, тот победит врагов. Если он защитит народ, то оборона будет сильна».
— Но это стоит в подлиннике, — робко возразил японец.
— Выпустите! — решительно сказал Толстой.
— Но я не могу...
Толстой был страшно взволнован и не слушал Конисси.
— Выпустите, я вам говорю, Лао-цзы не мог этого думать, он был против войны.
Конисси совсем растерялся и побежал за советом к профессору Гроту.
— Нельзя переделывать «Тао-Те-Кинг», — сказал профессор. — Оставьте как есть, но ничего не говорите Толстому.
«Надо было видеть, как огорчился Толстой, когда увидел в напечатанной уже книге, что слова Лао-цзы о войне сохранились, — рассказывал Конисси. — Мне жалко его было»**.
В одном из писем профессору Гроту, с которым Толстой часто обменивался мнением по поводу прочитанных философских книг, он писал: «Вы скажете: Я не знаю Аристотеля. Да, не знаю-то его потому, что там нет того, что мне нужно знать. А знаю более, недалекого от него Лао-цзы и Конфуция, и не мог их не узнать».
Приблизительно в то же время, 22 — 24 ноября, Толстой читал «Жизнь Франциска Ассизского» Сабатье. Книга эта произвела на него громадное впечатление. Читая выдержки из нее вслух, Толстой не мог сдержать слез умиления.
«Получил прелестную книгу о Франциске Ассизском, — писал он Чертко-
* Эти переводы были напечатаны в журнале "Вопросы философии и психологии», в январской и майской книжках 1893 года.
В своем предисловии к изданию «Тао-Те-Кинг». появившемуся отдельной книжкой «под редакцией Л. Н. Толстого и с примечаниями С. Н. Дурылина» в Москве, в 1913 году, Конисси говорит, что пользовался указаниями Толстого для своего перевода в 1895 году. Это явная ошибка: сотрудничество Толстого в переводе этого сочинения на русский язык могло иметь место не позднее 1892 года. Из личных воспоминаний автора. Личные беседы Конисси-сан с А. Л. Толстой во время ее пребывания в Японии в 1929 — 1931 гг.
ву... — Я три дня ее читал и ужаснулся на свою мерзость и слабость, и хоть этим стал лучше...».
Толстой испытывал большое удовлетворение, когда в мудрецах всего мира находил подтверждение своей философии.
Большой радостью для него было и общение с людьми, разделявшими его учение. Но и эта радость омрачалась. Кругом него шли обыски у его последователей, ссылки, аресты, все, что выходило из-под пера Толстого, запрещалось, люди арестовывались за хранение запрещенных рукописей Толстого, его же самого правительство не решалось трогать. С какой радостью он пострадал бы за свои убеждения, сел бы в тюрьму, пошел бы в ссылку! 25 июня Толстой, узнав об обыске у Бирюкова и Попова, записал в дневнике: «Совестно и обидно самому быть на воле». И в этом было его испытание.
27 января 1894 года умер в Воронежской тюрьме народный учитель Е. Н. Дрожжин, под влиянием сочинений Толстого отказавшийся от воинской повинности. В предисловии к книжке о Дрожжине Толстой писал: «...склад жизни вследствие просвещения до такой степени изменился, что власти, в том смысле, в котором ее понимали прежде, уже нет места в нашем мире, а осталось одно грубое насилие и обман. А насилию и обману нельзя повиноваться не из страха, а по совести».
Дрожжин страдал и умирал так, как страдали и умирали первые христиане. Из дисциплинарного батальона, куда Дрожжин сначала был сослан, он писал своим родным о себе и своем друге Изюмченко, тоже отказавшемся от воинской повинности: «Но мы не унываем, потому что мы, ничего не сделавши, идем туда, куда идут за воровство, за разбой, и не боимся ничего, потому что на все воля Божия: убьют и пусть убивают, тогда нам может и вовсе не за что отвечать перед Богом, а ответит и все грехи наши возьмет на себя тот, кто убьет и осудит. Я нисколько не сожалею, что просидел полтора года под замком, потому что у Апостола сказано, что «когда человек страдает, то он перестает грешить, это значит, что каждый прожитый день мы должны считать или хорошим или дурным, а кто в заключении или еще как-нибудь страдает, терпит, тот за себя не отвечает».2
Читая письма Дрожжина, Толстой плакал от радости, что существуют такие люди, и от горя, что он не имел возможности разделить его участь. «Неотступно... нудит мысль последовать его примеру», — писал Толстой Т. М. Алехину 6 марта 1894 года.
Друг Дрожжина писал Черткову: «Можете себе представить, какой он человек: в нем только душа в теле, но как он весел, — его веселость меня радовала, но вспомнил то, что его жизнь отнимают люди и сердце обливается кровью, и жизнь для меня казалась так противна, что я, смотря на Евдокима Никитича, стал завидовать его счастью и страшно жалею о том, что я не лежу на его постели и не ожидаю со дня на день разлуки с этим эгоистичным миром».
Когда Дрожжин умирал в тюрьме, доктора и даже администрация дивились его стойкости.
« — Сколько вы были в одиночном заключении?
— В батальоне четырнадцать месяцев.
— Вам там очень тяжело было?
— Нет, мне там было хорошо, — ответил Евдоким Никитич тихим нежным голосом.
— Как же хорошо, когда человек лишен наибольшего блага — свободы?
— Нет, я был свободен.
— Как свободен? — переспросил доктор.
— Я думал, что хотел. — -сказал Евдоким Никитич. Доктор ушел»4
Среди единомышленников Толстого, преследуемых правительством, самым неожиданным и жестоким образом пострадали князь Д. А. Хилков и его жена.
Хилков с семьей, женой и двумя детьми, был сослан за свои убеждения на Кавказ. Одно время он пытался создать христианскую земледельческую общину, принимал деятельное участие в младо-штундистском движении. Хилковы порвали с православием и детей своих не крестили. Княгиня, мать Хилкова, человек старинных взглядов и преданности царю и вере православной, была в ужасе, возненавидела жену Хилкова, Цецилию Винер, и, получив благословение отца Иоанна Кронштадтского, с полицейским приставом и на основании высочайшего повеления, забрала к себе двух маленьких детей Хилкова и увезла их к себе.
«...Было бы бессмысленно с моей стороны писать вам, матери, о страданиях матери, разлученной насильно с детьми, и о других тяжелых условиях всего этого дела, — писал Толстой княгине Хилковой, — потому что я уверен, что вы все это знаете и взвесили лучше меня и если поступили так, то имели на это какие-либо особые неизвестные мне причины, и потому единственно, о чем я позволяю себе просить вас, это то, чтобы вы, если найдете это стоящим того, сообщили бы мне, зачем вы это сделали, чем вы были вынуждены поступать так и какие вы предвидите от этого желательные последствия».
Но ни письмо это, ни прошение Толстого на Высочайшее имя, переданное Бирюковым Государю через министра двора — не помогли.
«Смерть Дрожжина и отнятие детей Хилкова суть два важные события, которые призывают всех нас к большей нравственной требовательности к самим себе», — писал Толстой одному своему другу.
Но ни страдания его друзей и единомышленников, ни собственное ложное с мирской точки зрения положение Толстого — неприкосновенность его личности — не могли его остановить. Он продолжал писать и говорить то, во что верил.
«Ищите Царства Божия и правды его, а остальное приложится вам». Единственный смысл жизни человека состоит в служении миру содействием установления Царства Божия. Служение же это может совершиться только через признание истины и исповедание ее каждым отдельным человеком.
«И не придет Царствие Божие приметным образом и не скажут: вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот: «Царствие Божие внутри нас есть.»
И Толстой искренно верил, что мученичество таких христиан, как Дрожжин, не пройдет бесследно, что близко время, когда люди опомнятся и будут все больше и больше стремиться к осуществлению Царства Божия на земле.
На зиму Толстой, чтобы не огорчать жену, уезжал в Москву. Но, как всегда, городская жизнь была ему тяжела.
«Я уже более месяца в Москве — писал он в дневнике 22 декабря 1893 года. — Мне тяжело, гадко... Эта роскошь. Эта продажа книг. Эта грязь нравственная. Эта суета... Главное, хочу страдать, хочу кричать истину, которая жжет меня».
Он тосковал по деревне, физической работе, его тяготило множество прислуги, неправильное воспитание детей. Описывая свой сон в одном из писем к
жене, он упоминает об этом: «Видел и Андрюшу на велосипеде. Думал о нем и о Мише. Очень уж, очень у них много всяких земных благ: от этого нет ни охоты, ни времени заняться духовными».
Встав рано утром, Толстой в полушубке и валенках выходил на двор и около часа работал: бочками возил воду из колодца в саду, или колол дрова, которыми отапливались многочисленные печи в доме и кухне; центрального отопления в доме не было. Если не было работы, Толстой шел на прогулку. Он любил ходить по пустынным улицам вниз, к Москве-реке, мимо Казарм Сумского полка, расположенных на площади в конце Хамовнического переулка. Было больше простора у замерзшей реки, покрытой снегом, и похоже на деревню — узкие протоптанные дорожки через реку, маленькие домики, в которых жили простые рабочие люди, тишина. Иногда он уходил на Девичье поле и с другой стороны, у Девичьего монастыря, спускался к реке. Отсюда были видны исторические Воробьевы горы, описанные в «Войне и мире», откуда Наполеон наблюдал покоренную им Москву и требовал к себе московских бояр.
Никто из детей почти никогда не заходил к отцу в кабинет. Это была «святая святых», сюда входили только в очень важных случаях, когда отец хотел «поговорить» с кем-нибудь из них, и это было большим, волнительным событием. Сразу после занятий отец опять уходил на прогулку, а вечером к нему приходили «темные», не только не привлекавшие детей, но даже немножко страшные: в темных блузах, лохматые, бородатые.
Маленькие любили, когда отец играл с ними. Вываливалось грязное белье из корзинки, и Ваничка, а иногда и Саша — но она скоро сделалась слишком тяжелой — таскались в этой корзинке отцом и его другом Дунаевым по всему дому, и когда корзина останавливалась, надо было угадать, где находишься. И неизвестно, кто больше любил эту игру, Ваничка или отец.
Два мальчика, Миша и Андрюша, каждое утро будились со скандалом, ругали лакея, почтительно раскачивавшего их за плечи: «Извольте вставать, девятый час, опять в гимназию опоздаете!» Наскоро сполоснув лицо и руки, мальчики, стоя, проглатывали кофе, на ходу доедали ручку калача с маслом и в черных, подпоясанных ремнями, курточках, с белыми крахмальными воротничками, рысью бежали в частную гимназию Поливанова. Мама спала до 12-часов. Няня занималась с Ваничкой, Саша училась с mademoiselle Detras, нервной гувернанткой-швейцаркой, с худым лицом и громадным, горбатым носом с лиловыми прожилками, и толстым задом, которую Саша изводила своим непослушанием, невнимательностью и вечным стремлением в сад; осенью и весной бегала по саду с соседними мальчишками и собаками, а зимой стремилась на каток. Чинно гулять по улице, как все благовоспитанные девочки и говорить с mademoiselle Detras по-французски, было для нее величайшей мукой.
В дом ходило множество учителей. Мать хотела дать все, что было возможно, своим детям в смысле образования. К мальчикам ходили репетиторы, так как они, особенно Андрей, учились скверно, весной неизменно проваливались, осенью шли переэкзаменовки. К Мише ходил учитель скрипки, к Саше учитель музыки. Оба были музыкальны, но не учили уроков и ленились долбить упражнения Ганона и играть гаммы.
У всех детей были свои сверстники, большей частью из так называемого высшего общества. Постоянно, то в одной семье, то в другой, устраивались вечера, ставились шарады, затевались petis jeux. Весной ездили в коляске,
запряженной парой вороных, в светлых весенних платьях, за город, на пикники. Повар Семен Николаевич пек пирожки, жарил цыплят, варил крутые яйца, и все это, завернутое в белоснежные крахмальные салфетки, укладывалось в уютные погребцы. Гуляли, собирали ландыши, незабудки, играли в горелки и колдунов.
Но самое веселое, — это были детские балы. Шились вечерние платья, покупались бальные туфли, белые лайковые перчатки, иногда приглашался парикмахер, француз Теодор, который всех завивал, и в карете, с лакеем на козлах, ехали на бал: мама, Андрюша, Миша, Саша и Ваничка.
Несмотря на свои 6 лет, Ваничка прекрасно танцовал, особенно мазурку. Он летел по зале, едва касаясь пола, худенький, грациозный. Он то притоптывал каблучками на месте, то ловко ударял в воздухе ногой о ногу, то становился на одно колено и обводил свою, всегда более взрослую, чем он сам, даму, вокруг себя. Бледное личико его розовело, глаза блестели, встряхивались вьющиеся по плечам золотые кудри. На каждом детском балу, где обычно он был самый маленький, Ваничку показывали, он шел в мазурке в первой паре, и взрослые восхищались им и хвалили. В карете, едучи домой иногда в первом часу ночи, Ваничка вдруг делался совсем маленьким, личико его бледнело, вытягивалось, и он, повалившись на колени мама, съежившись, засыпал.
Надо было и Толстым хоть раз в год устраивать вечер, и такой, чтобы он отличался от других. Никто не мог ничего придумать лучше Тани, и она охотно и весело бралась за это дело. В котильоне раздавались воздушные шары. Все дети танцовали мазурку с разноцветными, летавшими в воздухе шарами, музыка гремела, родители, рассевшись по стенам залы, любовались красивым зрелищем, и вдруг — все остановились. В залу вошли совсем не по-праздничному одетые: бородатый Толстой в блузе, с руками за поясом, рядом с ним внушительная фигура Владимира Соловьева, Репин, поглаживающий острую бородку быстрым
движением руки, и Антон Рубинштейн, со своей львиной гривой. Сначала никто ничего не понял. Вдруг, из коридора, в конце которого был кабинет Толстого, открылась маленькая боковая дверь, и в залу вошел второй Толстой. При всеобщем хохоте молодежи два Толстых приветливо потрясли друг другу руки. Оказалось, Таня подговорила своих друзей, Лопатина, Василия Маклакова, Цингера, загримироваться и приехать на бал. Бал удался на славу и о нем много говорили в Москве.
Но удовольствие бала было испорчено для Тани. Накануне, когда Таня озабоченно носилась по дому, она столкнулась со скромно одетой женщиной, которая хотела видеть Толстого, и отмахнулась от нее, невнимательно отнеслась к ней и сказала, что отца видеть нельзя. Каково же было огорчение Тани, когда она узнала, что это была жена Хилкова, у которого отняли детей. Она приходила искать помощи и утешения у Толстого.
Несмотря на веселье, в котором Толстой невольно иногда принимал участие, он старался держаться в стороне от окружающей его жизни. Он избегал посещения лекций, концертов, литературных вечеров. Всюду, где бы он ни появлялся, его узнавали, публика начинала перешептываться, и нередко, как это случилось на лекции профессора Цингера, Толстому устраивали овацию. Он не мог долгое время выдерживать московскую жизнь, стремился в Ясную Поляну, где ему было легче всего.
Тишина, покой, наступавшие в Ясной Поляне после шумного лета, когда старый яснополянский дом был переполнен молодежью, детьми, слугами, гувернерами и гувернантками — было как раз то, чего искал Толстой, и без чего ему всегда было тоскливо и душно. Липовые аллеи, лужайка перед домом — занесены глубоким покровом снега, пройти здесь без лыж нельзя. Но зато в лесах проезжены дороги, по которым возят дрова. В полушубке и валенках, пешком или верхом, Толстой совершает свои прогулки. Он замечает все: и тройные следы зайца-беляка, и крошечные следы белок, и крупные, по прямой линии, следы волков. В доме тепло. Трещат в печах сухие березовые дрова, прислуги нет. Толстой сам таскает дрова, топит печи. Дочери и друзья убирают дом, готовят, моют посуду. Почему бы не жить так всегда, в мире, покое, тишине, среди природы? Какими ненужными, вредными, засоряющими душу представляются Толстому городская суета, роскошь, безделье...
Зимой 1894 года в Ясной Поляне с Толстым жили М. А. Шмидт, Поша Бирюков и позднее приехал Н. Н. Ге, Дедушка был взволнован. Он горел желаньем показать Толстому большую картину «Распятие», которую он только что закончил. Когда друзья вернулись в Москву, дедушка повел Толстого в частную мастерскую, где стояла его картина. Бирюков так описывает эту сцену:
«...Лев Николаевич вошел в мастерскую и остановился перед картиной, устремив на нее свой проницательный взгляд. Н. Н. Ге не выдержал этого испытания и убежал из мастерской в прихожую. Через несколько минут Л. Н. пошел к нему, увидал его, смиренно ждущего суда, он протянул к нему руки и они бросились друг другу в объятия. Послышались тихие сдержанные рыдания. Оба они плакали, как дети, и мне слышались сквозь слезы произнесенные Л. Н-чем слова: «Как это вы могли так сделать!» Н. Н. Ге был счастлив. Экзамен был выдержан».1
Но члены императорского дома не разделяли мнения Толстого о «Распятии». На Петербургской выставке президент Академии Художеств, великий князь
Владимир Александрович, осматривавший выставку, был возмущен: «Это бойня», — сказал он, отвернувшись, й судьба «Распятия» была решена — его сняли с выставки.
«Снятие с выставки — ваше торжество, — писал Толстой своему другу. — Когда я в первый раз увидал, я был уверен, что ее снимут, и теперь, когда живо представил себе обычную выставку с их величествами и высочествами, с дамами и пейзажами и nature тогхе'ами, мне даже смешно подумать, чтобы она стояла».
Но сердце старика не выдержало всех пережитых им волнений. 2 июня 1894 года сторож принес со станции Засеки телеграмму с печальной вестью о скоропостижной смерти Николая Николаевича Ге.
«Не помню, чтобы какая-либо смерть так сильно действовала на меня, — писал Толстой своему другу Л. Ф. Анненковой. — Как всегда при близости смерти дорогого человека, стала очень серьезна жизнь, яснее стали свои слабости, грехи, легкомыслие, недостаток любви, одного того, что не умирает, и просто жалко стало, что в этом мире стало одним другом, помощником, работником меньше».
За последнее время родителей очень беспокоило состояние сьша Льва. Худой, нервный, постоянно чего-то ищущий, Лёва никак не мог найти себя. Он то сближался с отцом, помогал ему в его работе, вегетарианствовал, бросал курить, то ближе сходился с матерью и критиковал поступки и взгляды отца. В конце концов, он совсем изнервничался и заболел, причем доктора не могли определить его болезни, — боли в желудке, слабость. Его послали за границу, в Париж, но одиночество в большом городе, по-видимому, очень плохо на него действовало. Француз Charles Salomon, друг Толстых и переводчик сочинений Толстого, написал тревожное письмо и просил кого-нибудь из семьи приехать. К брату поехала Таня, но пробыла там недолго, они вскоре оба вернулись домой. Этой же весной Толстой получил известие, что серьезно заболела Галя Черткова и Чертков просил Толстого приехать к ним в имение, в Воронежскую губернию.
С тех пор как Чертковы потеряли своего первого ребенка, дочку 1 года и 8 месяцев, здоровье Гали пошатнулось, она часто прихварывала и этой весной ей было особенно плохо. Свидание друзей было очень радостно... «Так мы с ним душевно близки, столько у нас общих интересов, и так редко мы видимся, что обоим нам это хорошо...», — писал Толстой Софье Андреевне 27 марта 1894 года.
Прежде чем вернуться в Москву, Толстой, вместе с Машей, которая ездила с ним, проехал в Воронеж к своему больному, любимому другу Русанову. Общение с такими близкими друзьями, как Русанов, с полслова понимающего Толстого и живущего с ним одними и теми же мыслями, было Толстому очень радостно.
И таких людей, разделяющих взгляды Толстого, появлялось все больше и больше, не только в России, но и за границей.
Еще в 1891 году Толстой получил письмо от американца Эрнеста Кросби, заинтересовавшегося его взглядами, а в мае 1894 года Кросби сам приехал к Толстому. Кросби — красивый, хорошо одетый, выхоленный американец, с большими sense of humour, веселый и остроумный, внешне был полной противоположностью бородатым, в не всегда чистых блузах толстовцам, и, вероятно, Кросби очень удивился бы, если бы ему сказали, что внешний облик и одежда являлись непременными атрибутом толстовства (так считали некоторые «темные»). В Кросби Толстой нашел серьезного единомышленника, проникшегося его учением и твердо решившегося распространять это учение в Америке.
Наблюдая бедность крестьян, их недостаток в земле, и с другой стороны —
большие имения помещиков, которые они или обрабатывали наемным трудом тех же крестьян, или сдавали им в аренду, Толстой часто задумывался над тем, как бы исправить эту несправедливость, поднять благосостояние крестьян. Революционный способ насильственного захвата помещичьих земель «трудящимися» был ему неприемлем. Познакомившись с системой Генри Джорджа, Толстой ухватился за нее, считая ее единственным безболезненным и справедливым разрешением земельного вопроса.
Вся земля обкладывается единым налогом. Чем ценнее земля — городская, под коммерческими предприятиями, доходными домами, — тем выше налог. Крестьянам, работающим своими руками на земле, налог не страшен, они легко его выплатят. Помещикам же, зависящим от наемной силы, придется отказаться от своих земель, так как они не в силах будут выплачивать государству налог на землю.
Толстой был под впечатлением прочитанной им книги Генри Джорджа «Perplexed philosopher» и теории Генри Джорджа «Единый налог».
Под влиянием отца обе дочери зачитывались Генри Джорджем и Таня решила применить теорию единого налога в своем имении Овсянниково. Отец помогал ей. Может быть разговор его с крестьянами в деревне Овсянниково о едином налоге послужил канвой в описании сцены в «Воскресении», когда Нехлюдов объяснял крестьянам теорию американского экономиста.
«Вся земля — общая. Все имеют на нее равное право, — говорил Нехлюдов. — Но есть земля лучше и хуже. И всякий желает взять хорошую. Как же сделать, чтобы уравнять? А так, чтобы тот, кто будет владеть хорошей, платил бы тем, которые не владеют землей, то, что его земля стоит, — сам себе отвечал Нехлюдов. — А так как трудно распределить, кто кому должен платить, и так как на общественные нужды деньги собирать нужно, то и сделать так, чтобы тот, кто владеет землей, платил бы в общество на всякие нужды то, что его земля стоит. Так всем ровно будет. Хочешь владеть землей — плати за хорошую землю больше, за плохую меньше. А не хочешь владеть — ничего не платишь; а подать на общественные нужды за тебя будут платить те, кто землей владеет.
— Это правильно, — сказал печник, двигая бровями. — У кого лучше земля, тот больше плати.
— И голова же был этот Жоржа, — сказал представительный старец с завитками».
И в Овсянникове так и постановили: вместо арендной платы за землю, крестьяне должны были вносить деньги в особый фонд, который тратился бы на их общественные нужды.
Толстой и Генри Джордж питали глубокое уважение друг к другу. В письме к американскому корреспонденту Мак-Гахану Толстой просил передать «Генри Джорджу благодарность за его книги», выражает «восхищение перед ясностью, блеском, мастерством изложения» Генри Джорджа, который «первый заложил прочный фундамент постройке будущего экономического строя» и чье имя «всегда с благодарностью и уважением будет поминать» человечество.
На это письмо Генри Джордж ответил Толстому в начале марта, выражая ему свое уважение и восхищение, и спрашивая Толстого, может ли он к нему заехать во время своей поездки в Европу, на что Толстой с радостью согласился. Но свидание это так и не состоялось.
24 октября 1897 г. Толстой писал жене:
«Сережа вчера мне сказал, что Генри Джордж умер. Как ни странно это сказать, смерть эта поразила меня, как смерть очень близкого друга... Чувствуешь потерю настоящего товарища и друга. Нынче в «Петербургских ведомостях» пишут о его смерти, и даже не упоминают об его главных и замечательных сочинениях. Он умер от нервного переутомления спичей».
В октябре 1894 г. умер Александр III. Смешно было бы утверждать, что у Толстого было чувство любви, уважения к царю, именем которого преследовались его единомышленники, отнимались у них дети, запрещались его писания. Но Толстой никогда не испытывал той ненависти к монарху, которая горела в сердцах революционеров, злобы, жажды мщения. То чувство преданности царю, в котором Толстой был воспитан, которое так живо описано в «Войне и мире», чувство почти обожания Николая Ростова к императору Александру I, у Толстого перешло в чувство жалости к государю, который, по его мнению, сам себе вредил несправедливыми, жестокими поступками.
Когда государь Александр III заболел. Толстой писал Черткову: «Болезнь государя очень трогает меня. Очень жаль мне его. Боюсь, что тяжело ему умирать, и надеюсь, что Бог найдет его, а он найдет путь к Богу, несмотря на все те преграды, которые условия его жизни поставили между ним и Богом».
Русские люди волновались: какие перемены ждут Россию с воцарением Николая II? Будет ли издан манифест о помиловании политических преступников? Уменьшатся ли репрессии, даст ли молодой царь больше свободы России?
Но с самого начала царствования молодого государя стало ясно, что ожидаемой «свободы» не последует.
В дневнике от 10 ноября Толстой написал;
«Безумие и подлость по случаю смерти старого и восшествия нового царя».
Речь Николая II, обращенная к дворянству 17 января 1895 года, где молодой царь заявил, что он будет охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как его отец, показала, что больших перемен в политике государства не произойдет.
В конце 1894 года Толстой писал свой «Катехизис» — изложение веры, писал, как и все свои религиозно-философские статьи, с трудом, бесконечно поправляя, переделывая, то отчаиваясь, то снова вдохновляясь. И среди этой работы вдруг, неожиданно для его близких, может быть, для него самого, утром, когда он еще лежал в постели, в голове его родилось новое художественное произведение. «Продумал очень живой художественный рассказ о хозяине и работнике», — записал он в дневнике от 6 сентября.
Многие поклонники Толстого считают, что «Хозяин и работник» одна из самых сильных вещей, когда-либо им написанных. Сила этого рассказа в неожиданном пробуждении духа Божия, который, как верил Толстой, живет в каждом человеке, в простом, всю жизнь стремившемся к наживе купце. Метель, дорогу потеряли, лошадь стала. Замерзают и барин, и рабочий, и лошадь. Смерть. И в последнюю минуту купец грузным телом своим покрывает рабочего и теплом своим спасает его от смерти.
Но Толстому, по сравнению с его религиозно-философскими статьями, его «Катехизисом», рассказ «Хозяин и работник» казался игрушкой — «довольно ничтожной», как он заметил в дневнике последних чисел декабря.
Он писал Лескову:
«Начал было продолжать одну художественную вещь, но поверите ли,
совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли эта художественная изжила, повести отживают, или я отживаю? Испытываете ли вы что-нибудь подобное?».
После появления «Хозяина и работника» в мартовской книжке «Северного Вестника» критики разразились целым рядом восторженных статей, но мнение Толстого не поколебалось. Вот что он записал по этому поводу в своем дневнике:
«Так как я не слышу всех осуждений, а слышу одни похвалы за «Хозяина и работника», то мне представляется большой шум и вспоминается анекдот о проповеднике, который на взрыв рукоплесканий, покрывших одну его фразу, остановился и спросил: «Или я сказал какую-нибудь глупость?». Я чувствую то же и знаю, что я сделал глупость, занявшись художественной обработкой пустого рассказа. Самая же мысль не ясна и вымучена, — не проста. Рассказ плохой. И мне хотелось бы написать на него анонимную критику, если бы был досуг».
В конце августа 1894 года из Австро-Венгрии в Ясную Поляну приехал последователь Толстого, словак, доктор Д. П. Маковицкий.
Маковицкий читал изданные за границей религиозно-философские сочинения Толстого и горячо воспринял взгляды его. Молчаливый, скромный, с кроткими, выпуклыми, серыми глазами, острой белокурой бородкой, Маковицкий очень понравился Толстому и его семье. Только молодежь и дети едва сдерживали смех, когда Душан говорил по-русски, такие он делал смешные ударения.
Маковицкий рассказал Толстому про своего друга, д-ра Шкарвана, готового отказаться от военной службы по своим религиозным убеждениям. После отъезда Маковицкого у Толстого завязалась переписка с ним и его друзьями.
«Получил вчера ваше письмо, дорогой Душан Петрович, — писал Толстой Маковицкому в начале февраля 1895 года, — и очень был тронут и поражен сообщаемым вами известием о поступке нашего общего друга Шкарвана. Когда я узнаю про такого рода поступки, то испытываю всегда очень сильное смешанное чувство страха, торжества, сострадания и радости...»
Можно себе представить, что испытал Толстой, когда он узнал, что на Кавказе началось сильное христианское движение среди духоборов, массовые отказы от военной службы, преследуемые правительством.
Вождь духоборов, Петр Веригин, был арестован. Его перевели в Москву и оттуда уже направляли в ссылку в Сибирь. Толстой не успел с ним повидаться, но он вместе с Бирюковым и Поповым виделся с тремя духоборами, друзьями и последователями Петра Веригина. Они приехали проводить своего вождя.
Это были простые, малограмотные люди, крестьяне, здоровые, сильные и духом и телом.
«Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду».
Так верили духоборы, так верил Толстой. Они не интересовались тем, что Толстой был знаменитым писателем, вероятно, они этого даже и не знали. Для них он был мудрый старичок, так же, как и они, толковавший учение Христа.
В доме все чувствовали тяжесть. Маленькие присмирели, со страхом смотрели на мать, даже Ваничка притих. Мальчики старались уйти из дома. Отца почти не было видно. Он сидел больше в своем кабинете, завтракал
один, к обеду выходил грустный, молчаливый... Маша хмурилась и не смотрела на мать.
Ссора возникла из-за пустяков. Толстой, по просьбе Черткова, снялся в одной из лучших фотографий в Москве, со своими друзьями и сотрудниками «Посредника»: Чертковым, Бирюковым, Горбуновым и др. Узнав об этом, Софья Андреевна, неизвестно почему, страшно рассердилась. Сквозь закрытые двери раздавался резкий, требовательный, с истерическими нотками, крик Софьи Андреевны и страдальческий, приглушенный голос Толстого. В клочья была разорвана фотография и Софья Андреевна успокоилась только тогда, когда негатив злосчастной фотографии был ею уничтожен. Легко себе представить, как чувствовал себя Толстой по отношению к своим друзьям. Но он готов был идти на любые жертвы, лишь бы избежать эти недостойные, злобные, истерические выпады со стороны жены.
А они повторялись все чаще и чаще. В ее совершенно необоснованной ревности неизвестно к кому было теперь что-то болезненное. Во время этих бурных припадков она теряла всякое самообладание, усматривала обиду и оскорбление там, где их не было, и ревновала, не имея на то ни причин, ни поводов. Со свойственной ей страстностью, она давала волю своему воображению и утопала в сумбуре каких-то собственных неясных чувств, теряя всякое равновесие. Она остро страдала сама и заставляла страдать всех вокруг себя.
Самая жуткая ссора разыгралась из-за рассказа «Хозяин и работник».
Среди множества издававшихся в России журналов Толстому больше всего по духу подходил «Северный вестник», редактором которого была некая Л. Я. Гуре-вич. Небольшая сказка Толстого «Карма» была напечатана в этом журнале и Толстой обещал дать Гуревич «Хозяина и работника» для одного из следующих номеров «Северного вестника».
Но мысль, что Лёвочка, наконец, написал не скучное, религиозное сочинение, а что-то художественное, хорошее, и отдал это не ей, жене, в полное собрание сочинений, а какой-то, как она говорила, еврейке Гуревич, вызывало в ней такую горечь, обиду, ревность, с которой она не в силах была бороться.
Произошла ужасная сцена упреков, рыданий. Крики проникали за тонкие стены спальни, весь дом притих. Дрожали в страхе и крестились старая няня, экономка Дуничка; на цыпочках скрывались в свои коморки лакеи и горничные, боясь попасться на глаза графине.
«Лев Николаевич написал чудесный рассказ «Хозяин и работник», — писала Софья Андреевна в дневнике. — Интриганка, полуеврейка Гуревич ловким путем лести выпрашивала постоянно что-нибудь для своего журнала. Лев Николаевич денег не берет теперь за свои произведения»... «Мне он не дал в XIII часть, чтобы я не могла получить лишних денег; за что же Гуревич? Меня зло берет, и я ищу пути поступить справедливо относительно публики в угоду не Гуревич, а назло ей. И я найду...»1.
Софья Андреевна дальше сама описывает то, что произошло:
«...Мысль о женщине пришла прежде всего. Я потеряла всякую над собой власть и, чтобы не дать ему оставить меня раньше, я сама выбежала на улицу и побежала по переулку. Он за мной. Я в халате, он в панталонах без блузы, в жилете. Он просил меня вернуться, а у меня была одна мысль — погибнуть так или иначе. Я рыдала и помню, что кричала: пусть меня возьмут в участок, в сумасшедший дом. Лёвочка тащил меня, я падала в снег, ноги были босые в
туфлях, одна ночная рубашка под халатом. Я вся промокла, и я теперь больна и ненормальна, точно закупорена, и все смутно...»2.
На другой день разыгралась подобная же сцена:
«Чувство ревности, досады, огорчения за то, что мне никогда ничего он не сделает; старое чувство горя от малой любви Лёвочки взамен моей большой — все это поднялось с страшным отчаянием», — писала Софья Андреевна в своей «Истории». «Я бросила на стол корректуры, и, накинув легкую шубку, калоши и шапку, я ушла из дому. К сожалению или нет, но Маша заметила мое расстроенное лицо и пошла за мной, но я этого не видала сначала, а только потом. Я ушла к Девичьему монастырю и хотела идти замерзнуть где-нибудь на Воробьевых горах, в лесу. Мне нравилась, я помню, мысль, что в повести замерз Василий Андреевич*, и от этой повести замерзну и я. Ничего мне не было жалко. Вся моя жизнь поставлена почти на одну карту — на мою любовь к мужу, и эта игра проиграна и жить незачем. Детей мне не было жалко. Всегда чувствуешь, что детей любим мы их, а не они нас, и потому они проживут и без меня...».
Чего она хотела? Топиться в Москве-реке, или она пугала, добиваясь, чтобы он... исполнил ее требование? Или, может быть, это было началом сумасшествия?
Припадки у Софьи Андреевны не прекращались.
«Отчаяние мое не улеглось еще два дня, — писала она дальше. — Я опять хотела уехать; взяла чужого с улицы извозчика на другое утро и поехала на Курский вокзал. Как могли догадаться дети дома, что я именно поехала туда, — не знаю. Но Сережа с Машей меня опять перехватили и привезли домой» .
Никто не мог помочь Софье Андреевне: ни семья, ни врачи, ее осматривавшие. Вероятно, в связи с ее переходным возрастом она временно потеряла всякое равновесие.
* Василий Андреевич — купец из повести «Хозяин и работник», который замерзает, спасая своего работника.
Чем он мог покорить ее? Только любовью. И он давал ей все, что мог. Но ей хотелось чего-то гораздо большего, может быть, она сама не знала чего. Вспоминая его прошлую любовь к ней, она писала в своей «Истории»: «Когда я очень плакала, он вошел тогда в комнату, и в землю кланяясь до самого пола, на коленях, он клялся мне и просил простить его. Если б хоть капля той любви, которая была тогда в нем, — осталась бы и на долгий срок, — я могла бы еще быть счастлива».5
«Помоги не отходить от Тебя, не забывать, кто я, что и зачем я. Помоги»... — писал Толстой в дневнике 7 февраля.
Ему часто приходила в голову мысль об уходе, но он не считал себя в праве это сделать. Приводимая ниже выдержка из дневника яснее всего объясняет, почему он считал, что долг его перед совестью терпеть до конца. Запись эта относится к 5 мая 1895 г.
«Верно одно то, — писал он, — что часто бывает, что человек вступит в жизненные мирские отношения, требующие только справедливости: не делать другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали и, находя эти требования трудными, освобождается от них под предлогом (в который он иногда искренне верит), что он знает высшие требования христианские и хочет служить им. Женится, и решит тогда, когда познает тяжесть семейной жизни, что надо оставить жену и детей и идти за Ним».
15 февраля, после того, как он согласился исполнить то, чего добивалась жена, т. е., послав «Хозяина и работника» в «Северный вестник», одновременно отдал его для печати в XIII томе Софье Андреевне, а также в «Посредник», он писал в дневнике:
«Бог помог мне; помог тем, что хотя слабо, но проявился во мне любовью, любовью к тем, которые делают нам зло, т. е. единственной истинной любовью. И стоило только проявиться этому чувству, как сначала оно покорило, зажгло меня, а потом и близких мне, и все прошло, т. е. прошло страдание. — Следующие дни было хуже. Она положительно близка была и к сумасшествию и к самоубийству. Дети ходили, ездили за ней и возвращали ее домой. Она страдала ужасно. Это был бес ревности, безумной, ни на чем не основанной ревности. Стоило мне полюбить ее опять, и я понял ее мотивы, не то, что простил ее, а сделалось то, что нечего было прощать».
Мысли, записанные Толстым в этот период, несомненно, вытекали из состояния его жены. «Сумасшествие, — писал он, — это эгоизм... те, которые лишились потребности служить другим, — сумасшествие эгоизма... Сумасшедших этого рода огромное количество...».
Напрасно взрослые думают, что дети ничего не понимают. Дети Толстые, если и не знали подробностей того, что происходило, то все же прекрасно чувствовали, что в семье творилось что-то неладное.
Как ни плотно няня закрывала двери и караулила Ваничкин покой, всё же, сквозь деревянную стену, отделявшую детскую от спальни родителей, все было слышно. «Господи помилуй нас, грешных, — шептала старушка, отрываясь от шерстяного белого чулка, который она вязала на спицах. — Господи, того и гляди, Ваничку разбудят».
Саша старалась избегать мать, жалась к няне, потому что няня все понимала, не то, что чужая гувернантка, а Ваничка смело шел к матери, ласкался к ней. «Ты больная, мама? — спрашивал он ее. — Ты какая-то не всегдашняя». Она целовала
его и плакала — «Пожалей мама», — говорила она. Маленькая, прозрачная ручка гладила ее голову, расправляя на две стороны пробора ее совсем еще черные, не поседевшие волосы.
Он утешал ее, заглядывая ей в глаза, точно хотел убедиться, помог ли он ей. А глаза у Ванички были отцовские, глубокие, видящие и понимающие больше, чем мог выразить словами этот ребенок. Никто не сознавал тогда, какое значительное место заняло это маленькое существо в жизни семьи. Часто он учил взрослых, не желая этого, не думая, инстинктивно, по какому-то вложенному в него внутреннему сознанию добра.
Когда мать говорила ему, показывая на окрестности Ясной Поляны: «Смотри, Ваня, это все принадлежит тебе», Ваничка морщился: «не надо, мама, всё — всехнее».
Ваничка радовался, когда видел добро, и горько плакал и расстраивался при всяком проявлении недоброго. «Мама, зачем няня сердится? — спрашивал он со слезами на глазах. — Зачем? Скажи ей». «Не смей бить Сашу», — кричал он на Мишу, когда здоровый, сильный драчун Миша награждал Сашу тумаками. «Зачем ты его ругала?» — спрашивал он мама, когда она делала выговор лакею или горничной. Зачем люди были злые, портили сами себе жизнь, когда все могло быть хорошо и радостно? Зачем?
Вероятно, у отца было совсем особое чувство к Ваничке, хотя он редко показывал его. Он с ужасом следил за теми ненормальными, нездоровыми условиями, которыми мальчик был окружен.
«Саша, как всегда, проста и усердна. Ваничка, кажется, особенно мил, потому что больше на него обращаешь внимания. Здоровье его превосходно. В вопросах о том, дать ли ему огурца, яблока, грибов — я всегда стою за большую осторожность»..., — писал Л. Н. жене.
Ваничка постоянно болел. Его пичкали хиной, лекарствами, но они не помогали — он был очень худ, бледен и никак не поправлялся. Но несмотря на все, Ваничка был настоящий ребенок, веселый, жизнерадостный, любил шутить, сам понимал шутки и увлекался играми. Когда Ваничка и Саша оставались в Ясной Поляне с отцом, Ваня писал матери под диктовку:
«Милая мама, Саша была больна, а теперь почти здорова. Мы сегодня с Таней хотели идти на Козловку, но было холодно — мороз, и нас папа с няней не пустили. Саша все спешит для тебя делать какой-то подарок, и она думает, что она не успеет. Робинзона мы дочли и, ждем тебя, чтобы читать с начала, а то помнишь, мы начали читать с самого интересного. Мы дочли Робинзона и маленькую книжечку и начали Капитана Гранта. И очень была одна страница, очень интересная, про красных волков. Я очень боялся. Сейчас папа едет в Козловку, и вот я пишу тебе письмо. Пришел будить Таню, чтоб идти в Козловку, и я только намочил палец, чтобы ее брызгать — она проснулась. Прощай, милая мама. Жду скорее приехать в Москву. Поцелуй Андрюшу, Мишу, Лёву, и всех, кто там есть, а тебя даже обнимаю.
Ваня (рукой Ванички)»
Когда же дети, кроме старших дочерей, оставшихся с отцом, уехали в Москву, Толстой всем написал письма — каждому о том, что больше всего его интересовало: Саше об ее подруге Варьке, кухаркиной дочери, мальчикам — о лошадях и собаках, письмо Ваничке было самое серьезное и длинное.
«Я поймал трех крыс внизу, и одна защемила себе хвост, и хвост толще
твоего пальца. И Маша с Надей Ивановой носили выпускать ее. И так боялись, что влезли на скамейку у Кузминского дома и там выпустили, а сами визжали. А я выпускал своих на прешпекте, и они прыгали так, что на аршин, и забивались под дерево. Марья Александровна тоже выпускала крыс на Кавказе, и один немец ей сказал, что эти крысы, как только их выпустят, они прежде Марии Александровны дома будут. Но это неправда; я смотрел по следу, они в саду остались. А вчера Таня сказала, чтоб привезли барана из Овсянникова, потому что все люди хотели мяса, и Стаховичу, и Наде Ивановой, и привезли барана и убили его. Вот это принципы ...»
Ваничка знал, что у папа принципы, что убивать животных и есть баранов — грех. И, вероятно, сам, охотно бы не ел мяса, которым усердно пичкали его, заставляя есть все через силу. И отец не сомневался, что Ваничка все поймет и крыс пожалеет.
Несколько месяцев Ваничка хворал лихорадкой, но с середины зимы температура спала и он стал поправляться. Никто не ожидал того, что случилось. Никто не сознавал, не верил. Как всегда в таких случаях, несчастье случилось молниеносно.
Ваничка заболел. В страшном жару, почти 41°, он продолжал думать о других. «Ничего, мама, не волнуйся, — говорил он ей в проблесках сознания. — Все будет хорошо». «Няня, не плачь, зачем плачешь?»
Но детский доктор Филатов определил молниеносную форму скарлатины, спасенья не было. Через полутора суток Ванички не стало.
Гробик стоял в той же, теперь безжизненной, детской, наполненной одуряющим запахом гиацинтов. Во всем доме чувствовалась ничем не заменимая жуткая пустота и невольно все, от мала до велика, сплотились, стараясь как-то заполнить эту пустоту. Перед лицом торжественности, чистоты и величия этой смерти, все разногласия, недобрые чувства, недоразумения, исчезли как дым. В душе своей каждый старался не думать о своем горе, а о горе другого. Сдерживая рыдания, Маша неслышными, легкими шагами носилась по дому. Ухаживала за матерью, отцом, первая открыла, что Саша нездорова, жар, горло болит, вероятно, тоже скарлатина в легкой форме. Мальчики старались быть хорошими, сидели дома, учились. Вся любовь, нежность, заботы семьи, главным образом отца, сосредоточились на матери. Отец был, как всегда, сдержан, внешне спокоен, страданий своих он старался никому не показывать. Но неизвестно, что больше раздирало душу детей, молчаливые слезы отца и какие-то страшные гортанные звуки, не то кашель, не то стоны, которые он давил в себе, или громкие рыдания, крики, причитания и стоны матери, не прекращавшиеся ни днем, ни ночью.
«Зачем? — кричала она и билась головой о стену, рвала на себе волосы или, рыдая, бегала из угла в угол. — Зачем его отняли у меня?» — и в следующий момент: «Неправда! Он жив! Ну, говорите же, что вы молчите! Ведь он же не умер? — кричала она. — Дайте мне его! Что вы молчите, как истуканы! Ааа! Вы говорите: «Бог добрый»! Так зачем же Он отнял его у меня? Зачем?!»
Но разве окружающие знали: зачем? Отец знал. Он знал, что этот маленький, столь похожий на него мальчик, и жизнью и смертью своей внес в окружавший его мир, в семью — Любовь.
Люди часто в минуты тяжелого горя делятся им со своими старыми друзьями, с которыми они когда-то были близки. Толстой знал, что «Бабушка» поймет.
«Последние эти дни Соня говела с детьми и с Сашей, которая умилительно серьезно молится, говеет и читает Евангелие, — писал он ей. — Она, бедная, очень больно была поражена этой смертью. Но думаю — хорошо. Нынче она причащалась, а Соня не могла, потому что заболела. Вчера она исповедовалась у очень умного священника Валентина (друг-наставник Машеньки, сестры), который сказал хорошо Соне, что матери, теряющие детей, всегда в первое время обращаются к Богу, но потом опять возвращаются к мирским заботам и опять удаляются от Бога, и предостерегал ее от этого. И, кажется, с ней не случится этого».
«...Единственная задача жизни всякого человека, — писал он ей в том же письме, — в том только, чтобы увеличить в себе любовь, и, увеличивая в себе любовь, заражать этим других, увеличивая в них любовь. И когда теперь сама жизнь поставила мне вопрос: зачем жил и умер этот мальчик, не дожив и десятой доли обычной человеческой жизни? Ответ общий для всех людей, к которому я пришел, вовсе не думая о детях, не только пришелся к этой смерти, но самым тем, что случилось со всеми нами, подтвердил справедливость этого ответа. Он жил для того, чтобы увеличить в себе любовь, вырасти в любви, так как это нужно было Тому, кто его послал, и для того, чтобы,.. уходя из жизни к Тому, кто есть любовь, оставить эту выросшую в нем любовь в нас, сплотить нас ею. — Никогда мы все не были так близки друг к другу, как теперь, и никогда ни в Соне, ни в себе я не чувствовал такой потребности любви и такого отвращения ко всякому разъединению и злу. Никогда я Соню так не любил, как теперь. И от этого мне хорошо».
Те же мысли Толстой излагал в своем дневнике от 12 марта;
«...Одно из двух: или смерть, висящая над всеми нами, властна над нами и может разлучать нас и лишать нас блага любви; или смерти нет, а есть ряд изменений, совершающихся со всеми нами, в числе которых одно из самых значительных есть смерть, и что изменения эти совершаются над всеми нами, различно сочетаясь, одни прежде, другие после, как волны.»
«Смерть детей с обыкновенной точки зрения: природа пробует давать лучших, и, видя, что мир еще не готов для них, берет их назад. Но пробовать она должна, чтобы идти вперед... Как ласточки, прилетающие слишком рано, замерзают. Но им все-таки надо прилетать. Так Ваничка.
Но это объективное, дурацкое рассуждение. Разумное же рассуждение то, что он сделал дело Божие: установление Царства Божия через увеличение любви, больше, чем многие, прожившие полвека и больше».
Софья Андреевна записывает в своем дневнике: «Вернулись мы осиротелые в наш опустевший дом, и помню я, как Лев Николаевич внизу, в столовой, сел на диван... и, заплакав, сказал:
— Я думал, что Ваничка один из моих сыновей будет продолжать мое дело на земле после моей смерти.
И в другой раз приблизительно то же:
— А я-то мечтал, что Ваннчка будет продолжать после меня дело Божие. Что делать!»1.
Сестре она писала:
«Лёвочка согнулся совсем, постарел, ходит грустный с светлыми глазами, и видно, что и для него потух последний светлый луч его старости. На третий день
326
смерти Ванички он сидел, рыдая, и говорил: «В первый раз в жизни я чувствую безвыходность».
Но ни в ком из его близких не было ни малейшего сомнения, что каковы бы ни были страдания отца, он примет их, как новое, Богом посланное ему испытание. Боялись за мать. Сможет ли она принять свою утрату как крест Божий, смирится ли она? Найдет ли смысл для дальнейшего существования? Откроется ли ей тот духовный мир, к которому полубессознательно тянул ее, отлетевший в вечность, маленький сын?
Ранней весной Толстой по обыкновению не поехал в Ясную Поляну, а остался с женой в Москве, стараясь работой отвлечься от своего горя. А работы у него было всегда больше, чем он мог переделать. Как он часто говорил: «Еще на три жизни хватило бы». В дневнике 12 марта 1895 года он писал, что ему «захотелось писать художественное», — кончить начатое и задуманное: 1) «Коневская» (Воскресение), 2) «Кто прав», 3) «Отец Сергий», 4) «Дьявол в аду» («Восстановление ада»), 5) «Купон» (Фальшивый купон), 6) «Записки матери», 7) «Александр I» («Посмертные записки старца Федора Кузьмича», 8) драма («И свет во тьме светит»), 9) «Переселенцы и башкиры».
Всю весну 1895 года Толстой усиленно писал «Воскресение» и к I июля закончил первую редакцию. «Подмалевка Коневской (Воскресение) кончена», — помечает он в дневнике 4 июля.
В связи с состоянием жены, Толстой меньше чем когда-либо мог мечтать о перемене тех условий своей внешней жизни, в которых он продолжал жить и которые все так же угнетали его. Он не мог не думать об этом, ища выхода. Мысли эти вылились в форме завещания, которое он записал в своем дневнике 27 марта 1895 г. Маша тогда же переписала его и хранила у себя. Завещание это Толстой подписал только 23 июля 1901 г.
Здесь приводятся основные положения этого завещания:
«...Похоронить меня там, где я умру, на самом дешевом кладбище, если это в городе, и в самом дешевом гробу, как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить. Если можно, то без священника и отпевания. Но если это неприятно тем, кто будет хоронить, то пускай похоронят и как обыкновенно с отпеванием, но как можно подешевле и попроще...
Бумаги мои все дать пересмотреть и разобрать моей жене, Черткову В. Г., Страхову и дочерям Тане и Маше... Сыновей своих я исключаю из этого поручения, не потому, что я не любил их (я, слава Богу, в последнее время все больше и больше любил их), и знаю, что они любят меня, но они не вполне знают мои мысли, не следили за их ходом... Дневники моей холостой жизни я прошу уничтожить не потому, что я хотел бы скрыть от людей свою дурную жизнь, — жизнь моя была обычная дрянная... жизнь беспринципных молодых людей, но потому, что эти дневники, в которых я записывал только то, что мучило меня сознанием греха, — производят ложно одностороннее впечатление и представляют... А впрочем, пускай остаются мои дневники, как они есть. Из них видно, по крайней мере то, что, несмотря на всю пошлость и дрянность моей молодости, я все-таки не был оставлен Богом и хоть под старость стал, хоть немного, понимать и любить Его... Из остальных бумаг моих прошу тех, которые займутся разбором их, печатать не всё, а то только, что может быть полезно людям.
Право на издание моих сочинений прежних: десяти томов и азбуки прошу моих наследников передать обществу, т. е. отказаться от авторского права. Но
только прошу об этом и никак не завещаю. Сделаете это — хорошо. Хорошо будет это и для вас — не сделаете — это ваше дело. Значит, вы не могли этого сделать. То, что сочинения мои продавались эти последние 10 лет, было самым тяжелым для меня делом в жизни.
Еще и главное, прошу всех, и близких и дальних, не хвалить меня (я знаю, что это будут делать, потому что делали и при жизни самым нехорошим образом), а если уж хотят заниматься моими писаниями, то вникнуть в те места из них, в которых, я знаю, говорила через меня Божья сила, и воспользоваться ими для своей жизни. У меня были времена, когда я чувствовал.что становился проводником воли Божией.Часто я был так не чист, так исполнен страстями личными, что свет этой истины затемнялся моей темнотой, но все-таки иногда эта истина проходила через меня и это были счастливейшие минуты моей жизни. Дай Бог, чтобы прохождение их через меня не осквернило этих истин, чтобы люди, несмотря на тот мелкий нечистый характер, который они получили от меня — могли бы питаться ими. В этом только значение моих писаний. И потому меня можно только бранить за них, а никак не хвалить.
Вот и всё.
Лев Толстой».
В начале июня Толстые переехали в Ясную Поляну. Кузминские не приезжали уже теперь на лето во флигель. Между двумя, так дружно жившими прежде семьями, легла тень. Это произошло из-за старшего сына Миши, беспринципного и развращенного малого. Старшие, особенно Лёва, боялись, что Миша будет иметь пагубное влияние на младших братьев Толстых — Андрюшу и Мишу. В так называемом Кузминском доме-флигеле жил теперь профессор московской консерватории, пианист и композитор С. И. Танеев.
Этим летом Чертков с женой и маленьким сыном Димой поселились в 4 верстах от Ясной Поляны, в небольшом домике, который отыскал для них Толстой. Друзья виделись почти ежедневно и для Толстого было большой радостью близость его друга. Чертков следил ежедневно за тем, что писал Толстой, помогал ему в переписке, отвечал за него на некоторые письма, целиком вошел в его жизнь. Софья \ндреевна, вся семья, даже оба старшие сына отдавали Черткову должное, радовались, что отцу хорошо с ним, но не очень его любили. Вероятно, причиной этой была властность Черткова, который как бы овладевал всеми мыслями, писаниями Толстого, по-своему, по-чертковски, интерпретируя их, точно это было его собственностью.
В начале августа Толстого впервые посетил Антон Павлович Чехов, писавший как раз в это время свою «Чайку». Оба писателя сразу почувствовали друг к другу симпатию и им было обоим и легко и просто. «Он очень даровит, — писал Толстой сыну Льву в Швецию, — и сердце у него, должно быть, доброе, но до сих пор нет у него своей определенной точки зрения».
В своем дневнике от 9 августа С. И. Танеев писал: «Лев Николаевич говорил о Чехове, очень одобрял его, как писателя. «Если бы можно было соединить Чехова с Гаршиным, то вышел бы очень крупный писатель, — говорил Л. Н. — У Чехова мало того, что было у Гаршина, который всегда знал, чего он хочет, а Чехов не всегда знает, чего он хочет» .
По-видимому, сам Чехов тоже остался доволен своим свиданием с Толстым.
«Я прожил у него [Толстого] 1 1/2 суток, — писал Чехов Суворину. — Впечатление чудесное. Я чувствовал себя легко, как дома, и разговоры наши с
Львом Николаевичем были легки...»4 И далее, в следующем письме: «Дочери Толстого очень симпатичны. Они обожают своего отца и веруют в него фанатически. А это значит, что Толстой в самом деле великая нравственная сила, ибо, если бы он был неискренен и не безупречен, то первые стали бы относиться к нему скептически дочери, так как дочери те же воробьи: их на мякине не проведешь... Невесту и любовницу можно надуть, как угодно, и в глазах любимой женщины даже осел представляется философом, но дочери — другое дело»5.
Иностранцы продолжали от времени до времени посещать Толстого: приезжали английский филолог Маршал и профессор русского языка в Сорбонне Поль Буайэ — большой умница и блестящий собеседник, с которым Толстые сохранили дружбу на многие годы.
Но как ни интересны и приятны были некоторые гости, постоянное присутствие чужих в доме — было тяжело. Толстые были лишены семейной жизни. Ни за едой, ни вечерами за круглым столом в зале, под широким абажуром лампы, нельзя было посидеть одним, потолковать о том, что кто читает, кто в кого влюбился, как кто провел день, какие у кого обновки, одним словом, Толстые были лишены того, чем так дорожит всякая семья — личной жизни. Они жили на виду у всех, под стеклянным колпаком. Люди, окружавшие Толстого, записывали все, что он делал, говорил. Толстой, со свойственной ему, почти юношеской, предприимчивостью и интересом ко всему окружающему, увлекся ездой на велосипеде. Это доставляло ему громадное удовольствие, но... этот незначительный факт — обсуждался. «Толстой ездит на велосипеде! Уместно ли это? Не противоречит ли взглядам христианина?» Чертков был обеспокоен...
Тетенька Мария Николаевна Толстая все это прекрасно понимала. В ней была та же широта, чуткость и жизнерадостность, как и у ее брата. Ей нелегко было, когда она приехала этим летом из своей тихой обители Шамординского монастыря
и попала в это чуждое ей и разношерстное общество. Нелегко ей было мириться со взглядами своего брата, отошедшего от православия и окруженного такими же, как он, отошедшими от православия людьми. Но между братом и сестрой существовало другое: ничем не заменимая родственная близость и, несмотря на разные пути, — глубокое понимание смысла жизни. О расхождении своем они избегали разговаривать. Она знала, как сильно брат переживает смерть любимого мальчика, но об этом они не говорили, без слов понимая друг друга. Брат надеялся, что она поддержит Соню в ее горе, поможет ей через церковь и веру православную найти утешение. Софья Андреевна любила «Машеньку», как она ее называла, и Машенька бережно, с сочувствием подходила к ней. Постороннему человеку, вероятно, странно было видеть эту монахиню в толстовском окружении. Весь облик Марии Николаевны в черном одеянии, черной повязке, скрывавшей половину ее широкого, умного лба, с четками, которые она постоянно перебирала своими длинными с коротко остриженными ногтями пальцами, которые были так похожи на пальцы ее брата — был монашеский. Она строго соблюдала посты, подолгу молилась у себя в комнате. Но не было в ней и тени напускной монашеской строгости. Она интересовалась всем, с наслаждением слушала музыку, которую прекрасно знала, так как сама была прекрасной пианисткой. Она любила природу, цветы, понимала шутку, тонкий юмор, и все приходили в восторг, когда карие живые глаза тетеньки вдруг задорно загорались, беззубый рот расплывался в хитрую, лукавую улыбку и тетенька отпускала пресмешное, меткое замечание или острую шутку.
Мирная жизнь Толстого и его друзей этим летом была нарушена известием, глубоко их взволновавшим. Единомышленник Толстого, князь Хилков, сосланный на Кавказ, сообщал в письме к Толстому о массовом религиозном движении духоборов, об отказе духоборов отбывать воинскую повинность и о репрессиях правительства. Статья, присланная Хилковым, которую он просил Толстого напечатать в газетах в том духе, в котором она была составлена, не внушила доверия Толстому, и Поша Бирюков решил ехать на Кавказ, чтобы проверить факты и разузнать подробности.
В то время о секте духоборов было известно очень мало, хотя она и существовала уже с середины XVIII века. Преследовать их начали с 1792 года, когда их сослали в Сибирь, но в начале XIX века, в царствование Александра I, их переселили на Кавказ. Интересна мотивировка екатеринославского губернатора, куда он в донесении своем в Петербург писал, что «все зараженные иконоборством не заслуживают человеколюбия, ибо ересь их особенно опасна и соблазнительна для последователей тем, что образ жизни духоборцев основан на честнейших правилах и важнейшее их попечение относится ко всеобщему благу, и спасение они чают от благих дел» .
«Главнейший догмат исповедания духоборцев есть служение и поклонение Богу духом и истиною. Всякую наружность, яко ненужную в деле спасения, отвергают» .
«Бога признают в трех лицах единого-неисповедимого. Веруют, что памятью мы уподобляемся Богу Отцу, разумом — Богу Сыну, волею — Богу Духу Святому; также первое лицо — свет — Отец Бог наш; второе лицо — живот — Сын Бог наш, и третье лицо — покой — Свят Дух Бог наш.
Изображение Три-Ипостасного Бога в натуре: Отец — высота, Сын — широта, Дух Святый — глубина. Сие же берут и в нравственном смысле: Отец высок, и
никто не может выше Его возглаголять; Сын широк разумом; глубины Духа никто не может исповедать.»8
«...Семь небес означают у них семь евангельских добродетелей, таким образом:
Первое небо есть смирение; второе — разумение; третье — воздержание; четвертое — братолюбие; пятое — милосердие; шестое — совет; седьмое — любовь; там живет и Бог.
Подобно сему двенадцать христианских добродетелей изображаются у них в виде 12 друзей. Сии друзья суть:
1) Правда — человека от смерти избавляет.
2) Чистота — человека к Богу приводит.
3) Любовь — иде же любовь, тамо и Бог.
4) Труды — телу честь и душе вспоможение.
5) Послушание — скорый путь ко спасению.
6) Неосуждение — без труда человеку спасение.
7) Рассуждение — всей добродетели свыше.
8) Милосердие — от него — человека сам сатана трепещет.
9) Покорение — самого Христа Бога нашего дела.
10) Молитва с постом — она человека с Богом соединяет.
11) Покаяние — нет закона и заповеди выше его.
12) Благодарение — радость Богу и ангелам Его».9
Духоборы не признают никого выше Бога и закона Его. Если власти приказывают им исполнять то, что противоречит закону Бога, они отказываются подчиняться. Христос сказал: «Вы слышали, что сказано древним; не убивай; кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». И духоборы отказываются убивать или учиться убивать, отбывая воинскую повинность.
Спокон веков на Кавказе существовал обычай носить оружие — кинжалы, ружья — которые служили защитой от воинствующих племен, разбойников и диких зверей. Придя к убеждению, что всякое убийство грех, духоборы стали вегетарианцами и решили, что оружие им не нужно. В Елизаветпольской губернии, Карской области и Ахажалакском уезде Тифлисской губернии, где были главные поселения духоборов, они собрали все свое оружие, сложили его в громадные костры и два дня сжигали и плавили, под торжественное пение псалмов. Одновременно последовал целый ряд отказов от воинской повинности.
Соседи в преувеличенном виде донесли властям о том, что произошло, власти решили, что это бунт и послали казаков «усмирять» духоборов. Духоборы были жестоко избиты нагайками, четверо убиты, около двухсот были арестованы и посажены в тюрьмы, имущество духоборов было разграблено, земля отнята и около 4000 человек были расселены по глухим армянским и грузинским деревням.
Толстой был потрясен этими событиями. Только глубокая вера в Бога могла заставить людей с такой стойкостью и терпением вынести подобные страдания. В движении духоборов Толстой видел начало возрождения истинного христианства в русском народе. С другой стороны, он был глубоко возмущен тем, что в конце XIX века, в так называемом цивилизованном мире производятся такие жестокости по отношению к людям, которые были виноваты только в том, что хотели исполнить заветы Христа и старались жить так, как повелевала им их совесть.
Бирюков в своей книге «Духоборцы» рассказывает о поступке Федора
Лебедева, брата Матвея Лебедева, который один из первых отказался от воинской повинности и подвергся тяжелому наказанию — поступок этот дает яркое представление об убеждениях духоборов.
«В духоборческое селение Родионовку пригнали арестанта этапным порядком, для препровождения его дальше. Очередь вести арестанта пала на Федора Лебедева, родного брата Матвея, отказавшегося от военной службы в Елизаветполе.
Федор Лебедев заявил старосте, что он не может сопровождать арестанта, так как он не может совершить над ним никакого насилия и, стало быть, будет бесполезен. И просил старосту так и доложить об этом начальству. Староста ответил: «Я не предатель ваш, дело твое, а я приведу тебе на двор арестанта, ты с ним и возись, как хочешь».
Федор Лебедев возвратился домой и сидел в своей хате, когда староста, действительно, привел арестанта к нему в дом и оставил, а сам ушел. Федор Лебедев обошелся с ним, как со странником; обогрел, напоил, накормил его, уложил спать. На другое утро, видя, что арестант человек бедный, дал ему на дорогу 1 рубль 50 коп. денег и предложил вывести из деревни; когда вышли за деревню, он показал ему две дороги, одну — направление его этапного пути, а другую — на волю, предоставив выбрать ему, что он хочет. Арестант выбрал первое и дошел по назначению. Этот случай не имел дурных последствий»10 .
Разумеется, напечатать в русских газетах о преследовании духоборов было невозможно. Бирюков написал статью «Гонения на христиан в России» и она была напечатана в лондонском «Таймсе», под редакцией и с предисловием Толстого, и широко распространена в рукописях в России. О преследовании духоборов заговорили. В Америке и в Англии духоборами заинтересовались квакеры. В глазах правительства, которое несправедливо приписало Толстому все духоборческое движение, деятельность Толстого становилась все опаснее и опаснее. Говорили, что, узнав про статьи в «Тайме», Победоносцев страшно взволновался. Многие друзья Толстого, в том числе и Бирюков, попали под надзор полиции. А в Толстом, как всегда, когда преследовались его единомышленники, было два чувства — радость, «как радостны страдания родов, приближающихся к концу», как он писал Н. Н. Страхову от 5 октября 1895 года, подразумевая духовное возрождение людей, и — огорчение, что он сам был лишен этих страданий. «Иногда хочется нарочно вызвать чем-нибудь гонение», — писал он Хилкову 12 марта 1895 г.
В апреле 1896 года, после ряда новых арестов, когда люди сажались в тюрьму только за чтение или передачу другому Толстовских запрещенных брошюр, Толстой не выдержал и написал министрам юстиции и внутренних дел, прося гонения на его единомышленников направить на него:
«...Если же правительство хочет непременно не бездействовать, а наказывать, угрожать или пресекать то, что оно считает злом, то наименее неразумное и наименее несправедливое, что оно может сделать, состоит в том, чтобы все меры наказания, устрашения или пресечения зла направить против того, что считается правительством источником его, т. е. против меня, тем более, что я заявляю вперед, что буду не переставая, до своей смерти делать то, что правительство считает злом, а что я считаю своей священной перед Богом обязанностью».
Влияние Толстого распространялось не только в России, но и заграницей. То в одной, то в другой стране появлялись сильные, проникнутые учением Толстого,
люди. В Голландии, Англии, Америке, Германии, даже в Японии. В Австро-Венгрии друг Маковицкого, словак д-р Шкарван, один из самых искренних и морально чистых людей, пострадавший за отказ от военной службы, написал записки о своих мытарствах и прислал их Толстому.
В Англии — англичанин Кенворти, приезжавший к Толстому, автор нескольких работ о христианстве, организовал христианскую общину «Братская церковь» и занялся печатанием «Изложения и перевода 4 Евангелий».
В Америке — Эрнест Кросби распространял взгляды Толстого. Истинное христианство в Америке, в ранных его толкованиях также, как и во всех европейских странах, во всех религиях, вырождалось, оставалась лишь оболочка без содержания, и люди, осмелившиеся будить умы, сонно дремлющие в своем буржуазно-сереньком материальном благополучии, и напоминать о христианском образе мышления и жизни, были беспокойны и даже вредны. Кросби писал Толстому, ища поддержки, и в конце декабря 1895 года Толстой написал Кросби длинное письмо, превратившееся в целую статью с изложением того, как он понимает учение Христа, и о непротивлении злу насилием.
«Нет такого нравственного правила, — писал Толстой, — против которого нельзя бы было придумать такого положения, при котором трудно решить, что нравственнее: отступить от правила или исполнить его?.. То же и с вопросом непротивления злу насилием: люди знают, что это дурно; но им так хочется продолжать жить насилием, что они все силы своего ума употребляют не на уяснение всего того зла, которое произвело и производит признание человеком права насилия над другим, а на то, чтобы защитить это право».
Существовало ошибочное мнение, что Толстой оказывал моральное давление на людей, уговаривая их жить так или иначе: раздавать имущество нищим, не жениться и не выходить замуж, не есть мяса, не идти на военную службу. Многие, издевавшиеся над взглядами Толстого, говорили, что Толстой учит «непротивлению злу», умышленно опуская слово «насилием», что совершенно искажало смысл его учения.
На самом же деле Толстой, так тонко изучивший психологию человека и по опыту знавший, с каким трудом человек достигает каждой новой ступени в своем духовном развитии, боялся слишком горячих, необдуманных поступков, особенно молодых, которые, не рассчитавши своих сил, стараясь перескочить несколько ступеней сразу, падали и больно расшибались. Толстой удерживал их.
Из Голландии единомышленник Толстого обратился к нему с вопросом, что посоветовать юноше, которого призвали на военную службу.
«...Я нахожу бесполезным и часто даже вредным, — ответил ему Толстой в длинном письме, — проповедывать известные поступки или воздержание от поступков, как отказ от военной службы... Нужно, чтобы все действия происходили не из желания следовать известным правилам, но из совершенной невозможности действовать иначе. И потому, когда я нахожусь а положении, в котором вы очутились перед этим молодым человеком, я всегда советую делать всё то, что от них требуют, — поступать на службу, служить, присягать и т. д., — если только это им нравственно возможно; ни от чего не воздерживаться, пока это не станет столь же нравственно невозможным, как невозможно человеку поднять гору или подняться на воздух. Я всегда говорю им; если вы хотите отказаться от военной службы и перенести все последствия этого отказа, старайтесь дойти до той степени уверенности и ясности, чтобы вам стало столь же невозможным присягать
и делать ружейные приемы, как невозможно для вас задушить ребенка или сделать что-нибудь подобное. Но если это для вас возможно, то делайте это, потому что лучше доставить лишнего солдата, чем лишнего лицемера или отступника учения, что случается с теми, кто предпринимает дела свыше своих сил».
В школе живописи и ваяния Таня познакомилась с очень милым, талантливым молодым человеком, Л. А. Сулержицким — Сулером, как его звали товарищи. Сулер был общим любимцем, он вносил веселье всюду, где бы он ни появлялся. Казалось, что у Сулера было столько талантов, что он сам не знал, что с ними делать. Он был и художник, и актер, и интересный собеседник, и чудесно пел заливчатым тенором малороссийские и цыганские песни. И Сулеру, и окружающим его бывало весело, потому что все его любили, и он любил всех.
Сулера призвали на военную службу. Но Сулер отказался, и его посадили в тюрьму. Все друзья Сулера, в том числе и сам Толстой, были, и не без основания, обеспокоены его поступком. В тюрьме Сулер дошел до состояния полного расстройства, и начальство перевело его в Московский военный госпиталь, на испытание. Толстой виделся с ним и уговаривал его надеть мундир. И когда Сулер согласился отбывать воинскую повинность во флоте и ушел в дальнее плавание, ни Толстой, ни Чертков, ни кто-либо другой из друзей Сулера, не осудили его за слабость, но особенно ласково и бережно отнеслись к нему. Толстой писал Сулеру: «Продолжайте так же любовно жить, как вы жили с окружающими — смиренно, правдиво, — и всё будет хорошо». И к этому же письму приписка: «Несравненно больше люблю вас теперь после перенесенного ва.ми страдания».
В декабре Толстой задумал написать новую пьесу — «И свет во тьме светит». Драму эту он начал писать с увлечением, бредил ею по ночам, почти всю набросал, но она не пошла и он, не закончив, бросил ее. В ней было слишком много предвзятого, личного, своего — попытка изложения своих взглядов, отчасти своей собственной семейной драмы, и это не удалось.
Может быть, мысль писать драму пришла в голову Толстого вследствие успеха «Власти тьмы», которая была впервые разрешена к постановке императором Николаем II, и Толстой еще раз мог убедиться в том, какое сильное впечатление производит драматическая форма творчества.
Первым поставил «Власть тьмы» московский народный театр «Скоморох». В октябре и ноябре 1895 года драма была исполнена на сценах императорских театров, Александрийского в Петербурге и Малого в Москве. В обоих случаях режиссеры, декораторы и костюмеры отнеслись крайне добросовестно к своим задачам: ездили в Ясную Поляну, зарисовывали избы, скупали бабьи наряды, делали фотографические снимки и учились правильному произношению народных слов.
Во всех театрах «Власть тьмы» прошла с громадным успехом. 29 ноября, после спектакля в Малом театре, толпа студентов собралась во дворе Хамовниче-ского дома — и когда Толстой, которого не было, пришел домой, студенты вошли за ним в переднюю. Один из студентов вскочил на стул и в горячей речи благодарил Толстого за «Власть тьмы». Они устроили Толстому бурную овацию, целовали его руки, выражая ему свой восторг. Если бы Толстой мог, он убежал бы — все эти выражения восторга, овации, были ему невыносимы. Он взволновался так, что в первые минуты не мог произнести ни слова.
В то время среди студенчества шло непрекращающееся брожение против
правительства, демонстрации, сходки. В Толстом они видели не только знаменитого писателя, но и революционера. Может быть, это была одна из причин, почему Толстому были тяжелы эти выражения восторга, эти овации. Революционная молодежь видела в Толстом союзника, как борца против ненавистного им царского правительства, угнетавшего рабочий народ. Путь мирный, через веру в Бога, постепенное совершенствование человечества, путь неподчинения насилию, которым шли духоборы — люди умышленно игнорировали, и не желали видеть, какая пропасть отделяла Толстого от революционеров.
В мае 1896 года Толстые — Софья Андреевна, Миша и Саша — поехали в Москву на коронацию. Москва была неузнаваема: высшие правительственные и военные чины, придворные, весь петербургский «свет» — все это переехало в Москву. Дома, квартиры, гостиницы были переполнены. Некоторые москвичи перебирались в одну комнату или к знакомым, и сдавали свои особняки на время коронации приезжим за большие деньги. На улицах появились военные в гвардейских мундирах, город украсился трехцветными флагами, полиция усилила посты конными и пешими городовыми, около Красного Крыльца в Кремле были возведены трибуны для публики, откуда видна была вся церемония. Толпы народа приветствовали молодого царя, когда он проезжал по улицам Москвы. Весна стояла ранняя, солнечная.
Черным пятном легло на все это торжество то, что случилось в этот день на Ходынском Поле. Там предполагалось устроить народное гулянье с раздачей народу царских подарков — узелков, в которых, кроме гостинцев, была кружка с царским гербом и инициалами, и выигрышный билет.
Десятки тысяч людей заполнили Ходынское Поле. Никем не организованная, беспорядочная толпа бросилась к павильонам, где сначала раздавались, а потом швырялись в толпу подарки. Люди обезумели. Они лезли друг на друга, падали, задние напирали на передних, пробиваясь вперед и топча под ногами полуживых и мертвых. Они уже не думали о подарках, а лишь о спасении своих жизней. Некоторые из них спихивались толпой в канавы, на них наваливались всё новые и новые тела... Ругань, крики, стоны...
Говорили, что погибло около 3000... омрачилось торжество коронации. Как в народе, так и в высших сферах говорили о «плохом предзнаменовании», о том, что царствование императора Николая II кончится трагично.
Оба младших, Андрюша и Миша, учиться не хотели. Андрюша совсем бросил гимназию и отбывал воинскую повинность вольноопределяющимся в Твери. Мать делала все, что она могла, чтобы дотянуть Мишу хотя бы до экзамена зрелости.
Не меньше матери огорчался отец. То, кончит ли Миша лицей или нет, бьшо не так важно. Отца огорчало отсутствие выдержки, дисциплины в его сыновьях, моральная распущенность, внутренняя пустота их жизни. Но никто не был в этом виноват. Так сложилась жизнь. Могли ли юноши — Андрюше было 18, а Мише 16 лет — пойти за отцом? Они остро чувствовали разлад в семье — два мировоззрения — и, не имея твердого отцовского руководства, они шли по линии наименьшего сопротивления, давая волю своим страстным, увлекающимся натурам, унаследованным от обоих родителей. Старшие дети выросли в нормальных условиях строгой дисциплины, порядка, когда отец занимался их воспитанием. Младшим было трудно, со всех сторон их влекли соблазны: богатые, ничего не делающие товарищи, кутежи, ночные поездки на лихачах за город к цыганам. Мальчики не
знали счета деньгам, особенно Андрей. Он прокучивал все деньги у цыган, а на следующий день ходил мрачный, грубил матери и снова выпрашивал у нее денег.
Отец страдал. Мысли о мальчиках порой так угнетали его, что он не мог работать.
«Андрюшу целую, — писал он. — Помоги ему Бог найти путь, приближающий его к Нему. Пусть, главное, жалеет и блюдет свою душу бессмертную, Божескую, а не туманит ее».
Но как он мог помочь им? Он знал, что безделье, вольные, незаработанные ими деньги были для них гибелью. Трудовая дисциплина, необходимость работать — было единственное, что могло удержать их от всех тех соблазнов, через которые он прошел сам — кутежи, увлечение крестьянскими девушками, цыганками.
Миша застрял в 6-м классе гимназии, и мать перевела его в лицей, но она с ужасом видела, что в лицее Миша не занимался, пропускал классы, не готовил уроков. Это было тем более обидно, что Миша выделялся своим умом, способностями и музыкальностью. Он прекрасно, для своих лет, играл на скрипке. Его учитель, с которым он исполнял уже сонаты Бетховена и Моцарта, предсказывал ему блестящую будущность, но Миша предпочитал подбирать по слуху на фортепьяно аккорды к цыганским романсам, которые он вполголоса напевал верным, приглушенным тенорком в те редкие вечера, когда мать заставляла его сидеть дома.
В середине октября Толстой написал сьшу длинное письмо.
«Главный и основной соблазн, против которого предостерегает учение Христа, состоит в том, чтобы верить, что счастье состоит в удовлетворении похоти своей личности. Личность, животная личность, всегда будет искать удовлетворения своих похотей, но соблазн состоит в том, чтобы верить, что это удовлетворе-
ние доставит благо. И потому огромная разница в том, чтобы, чувствуя стремление к похоти, верить, что удовлетворение ее доставляет благо, и потому усиливать похоть; или напротив, знать, что это удовлетворение удалит от истинного блага, и потому ослаблять стремление».
В другом письме отец предостерегает Мишу от увлечения крестьянской девушкой:
«Для того, чтобы влюбление было чисто и высоко, надо, чтобы оба влюбленные были на высокой, одинаковой степени духовного развития; кроме того, влюбление имеет благотворное влияние тогда, когда для достижения взаимности от предмета любви нужны большие усилия, подвиги со стороны влюбленного, а не тогда, как это в твоем случае, когда для достижения взаимности ничего не нужно, кроме гармонии и пряников и для уравнения себя с предметом любви нужно не поднятие себя до него, а принижение себя. Такое влюбление есть не что иное, как скрытая похоть, усиленная прелестью первобытности жизни народа...».
«Миша получил твое письмо, — писала Софья Андреевна, — Андрюша и он читали его, когда я вошла к ним. Андрюша искал старательно в письме, с чем бы не согласиться, и помнил одно, чтоб ему не унизиться согласием со всем. Миша этим немного заразился... Когда ушел Андрюша, и я попыталась с письмом в руках растолковать, разъяснить Мише твои мысли, то он уже иначе начал говорить и иначе на всё смотреть. Вообще он довольно мягкий материал, и если не покладать рук в его воспитании, то, влияя на него, можно сделать из него порядочного малого. А сегодня учитель его скрипичный говорит, что чем больше он его учит, тем больше убеждается, что у Миши большой талант музыкальный. Жаль будет, если Миша засорит и зароет все свои способности, — надо и надо помочь ему»1.
Не только младшие сыновья волновали родителей. Лева хворал, жил в Швеции и лечился у знаменитого врача Вестерлунда. Илья всё больше и больше запутывался в материальных заботах. Имение не приносило достаточно дохода, чтобы прожить. Семья прибавлялась — у него уже было трое детей — Анна, Миша и младший Андрей, который постоянно болел, кашлял и не поправлялся.
Несмотря на строгие принципы, руководившие их жизнью, и их безграничную преданность отцу, обе старшие дочери томились потребностью личного счастья, желанием иметь свои семьи. Таня, кроме служения отцу, заполняла жизнь искусством, живописью, Маша — изучением медицины и помощью окружающим ее людям.
Большой радостью для всей семьи была женитьба Сергея на Мане Рачинской, дочери директора знаменитой сельскохозяйственной Петровской Академии.
Трудно было себе представить застенчивого, скрытного, стыдящегося выражения всяких чувств, некрасивого Сережу, ухаживающим за хорошенькой, привлекательной девушкой, Маней Рачинской. Танина подруга была прелестна, умна, мила, образована (она окончила университет в Англии).
В апреле 1895 года Толстой писал жене:
«Я после завтрака вошел в Танину комнату. Там была Маня. Я думал, что она одевается, извинился и хотел затворить дверь. — «Нет, вы не мешаете», — сказала она, и тут же выступил от стены Сережа сконфуженный, тоже заявляя, что я не мешаю. Они оба были так сконфужены, что я был уверен, что свершилось, но, к сожалению, когда я вернулся после велосипеда, Сережа сказал, что она едет нынче,
и когда я спросил о том, что у них было с Маней, он сказал: «Щекотливый разговор». Она нынче уехала в Англию».
Но Маня скоро вернулась и 10 июля свадьба была торжественно отпразднована в Петровско-Разумовском, под Москвой.
В октябре 1895 года между Толстыми чуть было не испортились отношения. Неустанной лаской и заботой Толстой старался удержать религиозный подъем, пробудившийся в жене со смертью Ванички. Он внимательно следил за ней. Со свойственным ему оптимизмом он надеялся, что она заполнит духовными, внутренними интересами, любовью к детям, к нему, к людям вообще, пустоту, оставшуюся после смерти Ванички. Он готов был на какие угодно жертвы, лишь бы сохранить с нею любовные и мирные отношения. Письмо жены от 12 октября, вероятно, огорчило и может быть в первые минуты возмутило его, но он подавил в себе эти недобрые чувства.
«Зачем ты в дневниках своих всегда, упоминая мое имя, относишься ко мне так злобно? — писала мужу Софья Андреевна. — Зачем ты хочешь, чтоб все будущие поколения и внуки наши поносили имя мое, как легкомысленной, злой и делающей тебя несчастным — женой? Ведь если это прибавит тебе славы, что ты был жертвой, то насколько же это погубит меня! Если б ты меня просто бранил или даже бил за всё то, что я делаю по-твоему дурно, ведь и то мне было бы несравненно легче; — то прошло бы, — а это всё останется... Ты обещал мне вычеркнуть те злые слова, относящиеся ко мне в твоих дневниках. Но ты этого не сделал; напротив. Или ты в самом деле боишься, что посмертная слава твоя будет меньше, если ты не выставишь меня мучительницей, а себя мучеником, несущим крест в лице жены.
Прости меня, если я сделала подлость и прочла твой дневник. Меня на это натолкнула случайность. Я убирала твою комнату и, обтирая твой письменный стол от пыли и паутины снизу, — я смахнула ключ. Соблазн заглянуть в твою душу был так велик, что я это и сделала. И вот я натолкнулась, приблизительно, на такие слова: «Приехала С. из Москвы. Вторглась в разговор с Боль, выставила себя. Она стала еще легкомысленней после смерти В. Надо нести крест до конца. Помоги Господи», и т. д...
Когда нас с тобой не будет в живых, то это легкомыслие будут толковать кто как захочет, и всякий бросит грязью в жену твою, благо ты всякого вызываешь на это своими словами.
И всё это за то, что я всю жизнь жила только для тебя и детей твоих, что любила тебя одного больше всех на свете (кроме Ванички), что легкомысленно (как ты это рассказываешь будущим поколениям) я себя не вела и что умру душой и телом только твоей женой...
...если тебе не очень трудно это сделать, — выкинь из всех дневников своих всё' злобное против меня. Ведь это будет только по-христиански. Любить меня я не могу тебя просить, но пощадить мое имя, если не трудно, то сделай это, впрочем как хочешь и это. Еще раз пытаюсь обратиться к твоему сердцу. Пишу это с болью и слезами. Говорить никогда не буду в состоянии. Прощай. Всякий раз, как уезжаю, невольно думаю: увидимся ли?
Прости, если можешь.
С. Толстая»2.
Вероятно, сама Софья Андреевна не ожидала того действия, которое произвело ее письмо.
«Все эти дни видел, что что-то мучает Соню, — записал Толстой в дневнике 13 октября 1895 года. — Нынче утром объяснилось. Она прочла мои злые слова о ней, написанные в минуту раздражения. Я как-то раздражился и тотчас же написал и забыл. В глубине души чувствовал, что что-то сделал дурное. И вот она прочла. И бедная, ужасно страдала и, милая, вместо озлобления, написала мне это письмо. Никогда еще я не чувствовал себя столь виноватым и умиленным. Ах, если бы это еще больше сблизило нас. Если бы она освободилась от веры в пустяки и поверила бы в свою душу, свой разум. Пересматривая дневник, я нашел место — их было несколько — в котором я отрекаюсь от тех злых слов, которые я писал про нее. — Слова эти писаны в минуты раздражения. — Теперь повторяю еще раз для всех, кому попадутся эти дневники. — Я часто раздражался на нее за ее скорый необдуманный нрав, но, как говорил Фет, у каждого мужа та жена, которая нужна для него. Она, — я уже вижу как, была та жена, которая была нужна для меня. — Она была идеальная жена в языческом смысле — верности, семейности, самоотверженности, любви семейной, языческой, и в ней лежит возможность христианского друга. Я увидел это после смерти Ванички. Проявится ли он в ней? Помоги, Отец. Нынешнее событие мне прямо радостно. Она увидала и увидит силу любви — ее любви на меня».
...«Все два дня перечитываю дневники с тем, чтобы уничтожить, что неправда, и нашел только одно место, но и то далеко не такое гадкое, как то, которое огорчило тебя», — писал он ей 2 ноября.
Никто из семьи, кроме Маши, не знал о том, что произошло. Маша была глубоко возмущена и мысль, что история в будущем ложно осветит жизнь отца с матерью, благодаря уничтожению документов, однобокому освещению отношении родителей, ее страшно мучила. Сам же Толстой об этом не думал. Он обвинил одного себя в том, что допустил по отношению к ней недобрые чувства и продолжал в письмах поддерживать ее духовно.
«Чтобы не волноваться, надо молиться, — писал Толстой жене 3 октября 1895 г. в Тверь из Ясной Поляны, где жил с Машей. — Ты знаешь это, потому что сама теперь молишься. Только молиться я предпочитаю не по книжке, не чужими словами, а своими. Молиться я называю обдумывать свое положение не в виду каких-нибудь мирских событий, а в виду Бога и смерти, т. е. перехода к Нему или в другую обитель Его. Меня это очень успокаивает и утверждает, когда я живо пойму и сознаю то, что я здесь только на время, и для исполнения какого-то нужного для меня дела. Если я здесь делаю по силам своим это дело, то что же может со мной случиться неприятного? Ни здесь, ни там? Знаю я, что для тебя главное горе — разлука с Ваничкой. Но и тут всё то же спасенье и утешенье: сближение с Богом, — а через Бога — с ним. Оттого-то и обращаемся мы в горе потерь, смертей — к Богу, что чувствуем, что соединение с ними — только через Него».
«Хотел тебе написать, милый друг, — писал он 25 октября 1895 г. из Ясной Поляны, — в самый день твоего отъезда, под свежим впечатлением того чувства, которое испытал, а вот прошло полтора дня, и только сегодня, 25-го, пишу. Чувство, которое я испытал, было странное умиление, жалость, и совершенно новая любовь к тебе, любовь такая, при которой я совершенно перенесся в тебя, и испытывал то самое, что ты испытывала. Это такое святое, хорошее чувство, что не надо бы говорить про него, да знаю, что ты будешь рада слышать это, и знаю, что от того, что я выскажу его, оно не изменится. Напротив, начавши писать тебе,
испытываю то же. Странно это чувство наше, как вечерняя заря. Только изредка тучки твоего несогласия со мной и моего с тобой уменьшают этот свет. Я всё надеюсь, что они разойдутся перед ночью, и что закат будет совсем светлый и ясный».
Она немедленно ответила ему на это письмо:
«Те облачка, которые, как тебе кажутся, еще затемняют иногда наши хорошие отношения — совсем не страшны. Они чисто внешние, — результат жизни, привычек, лень их изменить, слабость, — но совсем не вытекают из внутренних причин. Внутреннее, самая основа наших отношений остается серьезная, твердая и согласная. Мы оба знаем, что хорошо и что дурно, и мы оба любим друг друга. Слава Богу и за это! И оба мы смотрим на одну точку, — на выходную дверь из этой жизни, не боимся ее, идем вместе, и стремимся к одной цели — божеской. Какими бы путями мы ни шли, это всё равно. — Радуюсь, что вы все здоровы и живете хорошо. Мне немножко завидно, что у вас нет обойщиков, типографщиков, гувернанток, экипажного шума, городовых и траты денег с утра до вечера. Трудно в этом хаосе оставаться в созерцании Бога и мирном, молитвенном настроении. Буду и так стараться выбиваться из земной коры, чтобы не погрязнуть совсем. А трудно!»3.
Софье Андреевне было действительно трудно пробиваться в той земной коре, в которую зажала ее созданная ею самой жизнь.
Зимой 1895 года у Толстых гостила Елизавета Валерьяновна Оболенская, старшая дочь монахини Марии Николаевны Толстой. Софья Андреевна очень любила всех трех сестер, и семьи часто видались, и одно время мальчики Оболенские, особенно старший, Колаша, жили в доме Толстых. Из трех сестер' Лизанька была самая рассудительная и спокойная; Варенька — Варвара Валери-ановна Нагорнова — была общей любимицей. Люди невольно начинали улыбаться, когда Варенька подходила к ним, столько ласки и доброты светились в ее черных, похожих на материнские, глазах. Ее муж Нагорнов был человек небогатый, служил, и когда он умер, Вареньке, у которой была большая семья, приходилось очень трудно. Но она не унывала, как-то существовала и воспитывала своих детей. Про Вареньку Толстые любили рассказывать анекдоты об ее рассеянности. Сидит Варенька на званом обеде рядом со старым, в орденах, важным генералом. Зачесалась коленка у Вареньки; под столом, незаметно, Варенька ее почесала, но облегчения не почувствовала. И вдруг с ужасом видит она, как побагровел сосед ее по столу, генерал, и смотрит на нее выпученными глазами. Оказалось, что почесывала она не свою, а генеральскую коленку.
Софья Андреевна рассказывала, что когда Толстой получил гонорар за «Войну и мир», он обеим племянницам подарил денежные билеты по 5 000 рублей. Приехала Софья Андреевна к Вареньке, видит разбитое окно заклеено странной какой-то бумагой. Вгляделась — 5000-й билет.
Третья дочь, Леночка, была гораздо моложе своих сестер. Она никогда не была счастлива. Отцом ее был швед, с которым Марья Николаевна познакомилась за границей. Говорили, что он был прекрасный, чуткий человек. От него, вне брака, родилась Леночка, воспитанная за границей. Марью Николаевну так мучил ее грех, что, вернувшись в Россию, она постриглась в монастырь.
Обе старшие сестры были очень привязаны к своему дяде, особенно Лизанька. Своим присутствием в доме ей хотелось помочь Софье Андреевне, но,
прожив несколько дней в Хамовниках, она переехала к друзьям.
«Толстые очень милы, ласковы и родственны, — писала она своей старшей дочери М. Л. Маклаковой, — но они живут такой шумной, не семейной, беспокойной жизнью; с утра и до пяти часов никого дома нет; к обеду 2-3 человека чужих; вечером или опять никого дома нет или опять чужие. Таня много занята своей школой, тетя Соня подверглась какой-то большой и несимпатичной для всех нас перемене. Она стала беспокойна, никогда не бывает дома, стала наряжаться, то есть, скорее, заниматься своей наружностью, стала ездить в театры и концерты, вообще производит впечатление человека, который страшно спешит жить и не теряет ни одной минуты. Она объясняет это тем, что после смерти Ванички не может вести прежний образ жизни, и еще вдруг пробудившейся любовью к музыке. Но нам всем кажется, что это просто страх перед старостью и желание еще казаться не старухой, а женщиной. Я думаю, что это чисто физиологический процесс. Это женщина, в которой физика всегда брала перевес перед душой. Я бы отнеслась к ней строже, если бы со всем этим она не была жалка; она сама это сознает и говорит: «Я живу как-то беспорядочно и беспокойно, как потерянная, но не могу иначе». В другой раз я нарочно заговорила с ней про Ваничку, чтобы указать ей, как мелко и ничтожно всё то, чем теперь полна ее жизнь, в сравнении с этим горем, и раскаялась, что это сделала: она страшно разрыдалась и просила никогда с ней о Ваничке не говорить. Дочери с ней очень хороши; им, в особенности умной и чуткой Тане, очень тяжело видеть мать в таком настроении, но они с ней очень мягки и деликатны; конечно, немного сверху вниз, как с ребенком, но трудно требовать другого. Лев Николаевич кроток и мудр; как его ни осуждай, а всё-таки в этом человеке великий ум и дух. Машу я мало видела, но, сколько видела, она добра и кротка»...4
Та перемена в Софье Андреевне, которую все в доме замечали, не нравилась в семье Толстых. Никто не осуждал ее, все жалели, но незаметно она теряла уважение детей, которое они, несмотря на взрывы грубости и непослушания, всегда чувствовали к матери. Да, казалось, и не за что было осуждать. Разве было что-нибудь плохое в том, что мать увлекалась музыкой, ходила по концертам, приглашала в дом музыкантов. Разве что-нибудь было предосудительного в том, что Софья Андреевна начала учиться музыке и что она всего охотнее проводила время с милым, талантливым композитором и пианистом С. И. Танеевым?
Ничего ни плохого, ни предосудительного в поведении матери не было, но и в любви ее к музыке и к Танееву чувствовалась неестественная наигранность, фальшь и от этого страдала вся семья Толстых, от мала до велика.
Заглянем на минуту в душу 12-летней Саши, наивной, малоразвитой девочки, некрасивой, неуклюжей и болезненно застенчивой, с ярко выраженным, как англичане говорят, inferiority complex'oм, девочки заброшенной почти всецело на попечение гувернанток и старой няни.
Когда вечером в Хамовническом доме бывало много гостей, чай подавался в парадных комнатах наверху, если же приходило несколько человек своих, чай накрывался в нижней столовой, где семья обычно завтракала и обедала. Это была большая комната с паркетным полом, громадным буфетом у стены, простыми дубовыми стульями, обклеенная темными обоями, с часами кукушкой.
Кончив уроки, Саша бежала в столовую, в надежде ухватить где-нибудь яблоко, конфету, вообще что-нибудь вкусное. Саша уже знала, что в те дни, когда мама уезжала днем в Охотный Ряд и из саней выгружались бесконечные
рогожные, так вкусно пахнувшие кулечки и ленточками перевязанные коробочки от Трамблэ, — что будут гости. И действительно, в нижней столовой был накрыт стол белой скатертью и на серебряном подносе пыхтел и плевался большой, с перехватом в середине, самовар, а на столе... чего только не было... и варенья разные, и печенья, фрукты, конфеты, бутерброды с анчоусами и крутыми яйцами и зернистой икрой.
— Гости сегодня? — спрашивала Саша экономку Дунечку, которая в вазочке несла обсыпанную сахаром смокву.
— А я почем знаю, графиня мне не докладует... музыкант этот толстый, должно быть... Не хватай смокву! А это кто сделал? Небось ты икрой скатерть запачкала! Уходи отсюда!
— А сладкий пирожок можно?
— Бери и уходи отсюда... грех один с вами...
К девяти часам, потирая зазябшие на морозе руки, приходил Танеев. Красное, блестящее, веселое лицо его сияло добродушием.
— Саша, пора спать, — говорила мать, — Иди, иди, слышишь?
Уходя, Саша сердито косилась на Танеева. «Мне даже конфетку не дали; а неужели всё это угощение для него!» Не спалось. Няня очень громко, с присвистом, храпела. Почему-то раздражало присутствие этого человека в доме, его захлебывающийся на высоких нотах смех... и душу наполняла горькая обида... Неизвестно на кого...
Танеев был очень мил с Сашей. Превесело было играть с ним в воланы, вместе с ним смеяться над его неуклюжестью. Громадным удовольствием было слушать его игру, особенно когда он играл Шопена или Моцарта, — от музыки его собственного сочинения клонило ко сну. Саша охотно ходила бы с матерью в концерты; музыка, доступная ей, переносила ее в воображаемый прекрасный мир чудесной фантазии и счастья, но всё это было отравлено. Чем? Она не сумела бы ответить. Только с годами чувство враждебности к матери выросло и приняло более определенные формы, бороться с этим чувством было трудно, оно мучило ее, отравляло ей ее отроческие и юношеские годы. С годами для Саши хождение по концертам превратилось в тягость, особенно когда кресла в шестом ряду, абонированные матерью на сезон, оказались рядом с Танеевым, и когда своими замечаниями во время исполнения сложной симфонии мать мешала, как Саше казалось, Танееву слушать музыку по-серьезному, по-ученому, не так, как слушала мама и обыкновенная публика.
Но Саша старалась не останавливаться на этих сложных, непонятных ей ощущениях. У нее были свои увлечения — главное — каток, который устраивался в саду Хамовнического дома. Саша с мальчишками артельщика поливала его сама, возила воду из колодца в тяжелой кадке на санках. Катались на коньках все, лучше всех Миша. Он крутился волчком, пистолетом, вытянув одну ногу спускался с ледяной горы, с невероятной ловкостью делал испанский прыжок, и Саша часами практиковалась, стараясь подражать Мише.
Софья Андреевна была нездорова и лечилась у профессора Снегирева. Ничего, по-видимому, серьезного — недомогание, связанное с возрастом, и усилившее ее нервно-психическое состояние. Одиночество, углубление в себя — то, чем жил ее муж, ей становилось всё более и более невыносимо. Ей хотелось движения", музыки, света, людей.
«Что тебе сказать, голубчик, о своей внутренней жизни? — писала она мужу в
марте 1896 года из Москвы. — Не знаю и не смею признаться, потому что не хороша та суета, к которой я продолжаю стремиться, чтобы заглушить всё, что меня теперь в жизни мучает и что до сих пор больно. Пока говела, было лучше: а теперь опять или ищу развлечения и всяких ощущений — или чувствую наплыв тоски и нервности, и тогда бегу куда-нибудь — вон из дому или вон из себя. Последнее время дела, слава Богу, всякого много. — Хотела написать Тане, и вот написала опять тебе. Все равно, я ее тоже люблю и помню, и целую крепко. Очень рада, если вам хорошо, но я уж не люблю тишины — увы! А еще меньше люблю одиночество»5.
И снова Толстой внимательно, как всегда, отнесся к письму жены и сейчас же отвечает ей:
«...Хотел бы тебе сказать, что твое желанье забыться, хотя и очень естественно, — не прочно; что, если забываешься, то только отдаляешь решение вопроса, а вопрос остается тот же, и всё так же необходимо решить его, не на этом свете, так в будущем, т. е. после плотской смерти... Решить вопрос жизни и смерти своей и близких надо неизбежно, и от этого не уйдешь. Хотел всё это сказать тебе, да не говорю потому, что надо самой это пережить и придти к этому. Одно скажу, что удивительно хорошо бывает, когда ясно не то, что поймешь, а почувствуешь, что жизнь не ограничивается этой, а бесконечна. Так сейчас изменяется оценка всех вещей и чувств, точно из тесной тюрьмы выйдешь на свет Божий, на настоящий».
В середине мая 1896 года сын Лев, лечившийся в Швеции у знаменитого шведского профессора Вестерлунда, женился на его дочери Доре, и Таня и Миша поехали в Швецию на свадьбу. Сначала семья Толстых не знала, радоваться ли или огорчаться, но и Таня и Миша были в восторге и от Швеции, и от своей 17-летней восторженной, очень любящей Льва бель-сёр.
Насколько брак Льва на иностранке, не говорившей по-русски, с которой вначале Толстые объяснялись только по-английски, был удачен, настолько женитьба Сергея оказалась большим для всех огорчением. Никто не знал настоящей причины, почему неожиданно Маня, которую так ласково приняли в семью, которую Сергей так любил, неожиданно его бросила. Кругом делалось, как всегда, много предположений, обвиняли Маню, гадко сплетничали. Сергей молчал. Он уединился в свой маленький домик в Никольском-Вяземском, играл на фортепиано, сочинял, и в музыке изливал свое горе. У Мани родился сын Сергей. После родов она вскоре заболела туберкулезом и умерла.
Лето 1896 года во флигеле Ясно-Полянского дома жил Танеев со своей старой нянюшкой — старушкой с больными ногами, сморщенным, покрытым сплошь, с маленькими просветами, веснушками лицом. Танеев принимал участие во всем — прогулках, игре в крокет, вечером играл с Толстым в шахматы или услаждал всех первоклассной игрой. Вероятно, у него не было техники профессионального пианиста, но знание музыки, тонкость понимания, передача тех или иных музыкальных произведений — были поразительны. Стоило ему сесть за фортепиано, взять первый аккорд, как он совершенно преображался. Он никого и ничего не видел вокруг себя — он весь погружался в звуки, жил ими, увлекая всех вокруг себя. Особенно хорошо он играл Бетховена и свою любимую «сонату-пассонату», как говорила его нянюшка. И слушая его, трудно было думать, что только что этот человек дико и как-то бессмысленно хохотал во всю глотку, когда Саша нарочно запускала волан в его толстое брюхо.
Танеев ни одной минуты не подозревал об особом пристрастии к нему Софьи Андреевны. То внимание, которое она оказывала ему, он принимал как должное. Он привык к нему. Друзья его — три старые девы и их брат, старый холостяк, Масловы, окружали его такой же заботой. Танеев был настолько порядочный и добрый человек, что он немедленно порвал бы всякие сношения с Софьей Андреевной, если бы ему могло прийти в голову, что его присутствие тяжело Толстому.
Летом 1896 года в Ясной Поляне гостила Лизанька Оболенская. 26 сентября она писала дочери своей Маше: «Последний день моего пребывания в Ясной приехала тетя Соня. Молода, весела, нарядна, красива. В первый раз, что она была мне не очень приятна. Ее странное отношение к Танееву (говорю: странное, потому что не знаю, как назвать это чувство у 52-летней женщины) зашло так далеко, что Лев Николаевич, наконец, не выдержал и стал делать ей сцены: — она говорит ревности, а по-нашему, просто обиды, оскорбления и негодования. Тогда она стала бегать на Козловку будто бы кидаться под рельсы, пропадала целую ночь в саду, вообще скандалила страшно и измучила их вконец. Таня уехала к Олсуфьевым, а Маша совсем заболела от вечного напряжения нерв. Я понимаю, что нельзя уважать такой матери. Всё это было не теперь, а летом, в августе, после отъезда из Ясной этого «мешка со звуками», как я его называю. С нее всё, как с гуся вода; по-прежнему весела и бодра, абонировалась на все концерты и знать ничего не хочет!» .
Лизанька была права. О ревности не могло быть и речи. Но Толстому было обидно, горько, что его жена, мать взрослых детей, могла поставить себя в такое унизительное, неестественное положение.
В письме от 1 февраля 1897 года Толстой писал жене по поводу ее поездки в Петербург, где впервые давали оперу Танеева:
«Ты мне говорила, чтоб я был спокоен, потом сказала, что ты не поедешь на репетицию. Я долго не мог понять: какую репетицию. И никогда и не думал об этом. Й все это больно. Неприятно, больше чем неприятно... мне было узнать, что несмотря на то, что ты столько времени рассчитывала, приготавливалась, когда ехать в Петербург, кончилось тем, что ты едешь именно тогда, когда не надо бы ехать... Знаю, что и ничего из того, что ты едешь теперь, не может выдти, но ты невольно играешь этим, сама себя возбуждаешь; возбуждает тебя и мое отношение к этому. И ты играешь этим. Мне же эта игра, признаюсь, ужасно мучительна и унизительна и страшно нравственно утомительна. Ты скажешь, что ты не могла иначе устроить свою поездку. Но, если ты подумаешь и сама себя проанализируешь, то увидишь, что это неправда, во-первых, и нужды особенной нет для поездки, во 2-х, можно было ехать прежде и после — постом. Но ты сама невольно это делаешь. Ужасно больно и унизительно стыдно, что чуждый совсем и не нужный и ни в каком смысле не интересный человек (Танеев) руководит нашей жизнью, отравляет последние годы или год нашей жизни, унизительно и мучительно, что надо справляться, когда, куда он едет, какие репетиции когда играет. Это ужасно, ужасно отвратительно и постыдно».
Да и Софья Андреевна прекрасно чувствовала, что что-то не то происходит с ней и по-своему мучилась. 18 июля 1897 года она писала: «Знаю я это именно болезненное чувство, когда от любви не освещается, а меркнет Божий мир, когда это дурно, нельзя — а изменить нет сил» .
Изменить она не могла. А между тем Толстые с каждым годом все больше и больше удалялись друг от друга.
«Я очень занят своей работой, — писал Толстой жене в сентябре месяце 1896 года, — все бьюсь над одним местом о грехах: вчера как будто уяснил, нынче опять все искромсал и спутал. Хочется писать другое, но чувствую, что должен работать над этим, и думаю, что не ошибаюсь по спокойствию совести, когда этим занят, и неспокойствием когда позволяю себе другое. Это большое благо иметь дело, в котором не сомневаешься... Если кончу, то в награду (курсив мой. А. Т.) займусь тем, что начато и хочется*.
Толстой заканчивал статью «Как читать Евангелие» и «Письмо к либералам», которое было написано Толстым по поводу закрытия Комитета Грамотности, деятельность которого — распространение образования среди широких масс — развивалась параллельно с книгоиздательством «Посредника». Это письмо разрослось в целую статью.
Как обычно за последние годы, Толстой считал роскошью писание художественного, это было не дело, но он это любил и он позволял себе писать художественное после того, как было исполнено то, что он считал своим долгом. К исполнению этого долга поощрял его Чертков. Софья Андреевна, Стаховичи, Стасов и другие светские друзья его радовались, когда из-под пера Толстого выходило художественное. Особенно громко и восторженно выражал свое восхищение В. В. Стасов: «Великий Лев, маститый, недосягаемый», — кричал он. Один только обожающий Толстого Н. Н. Страхов всегда с одинаковым интересом принимал все, что писал Толстой. Но Толстой лишился своего друга — тонкого, умного критика: Страхов умер в начале года в страшных мучениях от рака языка.
То, что Толстой называл «наградой» и над чем он не позволял себе работать, была повесть «Хаджи Мурат».
«Вчера иду по передвоенному черноземному пару, — писал он в дневнике июля 19, когда он гостил в имении своего брата Сергея Николаевича. — Пока глаз окинет, ничего кроме черной земли — ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной, серой дороги куст татарина (репья), три отростка: один сломан, и белый, загрязненный цветок висит; другой сломан и забрызган грязью, черный, стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в середине краснеется. Напомнил Хаджи Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля хоть как-нибудь, да отстоял ее».
Картины Кавказа с его величественной красотой, нравами его полудиких, самобытных и лихих племен, в покорении которых он сам участвовал, и образ столь привлекательного, могучего чеченца джигита, молодца Хаджи-Мурата, пронеслись в его голове. Татарник трудно было сорвать: «мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, — писал Толстой в предисловии, — он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна»... «Какая, однако, энергия и сила жизни, — подумал я вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. — Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».
И он набросал историю Хаджи-Мурата.
«За это время была поездка в монастырь с Соней, — писал он в дневнике. — Было очень хорошо... Написал о Хаджи-Мурате очень плохо, начерно. Все продолжал свою работу изложения веры».
История Хаджи-Мурата относится к началу 50-х годов. В конце декабря
1851 года, когда Толстой был на Кавказе, он упоминает в письме к брату Сергею о «первом лихаче (джигите) и молодце во всей Чечне», Хаджи-Мурате. Во время завоевания Кавказа Хаджи-Мурат, обуреваемый чувством мести к имаму (высшему руководителю духовной и общественной жизни народа) Шамилю, убившему его отца и братьев, — передался русским. Хаджи-Мурат заявил Наместнику Кавказа князю Воронцову, что он готов служить русским верой и правдой с одним условием — чтобы русские отбили его семью у Шамиля. Хаджи-Мурат знал, что если сын его останется в плену, Шамиль или убьет его или выколет ему глаза.
Время шло. Ничего о семье не слышно было.
И Хаджи-Мурат решил уйти от русских. Перебив стражу, он с пятью мюридами поскакал в горы. Сотня милиционеров настигла их, они были окружены, но Хаджи-Мурат и его мюриды решили не сдаваться живыми. С смертельной раной в боку Хаджи-Мурат еще сражался — «вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом поднялось туловище и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался...»
В 1902 году Толстой получил письмо от И. И. Корганова, сына полковника, под надзором которого находился Хаджи-Мурат. Толстой немедленно написал ему письмо с рядом вопросов: «1) Жил ли Хаджи-Мурат в отдельном доме или в доме вашего отца? Устройство дома. 2) Отличалась ли чем-нибудь его одежда от одежды обыкновенных горцев? 3) В тот день, когда он бежал, выехал ли он и его
нукеры с винтовками за плечами или без них? — Много бы хотелось спросить еще, но боюсь утруждать вас...».
Но хотя Толстой до 1904 года периодически возвращался к «Хаджи-Мурату», повесть, как он считал, осталась незаконченной.
Кроме статьи «Как читать Евангелие», «Carthago delenda est»*, еще в конце сентября 1896 года Толстой начал статью «Что такое искусство?».
Гостивший летом в Ясной Поляне С. И. Танеев часто и много играл. Толстой любил классическую музыку, особенно Шопена, Моцарта, Гайдна. Но когда Танеев играл современных композиторов, Толстой возмущался и ожесточенно спорил с Танеевым о музыке и искусстве вообще, доказывая, что оно только тогда настоящее, когда понятно и доступно всем. Возможно, что эти споры отчасти и побудили Толстого писать об искусстве. Когда весной этого же года он слушал в Большом театре оперу «Зигфрид», он выскочил, как он писал брату Сергею, «оттуда, как бешеный». «Глупый... балаган с претензией, притворством, фальшью сплошной, и музыки никакой». Толстой быстро закончил статью вчерне и окончательно отделал ее в конце 1897 года.
Другие заботы отвлекали Толстого от писания. Гонения на духоборов усиливались.
Октября 31 Толстой писал жене: «Вчера получил от Черткова и Трегубова письма с описанием бедствий, претерпеваемых духоборами. Одного, они пишут, до смерти засекли в дисциплинарном батальоне, а семьи их, разоренные, как они пишут, вымирают от бездомности, голода и холода. Они написали воззвание за помощью к обществу, и я решил послать им из наших благотворительных денег 1000 рублей».
В конце этого же письма Толстой приписывает: «Это известие было для меня главным событием за это время».
И. М. Трегубое познакомился с Толстым еще в 1891 году и с тех пор твердо следовал учению Толстого. Это был маленький человек с мелкими чертами лица, круглой бородкой, носил синие очки, был скромен, тих, несколько склонен к мистицизму, по поводу чего часто спорил с Толстым, и имел золотое сердце. Он принимал горячее участие в деле помощи духоборам и до конца жизни остался убежденным христианином. После революции он, по слухам, подвергся гонениям со стороны советского правительства, был сослан в один из лагерей на север России, где и умер, не перенеся тяжких лишений.
Чертков, Бирюков и Трегубое написали воззвание к обществу — «Помогите!», Толстой проредактировал его и написал к нему послесловие. Воззвание было размножено и разослано влиятельным правительственным чиновникам, общественным деятелям, и напечатано за границей.
«Ведь Пилату и Ироду можно было не понимать значения того, за что был приведен к ним на суд возмущавший их область галилеянин, — писал Толстой; — они даже и не удостоили узнать, в чем состоит его учение... но ведь нам нельзя не знать ни самого учения, ни того, что оно не исчезло в продолжении 1800 лет и не исчезнет до тех пор, пока не осуществится... Среди духоборов, или скорее, христианского всемирного братства, как они теперь называют себя, происходит ведь не что-нибудь новое, а только произрастание того семени, которое посеяно Христом 1800 лет тому назад, — воскресение самого Христа...»
* «Карфаген должен быть разрушен».
Со свойственным ему оптимизмом Толстой утверждал, что «Воскресение это ведь должно совершиться, ...и нельзя закрывать глаза на то, что оно совершается»...
Чем больше были гонения, тем сильнее разгорался духовный подъем среди духоборов. Жестокие мучения, которым они подвергались, не только не пугали их, но, наоборот, они, как первые христиане, с радостной стойкостью переносили страдания за веру Христову. В своей статье «Где брат твой?» Чертков рассказывает, как, отвечая начальнику, который спрашивал их, в чем они согласны подчиняться начальству и в чем нет, один из духоборов сказал: «Дайте нам в руки крошечный камушек и скажите бросить его в человека, — мы не сможем этого сделать; но скажите нам переваливать с места на место самый тяжелый камень, — это мы охотно будем делать»1.
В квартире Черткова был произведен обыск, за Толстым и всеми его последователями был установлен полицейский надзор, статья «Помогите!» вызвала ряд репрессий против толстовцев.
31 января 1897 г. Толстой с дочерью ТанеЙ уехал в имение Олсуфьевых, где в тишине, окруженный заботой и любовью своих друзей, отдыхал душой и писал. 5 февраля приехала в Никольское Софья Андреевна, а на следующий день Горбунов-Посадов привез Толстому грустную весть о немедленной ссылке В. Г. Черткова за границу, а Бирюкова в Курляндскую губернию. В тот же день Толстой, вместе с Софьей Андреевной, выехал в Петербург, чтобы проститься со своими друзьями.
Если бы поводом к поездке в Петербург не было расставание с друзьями и тяжелое сознание исключительности своего положения, Толстому было бы приятно его пребывание в Петербурге, где он не был уже 15 лет. Он с интересом ходил по улицам сильно разросшегося города, с трудом узнавая некоторые улицы.
Весть о приезде Толстого молниеносно разнеслась по городу, друзья наперебой приглашали Толстого к себе, — все хотели с ним повидаться. А. Ф. Кони в своих воспоминаниях рассказывает о посещении Толстого:
«Часов в 11 вечера, вернувшись домой из какого-то заседания, я сел за работу... Моя старая прислуга сказала мне, что меня спрашивает какой-то мужик. На мой вопрос, кто он такой и что ему надо так поздно, она вернулась со справкой, что его зовут Лев Николаевич. С нежным уважением провел я «мужика» в кабинет и мы пробеседовали целый час, причем он поражал меня своим возвышенным и всепрощающим отношением к тому, что было сделано с Чертковым. Ни слова упрека, ни малейшего выражения негодования не сорвалось с его уст. Он произвел на меня впечатление одного из тех первых христиан, которые умели смотреть бестрепетно в глаза мучительной смерти и кротостью победили мир»2.
Толстой заходил в Публичную библиотеку, Художественным отделом которой заведывал В. В. Стасов. Навестил и своего старого товарища по перу Григоровича; зашел и в мастерскую Репина. В своих воспоминаниях последний описывает это посещение:
«...В моей огромной мастерской собралась группа близких, преданных Льву Николаевичу. Посетившие ходили гурьбой за учителем и слушали, что скажет он перед той или другой картиной. Счастье выпало на долю картины «Дуэль». Перед ней Лев Николаевич прослезился и много говорил о ней с восхищением. Все смотрели картину и ловили каждое его слово. После осмотра целой гурьбой по
академической лестнице мы спустились на улицу, где нас ждала уже порядочная толпа. Соединившись, мы заняли весь тротуар и двигались к Большому проспекту, к конкам. Кондуктор конки, уже немолодой человек, при виде Льва Николаевича, как-то вдруг оторопел, широко раскрыл глаза и почти крикнул: «Ах, батюшки, да ведь это ж, братцы, Лев Николаевич Толстой!» — и благоговейно снял шапку»3.
В дневнике наблюдений С. Петербургского Охранного Отделения описаны каждый шаг, и даже одежда Толстого.4
В первый день: «Граф Толстой был одет в некрытый дубленый с несколькими заплатами полушубок, подпоясанный серым кушаком, в брюках темного цвета навыпуск, на голове вязаная темносерая круглая шапка, и с палкой в руках».
В таком-то часу «Л. Толстой, Бирюков и помянутый мужчина отправились к Аничкову мосту, оттуда конно-железной дорогой поехали в Академию Художеств, причем граф Толстой сел на империал, а у Казанского Собора переместился вовнутрь вагона. Находившиеся в вагоне несколько студентов университета тотчас же подошли к нему и в разговоре стали усиленно просить его посетить их университетский акт, на что граф Толстой изъявил свое согласие; при этом один из студентов тут же поцеловал графу руку. «После Академии» с теми же лицами и состоящим под особым наблюдением отставным гвардии штабс-ротмистром Владимиром Чертковым и все поехали к матери Черткова...»
Для Зимнего дворца Толстой заменил заплатанный полушубок более приличной одеждой и в донесении сказано: «Отправляясь в Зимний дворец, Л. Толстой был одет в драповое пальто с барашковым воротником, брюки темно-серого цвета и серую поярковую шляпу» .
Из этого описания полиции мы знаем, что Толстой заходил с «состоящим под особым наблюдением отставным коллежским секретарем П. И. Бирюковым» в кондитерскую на Невском проспекте, был в нескольких книжных магазинах, подстриг волосы и бороду в парикмахерской...
За свое пребывание в Петербурге Толстой разошелся с «бабушкой» Александрой Андреевной. «Бабушка» на этот раз не поняла своего старого друга.
Толстой был под впечатлением рассказов о духоборах, пострадавших за веру Христову. Он приехал проводить сосланных на многие годы самых близких друзей своих, пострадавших за помощь духоборам. Вся эта жестокость совершалась правительством именем царя, которому была так предана Александра Андреевна. Роскошь Зимнего дворца, где жила «бабушка», придворная атмосфера, ее желание «спасти его», все это раздражало Толстого. Встретившись с «бабушкой» у Шостак, он резко высказал свои суждения. А когда «бабушка», промучившись бессонной ночью, решила при следующем свидании спасать «бедного Льва» и открыть ему истину, он еще больше расстроился.
«Страшно выговорить, — писала «бабушка» в своих воспоминаниях... С одной стороны, любовь к правде, любовь к людям, любовь к Богу и даже к тому Учителю, все величие которого он не хочет или не может признать. С другой стороны, гордость, тьма, неверие, пропасть...»6.
А Толстой нашел «бабушку» — «мертвой, недоброй и жалкой» и, как ему казалось, «одержимой ужасной гордостью».
Из Петербурга Толстой вернулся в Никольское, имение графа Адама Васильевича Олсуфьева, в доме которого он останавливался, и продолжал писать статью «Что такое искусство?».
Несмотря на то, что Олсуфьевы принадлежали к высшему аристократическо-
му кругу, — их простота, сердечность и общительность привлекали к ним всех окружающих их людей. К ним в дом стекались люди всех классов и профессий: доктора, учительницы, фельдшерицы. Устраивались музыкальные вечера, маскарады, спектакли, танцы. Маленький, всегда сияющий добротой граф сам отплясывал мазурку со своими служащими, и Толстой признавался, что, глядя на это веселье, его самого подмывало пуститься в пляс.
В Москве Толстой снова попал в водоворот городской суеты, бесчисленных посетителей и забот.
Из Англии приехал англичанин, Эльмер Моод, член английской земледельческой общины, прекрасно говорящий по-русски, заинтересовавшийся взглядами Толстого, впоследствии один из лучших переводчиков его книг.
Как раз в это время шли разговоры о Нобелевской премии. Распространился слух, что она будет присуждена Толстому, как поборнику всеобщего мира. С точки зрения Толстого, никто не сделал для всеобщего мира больше, чем духоборы, отказавшиеся от военного дела и так жестоко поплатившиеся за свои убеждения. По справедливости Нобелевская премия должна быть присуждена им. Толстой написал об этом статью и послал ее в шведские газеты.
А между тем с Кавказа продолжали приходить тревожные известия: арестовали Ив. Мих. Трегубова, и сослали на пять лет в Курляндскую губернию.
Весной в Ясную Поляну приехали молокане из того самого уезда Самарской губернии, где живал когда-то Толстой, лечась кумысом и наслаждаясь примитивной степной жизнью. Власти силой отняли у молокан детей за то, что они не были крещены, и отправили их на воспитание в монастыри. Молокане просили заступиться за их детей. Как и в большинстве русских крестьян-сектантов, в этих ходоках-молоканах Толстой чувствовал внутреннюю силу, спокойную твердость и веру в свою правоту и тем большее впечатление производили их рассказы.
На другой же день, 10 мая 1897 года, Толстой писал царю:
«Государь, — читая это письмо, я очень просил бы Вас забыть про то, что Вы, может быть, слышали про меня, и, оставивши всякое предубеждение, видеть в этом письме только одно желание добра безвинно страдающим людям, и еще более сильное желание добра Вам, тому человеку, которого так естественно, хотя и несправедливо, обвиняют в этих страданиях.
Месяц тому назад... в Землянке, Бузулукского уезда, в дом крестьянина Чипелева, молоканина по вере, в 2 часа ночи вошел урядник с полицейскими и велел будить детей с тем, чтобы увезти их от родителей. Ничего не понимающих, испуганных мальчиков — одного 13-ти лет, другого 11-ти лет, одели и вывели на двор. Но когда урядник хотел взять двухлетнюю девочку, мать схватила дочь и не хотела отдать ее. Тогда урядник сказал, что велит связать мать, если она не пустит дочь. Отец уговорил жену отдать ребенка, потребовав от урядника расписку, в которой было бы объяснено, по чьему распоряжению взяты дети...
Через несколько дней после этого в другой деревне... пришли урядник с полицейским и велели собирать в дорогу двух девочек, одну 12-ти лет, другую 10-ти лет...
То же самое и в ту же ночь произошло в семье крестьянина той же деревни... У него отняли единственного пятилетнего сына. Мальчик этот составлял радость и надежду семьи, так как после многих лет это был единственный сын, оставшийся в живых. Когда брали этого ребенка, он был болен и в жару. На дворе было свежо. Мать упрашивала оставить его на время. Но пристав не согласился и сообразно с
мнением доктора, решившего, что для жизни ребенка нет опасности в переезде, велел уряднику взять ребенка и везти его, но мать упросила пристава позволить ей самой ехать с сыном до города. ...В городе же мальчика отняли от матери и она больше уже не видала его...
Говорят, что это делается для поддержания православия, но величайший враг православия не мог бы придумать более верного средства для отвращения от него людей, как эти ссылки, тюрьмы, разлуки детей с родителями...
...Государь, отстраните от себя хоть на время тех, не скажу злых, но заблудших людей, которые вводят Вас в обман о том, что гонениями можно будто бы поддержать веру гонителей и ослабить веру гонимых, и сами своим добрым сердцем и прямым умом решите, как и чем надо поддержать ту веру, которую считаешь истинной, и как и чем бороться с теми учениями, которые считаешь не истинными...
Воспользуйтесь случаем сделать то доброе дело, которое Вы одни можете сделать и которое очевидно предназначено Вам.
Случаи эти не всегда представляются и не возвращаются, когда пропущена возможность воспользоваться ими. Сделав это дело, Вы не только сделаете одно из тех добрых дел, которое предоставлено делать только государям, и займете высокое место в истории и памяти народа, но, что важнее всего, Вы получите внутреннее удовлетворение сознания исполненной воли Бога и предназначенного Вам Богом дела...»
Вызвался лично свезти это письмо в Петербург П. А. Буланже, часто приезжавший к Толстому и за последнее время все больше и больше интересовавшийся учением Толстого.
Насколько известно, письмо это было передано в собственные руки Государя, благодаря хлопотам друзей Толстого — Кони, Олсуфьева и А. А. Толстой. Прочел ли его царь? Понял ли он, что в Толстом не было ни чувства злобы, ни раздражения, а желание помочь открыть глаза царю на те жестокости и глупости, которые делались его именем? Кто знает...
В продолжение 4 месяцев детей не возвращали 16 семьям. Толстой бесплодно писал своим друзьям в Петербург, прося их помощи. В начале 1898 года Таня Толстая, гостившая у друзей в Петербурге, получила телеграмму от отца. Он сообщал ей, что молокане поехали в столицу хлопотать о своих детях, и просил Таню помочь им.
Таня пошла к Победоносцеву. Получил ли Победоносцев распоряжение от Государя о возвращении детей, или он испугался слишком большой огласки — неизвестно. Хотя русские газеты молчали, боясь репрессий, кроме одной ультраконсервативной газеты «Гражданин», выразившей возмущение против этих мер борьбы с сектантством, но зато в заграничной прессе широко распространились сведения о зверском отнятии детей у молокан. Какие бы ни были к тому причины, но Победоносцев любезно принял Таню, обещав ей, что дети будут возвращены родителям и, по возвращении домой, Таня получила от него следующее письмо:
«Милостивая Государыня, Татьяна Львовна.
Я советовал бы молоканам не проживаться здесь в ожидании, а ехать обратно и справиться о деле разве в Самаре у губернатора, которому написал о них сегодня же и думаю, что по всей вероятности детей возвратят им.
Покорный слуга К. Победоносцев»7.
Победоносцев сдержал свое слово, и детей возвратили родителям.
Эта неперестающая защита угнетенных отнимала много сил у Толстого. Но служение людям, так же как и его религиозно-философские статьи, было, как он считал, главным делом его совести.
Никто не знал, что переживал Толстой, какая горечь, боль, может быть, подобие ревности, терзали его одинокую, гордую душу...
Потеря близких друзей, Черткова, Бирюкова, было ничто в сравнении с тем, что он переживал теперь. Маша... Маша, бесшумно каждое утро проскальзывающая в его кабинет, со свежепереписанным писанием отца, ловящая на лету каждую его мысль, живущая его жизнью, его интересами, Маша, так хорошо понимавшая радость служения людям, убивающая свою плоть вегетарианством, спаньем на досках, покрытых тонким тюфячком, Маша... чуткая, одухотворенная... Что с ней случилось? Почему рядом с ней появилось это пропитанное барством, красивое, внешне привлекательное существо — князь Николай Леонидович Оболенский? Что было между ними общего?
Коля был сын Лизаньки Оболенской, родной племянницы Толстого, на два года моложе Маши, жил у Толстых, потому что Лизанька была бедна, с трудом содержала свою семью, и Софья Андреевна предложила Коле жить у нее в доме. Коля кончал университет по юридическому факультету, лекций не посещал, занимался постольку, поскольку было нужно, чтобы сдавать экзамены. Это был милый, честный, неглупый малый, не пьяница и не игрок. Вставал поздно, к завтраку, курил медленно, со вкусом, пуская в воздух колечки, красиво отставляя холеную руку с длинным загнутым ногтем на мизинце, любил поесть, по-барски широко давал на чай, хотя денег у него никогда не было, по-аристократически катал «р» — Коля был барин с княжескими замашками, сибарит. И Маша потерялась для отца, для окружающих. Теперь она часами сидела с Колей, и они разговаривали, и в ее серых, вдумчивых глазах появился мягкий и теплый свет и новая, точно виноватая, улыбка. Маша влюбилась в Колю Оболенского, влюбилась страстно, безрассудно, и ничего не могло удержать ее от этого замужества: ни бурные протесты матери, ни страдальческое недоумение отца. Но он и не отговаривал ее. Его личное горе — потеря Маши, как помощника и друга, было слишком остро, оно могло повлиять на его отношение к ее замужеству, а он желал ее счастья, не своего.
«Маша... — писал он ей — ничего не имею сказать против твоего намерения, вызванного непреодолимым, как я вижу, стремлением к браку... И по твоей жизни в последнее время, рассеянной и роскошной более, чем прежде, — и по жизни и привычкам и взглядам Коли, — вы не только не будете жить по-Марии-Александровски*, — но вам нужны порядочные деньги, посредством которых жить... Одной из главных побудительных причин для тебя, кроме самого брака, т. е. супружеской любви, еще дети. Дети и нужда. Это очень трудно и уж слишком явно — перемена независимости, спокойствия, на самые сложные и тяжелые страдания. Как вы об этом судили? Что он думает об этом?.. Намерена ли ты просить дать тебе твое наследство? Намерен ли он служить и где? И пожалуйста, откинь мысль о том, чтобы государственная служба твоего мужа
* Мария Александровна Шмидт — последовательница Толстого, блиткий друг всей семьи Толстых.
могла изменить мое отношение к нему, и твое отступление от намерения не брать наследства могло изменить мою оценку тебя. Я тебя знаю и люблю дальше, глубже этого и никакие твои слабости не могут изменить мое понимание тебя и связанную с ним любовь к тебе. Я слишком сам и был и есть полон слабостей и знаю поэтому, как иногда и часто они берут верх. Одно только: лежу под ним, под врагом, в его власти и все-таки кричу, что не сдамся и дай справлюсь опять, буду биться с ним. Знаю, что и ты так же будешь делать. И делай так. Только «думать надо, больше думать надо»*.
Не успела еще Маша выйти замуж, как ей пришлось столкнуться с рядом трудностей. Священник не хотел ее венчать, так как требовалось свидетельство об исповеди и причастии, а Маша уже много лет не говела. Коля хотел подкупить священника, и Маша сообщила отцу об этом намерении. В мае, накануне Машиной свадьбы, отец определенно высказал свое мнение по поводу ее решения:
«...Венчаться, не веря в таинство брака, так же дурно, как говеть не веря, не говоря о том, что для того, чтобы себя избавить от лжи, надо заставить лгать, да еще с подкупом, другого человека — священника, не говоря об этом, швыряние 150 рублей для подкупа и для избавления себя от неприятной процедуры — очень нехорошо. Ведь можно не говеть, когда это нужно сделать, только потому, что не можешь. А если можешь и венчаться и даже подкупать, то нет причины не говеть».
И Маша пошла на исповедь.
Второй компромисс был не легче. Во время раздела Маша отказалась от своей части имущества. У Коли Оболенского ничего не было, работать он не умел
* Выражение, заимствованное Толстым в бытность его в 1873 г. в самарском имении от башкира М.И. Мухедина, который, играя в шашки, любил повторять: «Думить надо... Большой думить надо!»
и не хотел, и молодым не на что было существовать. Пришлось тем, у кого имущество оказалось более ценным — Софье Андреевне, Сереже — выделить из своих частей долю Маши деньгами, что было очень сложно. Мать и братья Толстые старались не показывать своего недовольства «фокусами», как они говорили, которые выкидывала Маша, но горький осадок у семьи от всей этой истории — остался.
2 июня 1897 года Маша перевенчалась с Колей Оболенским. На свадьбе было только два шафера — Миша Толстой и брат Коли. Пошли пешком в церковь в чем были, в простых будничных платьях. Маша уехала.
А Таня? Толстой, со своей исключительной душевной чуткостью чувствовал, что и Таня постепенно отходила, но причину ее метанья, постоянных отъездов, потери интереса к его внутренней жизни, к его друзьям, к красавцу-толстовцу с бараньими глазами, Е. И. Попову, с которым у нее многие годы было то, что называют amitie amoureuse, — отец боялся предугадывать.
Что привлекло Таню к М. С. Сухотину? Вероятно, она бы не смогла объяснить этого и сама. Окружающие же просто не допускали мысли о том, что Таня, имевшая такой громадный выбор среди молодых людей, наперебой за ней ухаживавших, могла бы так серьезно, неизлечимо, полюбить этого, как Саша его называла, старика.
Сухотин был женат, у него было шесть человек детей и старший из них, Лев, был ровесник Миши Толстого. Слухи ходили, что чета Сухотиных жила недружно, они изменяли друг другу. Некоторые называли Сухотина развратником. На самом деле Сухотин был одним из тех мужчин, к которым, неизвестно почему, тянутся женщины. Встречаясь взглядом с его умными, серыми, хитро прищуренными глазами, собеседник уже знал, что этот человек не скажет глупости, банальности, и сразу делалось интересно. Но в то время не было ни одного человека в семье Толстых, который не отнесся бы к нему враждебно.
Когда умерла жена Сухотина, Таня мучилась угрызениями совести. Она мучилась тем, что еще при жизни жены Сухотина говорила с ним об их любви, хотя она не допускала никогда никакой близости, никогда не разрешила бы даже поцелуя. Таня долго скрывала чувство свое от отца, а отец был рад не замечать, не верить, что его кристально чистая, талантливая, все понимающая, чуткая Таня попадет в объятия этого истрепанного, пожившего старого вдовца. Мысль эта причиняла ему острую, почти физическую боль.
Узнав про смерть жены Сухотина, Таня заметалась. Что было делать? Любимый ею человек был свободен. Свое гнездо, может быть, свои дети, о которых она всегда мечтала, и... с другой стороны — отец и враждебность всей семьи к Сухотину, шесть человек детей — пасынков.
Софья Андреевна рвала и метала. В письме от 6 мая 1897 года она писала мужу: «Противный Сухотин, даже как человека ему не жаль жены. Сухая, подлая душа! Только бы за барышнями ухаживать!»1. Она его ненавидела.
Даже кроткая Мария Александровна Шмидт, обожавшая «милую, голубушку Таничку», как она ее называла, ни минуты не принимала всерьез Танино увлечение. «Отвяжитесь, душенька, — говорила она, когда Таня поведала ей о своем чувстве к Сухотину. — Отвяжитесь, ерунду выдумали, ну какая там любовь, разве он вам пара».
10 июля 1897 года Софья Андреевна записала в дневнике:
«Пережила тяжелые, тяжелые испытания. То, чего я так страшно боялась с
Таней, — получило определенность. Она влюблена в Сухотина и переговорила с ним о замужестве. Мы случайно и естественно разговорились с ней об этом. Ей, видно, хотелось и нужно было высказаться... С Львом Николаевичем тоже был у ней разговор. Когда я ему это впервые сообщила, то он был ошеломлен, как-то сразу это его согнуло, огорчило, даже не огорчило, а привело в отчаяние. Таня много плакала эти дни, но она, кажется, сознает, что это будет ее несчастье, и написала ему отказ...»
Тяжелое было лето. Толстой был очень одинок. Маши не было, а она одна умела и решалась давать ему простую, согревающую душу ласку.
С женой было также смутно, неспокойно... «Наша жизнь больная, — читаем мы в дневнике Софьи Андреевны от 2 июня 1897 года. — Да и в прямом значении Лев Николаевич что-то меня пугает: он худеет, у него голова болит — и эта наболелая ревность! Виновата ли я, я не знаю. Когда я сближалась с Танеевым, то мне представлялось часто, как хорошо иметь такого друга на старости лет: тихого, доброго, талантливого. Мне нравились его отношения с Масловыми, и мне хотелось таких же... И что же вышло!»3
Странное, неестественное отношение к Танееву продолжалось. 3 июня Софья Андреевна испытывает, как она выразилась в дневнике: «Мучительный страх перед неприятностями по случаю приезда Сергея Ивановича»4.
«Танеев сыграл две «Песни без слов» Мендельсона и перевернул всю душу, — писала Софья Андреевна в дневнике от 4 июня.5 — Ох, эти песни! Особенно одна из них так и врезалась в мое сердце»6.
Часами Софья Андреевна с каким-то упрямым отчаянием играла гаммы, экзерсисы Ганона, надеясь упражнениями развить пальцы, что было немыслимо для 53-летней женщины. Саша, у которой был хороший слух и которая тоже училась музыке, знала мелодии «песен без слов» наизусть, она знала, в каком месте мать задержит темп, стараясь придать нотам особую певучесть, где спотыкнется... Ох, эти песни! Саша их ненавидела!
И в дополнение ко всему этому, Софья Андреевна упрекала мужа, требовала передачи прав на все его сочинения. Она не подозревала, как близок он был к тому, чтобы бросить все и начать жить так, как он считал нужным, быть последовательным до конца. Она постоянно подчеркивала, что она чистая, невинная, пожертвовала ему и семье свою молодость, свои таланты к живописи, музыке, даже к литературе, которые она не имела возможности развить. Она не понимала, что настоящая, радостная жертва ценна только тогда, когда она приносится добровольно и о ней не говорят. Она настойчиво подчеркивала свою правоту, жертвенность, он же — никогда не говорил-о том, что отдал семье все свое состояние, продолжал ради нее жить в противной его убеждениям обстановке, он считал себя виноватым перед нею, перед людьми и Богом, и с радостью в этом признавался.
Толстой сильно постарел за этот год, согнулся под тяжестью событий: смерть Ванички, замужество Маши, ссылка его друзей, перемена, в смысле духовного перерождения, которую Толстой так надеялся видеть в жене, приняла неестественные, уродливые формы. Сомнения мучили его: что делать? Продолжать нести тяжесть во всех смыслах противной ему жизни ради жены, семьи, ненарушения любви, или уйти...
8 июля он написал письмо, которое Софья Андреевна получила только после
его смерти. Его хранила у себя Маша, а после ее смерти муж ее, Коля Оболенский.
«Дорогая Соня! — писал он. — Уже давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не мог; уйти от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хоть того малого влияния, которое я мог иметь на них, и огорчу вас; продолжать жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к которым я привык и которыми я окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать, — уйти: во-первых, потому, что мне с моими увеличивающимися годами все тяжелее и тяжелее становится эта жизнь и все больше и больше хочется уединения, и, во-вторых, потому что дети выросли, влияние мое уже в доме не нужно, и у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам мало заметным мое отсутствие. Главное же то, что, как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому старому религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, с своей совестью. Если бы открыто сделал это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы ослабел, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, если мой поступок сделает вам больно, в душе своей, главное ты, Соня, отпусти меня добровольно и не ищи меня и не сетуй на меня, не осуждай меня.
То, что я ушел от тебя, не доказывает того, чтобы я был недоволен тобой. Я знаю, что ты не могла, буквально не могла и не можешь... изменять свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не сознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а, напротив, с любовью и благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени, когда ты, со свойственным твоей натуре материнским самоотвержением, так энергически и твердо несла то, к чему считала себя призванной. Ты дала мне и миру то, что могла дать: дала много материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя за это. Но в последнем периоде нашей жизни — последние 15 лет — мы разошлись. Я не могу думать, что я виноват, потому что знаю, что изменился я не для себя, не для людей, а потому что не могу иначе. Не могу и тебя обвинять, что ты не пошла за мной, а благодарю и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне.
Прощай, дорогая Соня.
Любящий тебя Лев Толстой».
Но уйти он не решился.
В августе Толстой писал Черткову в Англию:
«Как бы я счастлив был, если бы мог окончить мои дни в уединении и, главное, в условиях, не противных и мучительных для совести. Но, видно, так надо. По крайней мере, я не знаю выхода».
Первую половину лета Маша жила с мужем в Овсянникове, но в августе она заболела брюшным тифом и ее перевезли в Ясную Поляну. А осенью Оболенские уехали в Крым и туда же поехала Таня с маленьким трехлетним Андреем
Толстым, сыном Ильи, который совсем захирел, температурил и у которого, по-видимому, было начало туберкулеза.
В октябре Толстой писал дочери Маше, в Ялту: «Очень уж я привык тебя любить и быть тобой любимым... Чувствую ли я разъединение с тобой после твоего замужества? Да, чувствую, но не хочу чувствовать и не буду...».
Толстой не имел возможности в тишине, без вечно толпящихся в доме чужих, иногда чуждых людей, пережить свое горе. Гости продолжали посещать Ясную Поляну. Знаменитый психиатр Ломброзо приехал из Москвы, где был съезд врачей.
«Ограниченный и мало интересный болезненный старичок», — писал Толстой Бирюкову.
Софья Андреевна записывает 11 августа: «Утром приехал Ломброзо. Маленький, очень слабый на ногах старичок,.. Я вызывала его на разговоры, но он мало дал мне интересного. Говорил, что преступность везде прогрессирует, исключая Англии, что он не верит статистическим сведениям России [о преступности], так как у нас нет свободы печати»7.
Ломброзо рассказывал, что когда он собирался к Толстому, «бравый генерал-полициймейстер» Москвы предупредил его, что у Толстого в голове не все в порядке, и когда Ломброзо вернулся обратно, он спросил Ломброзо, как он нашел Толстого.
«Мне кажется, — ответил Ломброзо — что это сумасшедший, который гораздо умнее многих глупцов, обладающих властью»8.
В это лето Толстой заканчивал свою статью «Об искусстве». Таня, которая завела себе новшество — пишущую машинку Ремингтон, и Софья Андреевна бесконечное число раз переписывали статью. 19 июня Софья Андреевна писала в дневнике, что «Лев Николаевич лихорадочно пишет «Об искусстве», уже близок к концу и ничем больше не занимается»9.
И в то время, как он писал «Об искусстве», искусство во всех видах процветало в Ясной Поляне. В Таниной мастерской, где одно время работал Репин и стояли знаменитые картины дедушки Ге, теперь лепил статуэтку Толстого скульптор Гинцбург, писали картины Касаткин, Пастернак. Эта мастерская Тани превратилась в нечто вроде клуба, где днем собирались гости — художники, пианисты, члены семьи Толстого. А по вечерам, в зале, играли Танеев, Гольденвейзер, часто на двух роялях. Иногда, после вечернего чая, Толстой читал вслух свою статью об искусстве.
Статью хвалили, но без энтузиазма. Новое течение в музыке, литературе, изобразительном искусстве распространялось, как зараза. Как могли люди из мира искусства принять революционные взгляды Толстого, утверждавшего, что как только искусство стало искусством не для всего народа, а для класса богатых людей, так оно превратилось в профессию.
«Искусство нашего времени и нашего круга стало блудницей».
«Настоящее произведение искусства может проявляться в душе художника только изредка, как плод предшествующей жизни, точно так же, как зачатие ребенка матерью. Поддельное же искусство производится мастерами, ремесленниками безостановочно, только бы были потребители».
«Причина появления настоящего искусства есть внутренняя потребность выразить накопившееся чувство... Причина поддельного искусства есть корысть, точно так же, как и проституция».
«Может быть, в будущем наука откроет искусству еще новые, высшие идеалы, и искусство будет осуществлять их; но в наше время назначение искусства ясно и определенно. Задача христианского искусства — осуществление братского единения людей».
Софье Андреевне бьшо скучно переписывать рассуждения Лёвочки; если бы он писал художественное, тогда другое дело. 4 сентября она записала в дневнике: «Я стала искать, чем занять свою духовную жизнь, стала любить музыку, читать в ней и, главное, угадывать все те сложные человеческие чувства, которые в нее вложены; но музыке не только не сочувствовали дома, но на меня напали за нее с ожесточением, и вот я опять очутилась без содержания жизни и, согнув спину, часами, по десяти раз переписываю скучную статью об искусстве, стараюсь найти радость в исполнении долга, но моя живая натура возмущается, ищет личной жизни»...10
При таком внутреннем отношении Софьи Андреевны к мужу, достаточно было малейшего повода, чтобы возникали ссоры — из-за отосланной «Северному вестнику», «без разрешения» Софьи Андреевны, статьи (Предисловие к «Современной науке» Карпентера), из-за откровенной записи Толстого в дневнике. Софья Андреевна сердилась, упрекала мужа, уезжала, никому не сказав куда, из дому.
«А сегодня в его дневнике написано, что я созналась в своей вине в первый раз, — писала Софья Андреевна в своем дневнике, — и что это радостно! Боже мой! Помоги мне перенести это! Опять перед будущими поколениями надо сделать себя мучеником, а меня виноватой! А в чем вина? Л. Н. рассердился, что я с дядей Костей зашла месяц тому назад навестить Сергея Ивановича, лежащего в постели по случаю больной ноги. По этой причине Л. Н. страшно рассердился, не ехал в Москву и считает это виной»11.
В конце декабря Толстой получил письмо, взволновавшее Софью Андреевну. Она всем показывала его, просила Дунаева не покидать Толстого.
«Граф Лев Николаевич! — писал анонимный корреспондент. — Бесспорно, что секта Ваша растет и глубоко пускает корни. Как ни беспочвенна она, но при помощи дьявола и по глупости людей Вам вполне удалось оскорбить Господа нашего Иисуса Христа, который должен быть нами отмщен. Для подпольной борьбы с Вами, подпольными же, мы образовали тайное общество «Вторых крестоносцев», цель которых — убить Вас и всех последователей — вожаков секты Вашей... Жребий пал на меня недостойного: я должен убить Вас! Назначаю для Вас этот день: 3 апреля будущего 1898 года...
Легко, может быть, Вы поставите мне логично вопрос: почему агитация эта только против Вашей секты? Правда, все секты — «Мерзость пред Господом!», но законоположники их жалкие недоумки — не чета, граф, Вам; во-вторых: Вы — враг нашего царя и отечества!.. Итак до «3 апреля».
Второй крестоносец жребьевой Жребий 1-й. Декабрь 1897. Село Смелое»12.
Толстой остался совершенно равнодушен к этим угрозам. «На все воля Бога», — сказал он жене.
Иногда Толстой ездил верхом к старушке Шмидт в Овсянниково.
Сокращая расстояние по лесным тропинкам, где то и дело ему надо было пригибаться, чтобы не задеть ветки, мимо глубокого оврага, станции Козловки-Засеки, стараясь миновать дачи, выстроившиеся по обеим сторонам большака, мимо деревни Овсянниково, по полям, через плотину небольшого пруда, Толстой рысью подъезжал на темно-сером кабардинце Мальчике к владениям старушки
Шмидт. Еще издали увидя его развевающуюся на две стороны бороду, его спокойную слитую с лошадью широкую, в белой блузе, фигуру, старушка Шмидт бежала его встречать.
«Голубчик, Лев Николаевич»... и большие, серые, глубоко сидящие глаза ее сияли радостью. Загорелая, костлявая, с гладко причесанными на рядок светлыми волосами, выдающимися на изможденном, худом лице скулами, в простом сером холщевом платье, вся она была цельная, чистая и горящая внутренним духовным огнем.
Марья Александровна целый Божий день работала. Главными источниками ее дохода была ее корова Манечка и. клубника. Был у нее и небольшой огород, но овощи она разводила только для собственного питания. Клубника же была статьей дохода. Плантация клубники была в полном порядке, чисто выполота и устлана соломой. Каждый день летом сторож Мироныч, которого Таня нанимала для охраны усадьбы, запрягал в телегу вороного мерина, который почему-то назывался Пятачок, Марья Александровна аккуратно ставила жбаны с молоком, корзиночки с клубникой в телегу и ездила на Козловские дачи продавать свой товар. Дачники принимали ее за простую крестьянку, говорили ей «ты», иногда обращались с ней грубо. Козловка была всего в 2 1/2 верстах от Овсянникова, но путешествие Марии Александровны занимало много времени и требовало много энергии. Пятачок был необыкновенно флегматичное существо и, несмотря на длинную хворостину, которой угрожающе размахивала Марья Александровна, и на ее словесные уговоры, Пятачок плелся медленным шагом. Он раз навсегда понял, что Марья Александровна принципиально против насилия и не ударит его, и он только отмахивался редким, связанным репьями хвостом, и ни на йоту не прибавлял шагу. Весь день Марья Александровна работала, а вечером садилась переписывать от руки запрещенные сочинения «дорогого Льва Николаевича», которые она раздавала своим друзьям.
Пожалуй, из всех толстовцев, Марья Александровна была единственной настоящей его последовательницей. Несмотря на то, что она была физически измождена, «в чем только душа держится», «кости да кожа», как говорили про нее крестьяне-соседи, — она была счастлива. В избушке ее, которую она называла «мой дворец», было очень чисто и уютно. По стенам — полки с книгами, портреты Толстого, жесткая кровать, аккуратно накрытая, с всегда чистым бельем, посередине стол, в углу русская печь, где она пекла большие ковриги черного кисло-сладкого хлеба.
Все любили Марью Александровну: и соседи-крестьяне, на которых она имела большое и благотворное влияние, и их ребята, приходившие к ней за книжечками, и темные, и светские друзья Толстого. Со всеми она была ласкова, приветлива.
В «старушке Шмидт» не было элемента проповедничества, святошества, она ничего из себя не изображала. Ее старая манера институтства, возгласы восхищения, омерзения, только смешили, но нисколько не раздражали. Она сама смеялась над своими слабостями. Будучи строгой вегетарианкой, она не могла устоять от соблазна съесть кусочек селедки, которую она обожала. «Душечка, Софья Андреевна, отвяжитесь, — восклицала она. — Опять соблазнили. Ах, грех какой!» Или каялась Толстому; «Ох, голубчик, Лев Николаевич, так сердилась, так сердилась, мальчишки клубнику оборвали, дрянные такие, бессовестные»...
Здесь, во «дворце» старушки Шмидт, находил Толстой простоту жизни, душевный отдых и внутреннее тепло, которого он был лишен в своей домашней обстановке.
Если бы Толстому сказали, что он «общественный деятель», то он, вероятно, резко возразил бы против такого определения — он терпеть не мог штампов; общественный деятель, прогрессист, либерал... Но на самом деле Толстой постоянно был занят вопросами «общественными». Школа, посредничество, голод, участие в духоборческом движении, в судьбе молоканских детей и самих молокан, обращавшихся к нему с просьбой помочь им переселиться в Канаду.
Весной 1898 года в России снова свирепствовал голод в Тульской. Орловской. Самарской, Уфимской и Казанской губерниях, и к Толстому посыпались просьбы о помощи. Организация помощи голодающим была для Толстого делом не новым. Ему, как всегда, хотелось скорее вырваться вон из ненавистного ему города, и он решил, вместе с Софьей Андреевной, которая хотела проведать своих внуков, ехать к сыну Илье, имение которого было как раз в центре голодных мест.
Первое, что надо было сделать, это определить степень нужды крестьян. Была ранняя весна — любимая пора Толстого. Отец с сыном, оба в прекрасном, бодром настроении, верхом поехали по окрестным деревням. Невольно Толстого потянуло в знакомые ему места — в тургеневское Спасское. Илья рассказывал, что отец был, видимо, сильно взволнован при виде старой усадьбы, парка, тургеневского дома, где они так горячо спорили и где Тургенев читал ему свои произведения. «Очень живо вспомнил Тургенева и пожалел, что его нет», — писал Толстой Я. П. Полонскому.
В Спасском особой нужды не оказалось, но в более глухих деревнях нужда была большая. На пожертвованные деньги удалось открыть около 20 столовых. Софья Андреевна писала в дневнике: «Лев Николаевич тотчас же приступил к делу: стал объезжать деревни и исследовать, где голод. Хуже всего в Никольском, и еще в Мценском уезде. Хлеб едят раз в день и то не досыта. Скотина или продана, или съедена, или страшно худа. Болезней нет. Лев Николаевич устраивает столовые...»1
Но Толстого не могла удовлетворить эта временная помощь небольшой части населения. Его мучил вопрос, во всей широте его, почему в России так часто повторяется голод? Воззвание его о помощи постепенно превратилось в статью «Голод или не голод», где Толстой старался дать ответ на этот вопрос.
«Есть ли в нынешнем году голод или нет голода? — спрашивает он. — Отчего происходит так часто повторяющаяся нужда народная? И как сделать, чтобы нужда эта не повторялась и не требовала бы особых мер для ее покрытия?»
Толстой не видит духовных интересов в народе, наоборот — равнодушие к церковной вере, к труду. Работать сохой на худой, едва влачащей ноги лошади, все равно, что черпать воду из колодца дырявым ведром. Как же помочь крестьянину? Как поднять его дух? Надо устранить все, что подавляет его. надо признать его человеческое достоинство.
Надо «перестать презирать, оскорблять народ обращением с ним как с животным», отвечает Толстой на третий вопрос; нужно подчинить его общим, а не исключительным законам, надо дать ему свободу учения, передвижения... «Если
же освободить крестьян от всех тех пут и унижений, которыми они связаны, то через 20 лет они приобретут все те богатства, которыми мы бы желали наградить их, и гораздо еще больше того».
Таковы были «революционные», как выражался Победоносцев, рассуждения Толстого, знавшего и любившего народ больше, чем кто-либо из людей его круга. Победоносцев не понимал, что своими писаниями, поступками Толстой старался предупредить, а не раздувать революцию, предвестники которой уже носились в воздухе.
Статья «Голод или не голод» была напечатана в газете «Русь», за что газета получила первое предостережение от министра внутренних дел.
К сожалению, правительства обычно слепы и менее, чем кто-либо, знают о том, что происходит среди управляемого ими народа. Не знал и государь того, что делалось его именем мелкими чиновниками на местах.
В Ясную Поляну приехали шесть мальчиков-гимназистов и вручили Толстому собранные ими на голодающих 100 рублей.
«Лев Николаевич послал их к священнику, попечителю здешних мест, — записывает Софья Андреевна в своем дневнике, — и «вященник указал на особенно бедных. Гимназисты купили... муки, которую и выдавали беднейшим. Явились становой и урядник, и строго запретили купцу в Ясенках выдавать муку мужикам по запискам от нас или гимназистов. Просто безобразие! Не смей никто в России милостыню подать бедным — становой не велит. Мы с Таней глубоко возмущались и обе охотно бы поехали прямо к царю или его матери и предостерегли бы их от того возмущения, которое может подняться в народе от озлобления к подобным мерам» .
В Чернском уезде было еще хуже. Не успел Толстой развернуть столовые, как приехал становой. Две помогавшие в работе барышни были сняты с работы и
становой угрожал закрыть столовые. В некоторых деревнях полиция запретила крестьянам посещать столовые и, на всякий случай, чтобы не было соблазна, разломала все лавки и столы. Илья Толстой отправился за разъяснениями к Тульскому и Орловскому губернаторам. Разрешено было сохранить имеющиеся столовые, но было запрещено открывать новые.
«...Что происходит в головах и сердцах других — тех людей, которые считают нужным предписывать такие мероприятия и исполнять их, т. е. воистину не зная, что творят, отнимать изо рта хлеб милостыни у голодных больных, старых и детей!» — восклицает Толстой.
Деятельность Толстого в деле помощи голодающим завершилась лишь в начале 1899 года. Толстой получил письмо от известного писателя и общественного деятеля, специализировавшегося на изучении сектантства в России, А. С. Пру-гавина, описывавшее бедственное положение крестьян Казанской, Уфимской и в особенности Самарской губерний. Ужасающая нищета, заразные болезни на почве недоедания, цынга... Письмо это, с добавлением Толстого, было напечатано в «Русских ведомостях» и снова, как и в первую голодовку, щедрым потоком полились пожертвования. Самарский кружок, в котором состоял Пругавин, собрал около 250 тысяч рублей, на которые они смогли открыть целую сеть столовых.
28 августа 1898 года Толстому исполнилось 70 лет. Празднование семидесятилетия, гости, телеграммы, поздравительные письма тяготили Толстого. Он и так с трудом справлялся со все увеличивавшейся корреспонденцией. Бывали серьезные вопросы, на которые, волей неволей, Толстому надо было реагировать.
Что думает Толстой по поводу манифеста Государя о всеобщем разоружении? От «The Sunday World» получена была телеграмма следующего содержания:
«Поздравляем по поводу результатов вашей борьбы за всеобщий мир, достигнутый рескриптом царя. Будьте добры ответить».
На что Толстой ответил:
«Следствием декларации будут слова. Всеобщий мир может быть достигнут только самоуважением и неповиновением государству, требующему податей и военной службы для организованного насилия и убийства».
Толстому надо было закончить дело с духоборами.
С Кавказа продолжали приходить тревожные вести. Писали, что друга и последователя Толстого, английского капитана Син-Джона, помогавшего духоборам, хотят выслать из России, арестовали еще одного единомышленника Толстого Накашидзе, работавшего с духоборами.
«Извещаю вас о том, что мы подавали прошение на имя Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны, — писал Толстому один из духоборов. — Она его передала в Сенат, Сенат решил и передал на распоряжение князя Голицына... Я 10 февраля ездил в г. Тифлис и виделся там с братом Синджоном, но свидание наше было очень краткое, — сейчас же арестовали меня и его. Меня посадили в тюрьму, а его сейчас же отправили обратно в Англию... Полицеймейстер сказал: «Пока посадим в тюрьму, а потом доложим губернатору»... Губернатор со мной хорошо разговаривал и советовал нам переходить в самом кратком времени за границу...»3.
Наконец, пришло официальное разрешение на выезд духоборов за границу. Надо было решать, в какую страну им переселяться, откуда достать денег для переезда.
Толстой вел переписку с целым рядом людей по этому вопросу. Поступило
несколько предложений: переселить духоборов на остров Кипр, в Америку в штат Техас, в Китайский Туркестан, на Гавайские Острова. В Лондоне квакеры, близкие по взглядам духоборам, заинтересовались их судьбой и взялись помочь им эмигрировать. Надо было собирать деньги, но произвести сбор через печать было невозможно. Единственная газета, решившаяся напечатать о сборе пожертвований для духоборов, «Русские ведомости», была приостановлена властями на два месяца.
В апреле 1898 года Толстой писал Черткову в Англию:
«Здесь до такой степени дурно настроено правительство против духоборов, что третьего дня было напечатано пожертвование Моода, Сергеенко и неизвестного в «Русских ведомостях» и в тот же день в Редакцию пришла бумага от (увы!) Трепова требующая названия жертвователей и доставления денег в казначейство. «Русские ведомости» ответили, что деньги уже переданы мне и представили в этом расписку».
Толстой, хотя ему это было неприятно, лично писал богатым людям, прося их пожертвовать деньги. Некоторые посылали по 500, другие 1000 рублей, а купец Солдатенков лично привез Толстому 5000 рублей. Призыв о помощи духоборам был напечатан за границей, квакеры собирали средства в Англии, присылали деньги из Америки. Но всего этого было мало. Тогда Толстой решил сам заработать недостающие деньги.
«Так как выяснилось теперь, — писал Толстой Черткову в середине июля, — как много еще недостает денег для переселения духоборов, то я думаю вот что сделать: у меня есть три повести: Иртенев [Дьявол], Воскресение и Отец Сергий (я последнее время занимался им и начерно написал конец). Так вот я хотел бы продать их на самых выгодных условиях в английские или американские газеты... и употребить вырученное на переселение духоборов... Повести же сами по себе, если и не удовлетворяют теперешним требованиям моим от искусства, — не общедоступны по форме, — то по содержанию не вредны и даже могут быть полезны людям, и потому думаю, что хорошо продав их как можно дороже, напечатать теперь, не дожидаясь моей смерти, и передать деньги в комитет для переселения духоборов».
Толстой сам повел переговоры с издателем журнала «Нива», Марксом, о продаже «Воскресения» и даже торговался с ним. Маркс обещал уплатить тысячу рублей с листа за право первого напечатания романа «Воскресение», с тем, что после появления романа в журнале «Нива», свободная перепечатка «Воскресения» разрешалась всем издателям.
Софья Андреевна не сочувствовала всему происходящему.
«Не могу я вместить в свою голову и сердце, — писала она в дневнике от 13 сентября 1898 года, — что эту повесть, после того как Л. Н. отказался от авторских прав, напечатав об этом в газете, теперь почему-то надо за огромную цену продать в «Ниву» Марксу и отдать эти деньги не внукам, у которых белого хлеба нет, и не бедствующим детям, а совершенно чуждым духоборам, которых я никак не могу полюбить больше своих детей. Но зато всему миру будет известно участие Толстого в помощи духоборам, и газеты, и история будут об этом писать. А внуки и дети черного хлеба поедят!»
«Многое думается и хочется писать, да весь поглощен «Воскресением»..., —
* Д. Ф. Трепов, градоначальник города Москвы, товарищ по полку В. Г. Черткова.
писал Толстой Черткову осенью 1898 года. — Мне кажется иногда, что в «Воскресении» будет много хорошего, а иногда, что я предаюсь своей страсти». «Я теперь решительно не могу ничем другим заниматься, как только «Воскресением». Как ядро, приближающееся к земле все быстрее и быстрее, так у меня теперь, когда почти конец, я не могу ни о чем, — нет, не не могу, — могу и даже думаю, — но не хочется ни о чем другом думать, как об этом».
Но писать к сроку было мучительно. Журнал «Нива» должен был еженедельно печатать роман, а Толстой не мог не переправлять своего писания бесконечное число раз. Бывали случаи, когда, получив гранки последней корректуры, он уносил их в кабинет, как он говорил, «на минутку», чтобы еще раз просмотреть, и с виноватым видом приносил их обратно через несколько часов. В корректурах не оставалось ни одного живого места, целые строчки были зачеркнуты, между ними, на полях, все было исписано, на обороте гранок появлялся совершенно новый текст.
Маркс приходил в отчаяние, телеграммы летели к заграничным издателям. Нередко новый, исправленный текст запаздывал и в первом издании текст русский и заграничный расходились. Переписывали все, кто только мог: Таня, Маша с мужем, гости, Александр Петрович Иванов.
Иванов, поручик в отставке, уже многие годы был переписчиком Толстого. Толстой откопал Иванова на Хитровом рынке в то время, как он в трущобах Москвы участвовал в переписи города. Иванов — запойный пьяница — периодами живал у Толстых. Приходил он грязный, заросший, в лохмотьях, стоптанных и дырявых башмаках. Его одевали, обували, откармливали, и Иванов торжественно заявлял, что он уже больше не пьет и пить не будет. Надвинув очки на самый нос, Иванов аккуратным, писарским почерком переписывал рукописи Толстого. Он сразу приобретал важный, надменный вид и уверял, что он лучше всех разбирает трудный почерк Толстого. Бывали случаи, когда Толстой робко спрашивал Иванова: «Александр Петрович, дайте мне мой черновик, пожалуйста, здесь как будто что-то не то, ошибка»...
Отыскав черновик и сердито тыкая в него грязным пальцем, Александр Петрович вскидывал сверх очков свои мутные серые глаза на Толстого:
«Ошибка... какая тут ошибка, — кричал он тонким, колючим голосом. — Никакой тут ошибки не может быть, а у вас тут Бог знает что написано, мне пришлось все исправлять».
Но Иванов не долго выдерживал добродетельную жизнь. Получив плату за свою работу, Иванов исчезал. Кто-то видел его пьяным на деревне. Пропивались деньги, новая одежда, сапоги, и несчастный поручик в отставке снова пускался в свое одинокое странствование по большим дорогам, побираясь и останавливаясь в грязных ночлежках.
Казалось бы, члены семьи Толстого должны были с большой осторожностью подходить к писательскому делу. Дюма-отец, Дюма-сын не так-то часто встречаются в истории литературы. Но... пример заразителен. Первым дерзнул Лев Львович, которого один остроумный литератор назвал Тигром Тигровичем. Он, в pendant к «Крейцеровой сонате» написал «Прелюдию Шопена». Произведение это, да и все остальные его вещи, оказалось слабым и никакого успеха не имело. Софья Андреевна писала повесть «Песня без слов» и, неожиданно, Таня начала писать драму, вместе с бездарным писателем Сергеенко, зачастившим к Толстым, с целью написать биографию «великого» писателя. Но «Сандра» — так называлась
драма — не удалась. Отец молчал, но хмурился при упоминании о литературных попытках своей семьи.
К концу 1899 года «Воскресение» было напечатано в «Ниве» с цензурными пропусками и полностью в издательстве «Свободное слово», организованном Чертковым и Бирюковым за границей.
Появление романа «Воскресение» после большого перерыва (последний роман Толстого «Анна Каренина» был написан в 70-х годах), вызвало большой интерес. Как всегда, появились и хвалебные и отрицательные критические отзывы. Упрекали Толстого за морализирование, проведение своих взглядов о земельной собственности — теории Генри Джорджа, за нападение на церковь, милитаризм и проч. За границей «Воскресение» было также встречено с большим интересом и по-разному. Как это ни странно, но оно подверглось даже цензурным исправлениям издательств. Так, в Америке было пропущено все, касающееся земельной собственности и пацифизма, во Франции, в первом издании, переводчик, боясь оскорбить католиков, пропустил все, касающееся церкви. В Англии и Германии текст «Воскресения» был опубликован целиком. Рассказывают, что один благочестивый квакер в Англии, прочитав сцену падения Катюши, с возмущением уничтожил эту «развратную» книгу. В Японии «Воскресение» имело громадный успех и сделалось самой популярной книгой Толстого. Японцы даже сложили песню «Катюша».
Тема «Воскресения», сообщенная Толстому А. Ф. Кони, долго лежала в копилке Толстого без движения, хотя история, сообщенная Кони, произвела на Толстого глубокое впечатление и он уговаривал Кони записать ее. Но прошло много лет и Толстой решил сам использовать «Коневскую», как она вначале называлась, повесть.
Что же такое рассказал Кони Толстому, что так растрогало его?
Молодой человек из хорошего общества, будучи присяжным заседателем в суде, узнал среди подсудимых в проститутке, судившейся за кражу, девушку, воспитанную в доме его родственников. Он когда-то соблазнил эту девушку, и она забеременела от него. Узнав об этом, ее благодетельница выгнала ее на улицу. Девушка, родив ребенка, отдала его в воспитательный дом, а сама стала постепенно скатываться все ниже и ниже, пока не попала в дом терпимости самого низшего разряда.
Узнав в проститутке погубленную им девушку, молодой человек этот пришел к прокурору суда, Кони, и сообщил ему о своем намерении жениться на этой проститутке. Кони с большим вниманием отнесся к молодому человеку, но отговаривал его от этого шага. Молодой человек стоял на своем. Незадолго до свадьбы проститутка заболела сыпным тифом и умерла.
Рассказ этот и послужил основной темой для «Воскресения».
Первая партия духоборов выехала на остров Кипр в начале августа 1898 года. Переселение это было неудачным — земли мало, нездоровый климат, люди заболели лихорадкой, многие умирали. Между тем выяснилось, что канадское правительство согласно дать землю в провинции Ассинабое, в 40 верстах от г. Иорктона.
Первый пароход, отплывший в Канаду, провожал в качестве помощника и переводчика Сулер. Второй — Сергей Толстой, и третий, отплывший в апреле
1899 года, — Владимир Бонч-Бруевич*.
Массовое переселение духоборов закончилось. Но оставалась еще забота о тех, которые томились в тюрьмах, ссылке и арестантских ротах. Англичанин Син-Джон и Сулержицкии еще жили на Кавказе и сообщали Толстому сведения о духоборах. Но не только судьба заключенных волновала Толстого.
Он далеко не был уверен в том, что духоборы сумеют наладить свою жизнь в новой стране, установить хорошие отношения с народом и правительством, давшим им возможность иммигрировать. Толстой писал духоборам в Канаду: «...вместо того, чтобы возбуждать в окружающих вас людях зависть и враждебность, вызовите в них к себе уважение и доброжелательство... Сказано: «Ищите Царствия Божия и правды Его, и приложатся вам сторицею все блага». Каждому человеку дано проверить истину этих слов. Вы знаете, что они истинны, а между тем вы начинаете искать благ и радостей мира сего: однако вы не обрящете их, а потеряете Царство Небесное»**.
Толстовское гнездо, между тем, постепенно пустело. С родителями оставались Таня и двое младших, «трудный Миша», как выразилась Софья Андреевна в дневнике, и «плохая Саша». Младшие огорчали мать — Миша кутежами и нежеланием учиться — он пошел добровольцем в Сумской полк, — а Саша своим отчуждением от матери, грубостью, непослушанием гувернанткам, которые все время менялись и из которых только одна англичанка, Мисс Велып, справлялась с Сашей своей добротой и мягкостью, но мисс Белый приезжала только на лето в Ясную Поляну, у нее в Москве была музыкальная школа.
Андрей женился в начале 1899 года на Ольге Дитерихс, сестре Гали Чертковой. За последнее время в нем, под влиянием Ольги, произошла большая перемена к лучшему. Он не кутил, не ездил к цыганам, сидел дома. Ольга, с здоровыми принципами девушка, взяла на себя тяжелую задачу исправить Андрея, привести его ближе к отцу. Она была года на четыре старше Андрея, была прехорошенькая: с черными, гладко причесанными волосами, чудным цветом лица, ласковыми, веселыми карими глазами, с пушком, как у персика, на лице. Она казалась моложе и свежее Андрея.
По просьбе Андрея было продано доставшееся трем младшим Самарское имение и Андрей купил имение под Тулой, недалеко от Ясной Поляны, где и поселился со своей молодой женой.
А 14 ноября того же года Таня вышла замуж за М. С. Сухотина и на другой день уехала с мужем за границу. Свадьба эта была больше похожа на похороны. Несмотря на то, что все, начиная с отца и матери, старались сдержать слезы и не показать Тане своего огорчения, плакали втихомолку все: родители, Саша,
* Вл. Бонч-Бруевич много писал о сектантстве в России. Впоследствии был управляющим делами ВЦИКа, ближайшим помощником Ленина.
** К сожалению, опасения Толстого до известной степени оказались пророческими. Хотя отношение к войне и убийству у духоборов осталось прежнее, но в молодых поколениях постепенно изживаются старые традиции духоборов: онн пьют, курят, перестали быть вегетарианцами. Группа духоборов «независимые» причиняла много хлопот канадскому правительству: устраивали демонстрации, появлялись голыми на улицах, отказывались посылать своих детей в школы, — были случаи, когда они сжигали школы. Многие духоборы заражены советской пропагандой и даже мечтают попасть на Родину, где, наконец, — «свобода».
старушка Шмидт, старая няня и экономка Дунечка, горько плакала и сама Таня.
«Событие это вызвало в нас, родителях, такую сердечную боль, какой мы не испытывали со смерти Ванички, — писала Софья Андреевна в дневнике. — Все наружное спокойствие Льва Николаевича исчезло; прощаясь с Таней, когда она, сама измученная и огорченная, в простом сереньком платье и шляпе, пошла наверх, перед тем как ей идти в церковь, — Лев Николаевич так рыдал, как будто прощался со всем, что у него было самого дорогого в жизни. Мы с ним в церковь не пошли, но и вместе не могли быть. Проводив Таню, я пошла в ее опустевшую комнатку и так рыдала, пришла в такое отчаяние, в каком не была со смерти Ванички»'.
Толстой был теперь еще более одинок. Он скучал без дочерей. С Машей он виделся часто, но постоянной, ежедневной заботы любимой дочери, общения с ней, ему очень нехватало. Коля Оболенский продолжал ничего не делать и тратить Машины деньги, но как-то приручился под Машиным влиянием, подошел ближе к отцу.
С Таней отец виделся гораздо реже. Зимами Сухотины уезжали за границу, а лето проводили в имении Сухотина, Кочеты. В Вене она лечилась от синьюзита, давно мучившего ее и причинявшего ей страшные головные боли. Но венские доктора не помогли ей и, вернувшись весной в Москву, она решилась делать операцию — трепанацию черепа.
«Нынче утром, 23-совершилась ужасная Танина операция, — писал отец Маше. — Я посидел дома, но не в силах был оставаться... пошел в клинику, надеясь придти к концу. Прошел час, два, все нет конца... Я с Михаилом Сергеевичем вошел наверх, заглянул в дверь; меня позвали, я вошел, лежит труп желто-бледный, бездыханный, ноги выше головы и в закинутой голове дыра в черепе такого размера (чертеж), кровавая и глубокая, пальца в три, и толпа белых смотрит, а один ковыряет...»
Когда Толстой вышел из операционной, его подхватили на руки, он был бледен, как полотно, и шатался.
Пирогово, где жила Маша, было в 35 верстах от Ясной Поляны. Громадное село было расположено на крутых берегах реки — по одну сторону был машин хуторок, по другую — большое имение Сергея Николаевича Толстого, всего в двух верстах друг от друга. Когда Толстой ездил в Пирогово, он одновременно виделся и с дочерью и с братом. Оболенские жили дружно, но Бог лишил Машу детей. Проносив ребенка 7, 8 месяцев, движение в ней прекращалось и ребенок умирал. Первый раз это объяснили случайностью, но то же повторилось и на второй и на третьей беременности — дети рождались мертвыми. И то же самое, при первой же беременности, случилось с Таней. Страшно было смотреть на сестер, когда, проносив несколько месяцев ребенка, они с замиранием сердца ждали, что вот-вот, снова жизнь ребенка прекратится...
Софья Андреевна готовила внукам приданое, вязала крошечные платьица, шапочки, одеяльца. Но, не родившись, дети умирали в утробах матерей. Обе сестры страстно хотели иметь детей. По потемневшим лицам, заплаканным глазам близкие уже знали, что случилось. Наступали роды, и... жестокие, безрадостные, никчемные страданья.
Конец 1900 года был нерадостный для семьи. Лёва и Дора потеряли первого сына Лёвушку. Толстой записал в дневнике 29 декабря 1900 года: «У Лёвы умер ребенок. Мне их очень жаль. Всегда в горе есть духовное возмездие и огромная
выгода. Горе — Бог посетил, вспомнил... Таня родила мертвого и очень хороша, разумна».
Семья Сергея Николаевича была еще более несчастна. Сын, единственный и старший, поссорился с отцом, отделился и женился против его воли. Девочки Толстые, как их называли, вели замкнутую жизнь, никуда не выезжали, мало кого видели.
Вторая дочь, Варя, маленького роста, почти карлица, влюбилась в повара, тайно от отца с ним перевенчалась и уехала. Третья дочь, Маша, вышла замуж за полуграмотного помещика, охотника.
Из трех дочерей Сергей Николаевич любил больше всех старшую, Веру, Танину подругу, прелестную, милую девушку, заботившуюся об отце и очень преданную взглядам своего дяди Льва. Родители всегда волновались за Веру. Она была слабенькая, хрупкая, склонная к туберкулезу, и отец летом выписал башкиров, чтобы они делали кумыс, которым когда-то лечил свои легкие в Самаре Толстой. Страстная натура отца, горячая цыганская кровь матери взяли свое. Вероятно, Вера сама не могла бы объяснить, как это случилось. Среди башкир был молодой, красивый, милый юноша, с узкими, черными глазами, широкими монгольскими скулами и желтоватым цветом кожи. Вера влюбилась в него, забеременела, и уехала куда-то из родительского дома...
Сергей Николаевич ничего не знал. Когда Вера вернулась, на руках у нее был младенец с желто-бронзовой кожей и узким разрезом глаз. Сначала Сергей Николаевич думал, что это Верин приемыш. Но когда он понял, что это Верин ребенок, боялись, что у него сделается удар. Старик был убит горем, раздавлен. Казалось невозможным, чтобы Сергей Николаевич смирился, простил, принял Верочку к себе с ее башкиренком. Маленькая, робкая, незаметная старушка Марья Михайловна и Верочка дрожали от страха, когда доносились до них
громкие крики Сергея Николаевича: «Боже мой, Боже мой! За что же это? О... о... о...!»
Но совершилось чудо. Старик не только принял обратно дочь, но выказал ей столько любви и ласки, что Вера еще больше обливалась слезами, сознавая свой грех и все горе, которое она принесла отцу. Но прошло много времени, пока Сергей Николаевич согласился увидеть своего внука. Он жил на отдельной половине дома и никогда не заходил в женскую половину и детскую, где жила Вера с мальчиком.
Толстой писал дочери Тане: «Посылаю тебе, голубушка Таничка, письма Маши о Вере, над которыми я плакал и всегда плачу, когда их перечитываю... Я ничего больше того, что в письмах, не знаю. И, странное дело, не хочется знать. Много тут хорошего вызвано этим страшным делом. Как однако благодетельно несчастье».
В ответ на письмо брата, Льва, Сергей Николаевич писал: «Наказанье за гордость. Считал, что мои дети не могут ничего такого сделать; не будь этого, можно было бы два года назад все это остановить, но гордость помешала, высоко их ставил: как, мои дети? Вот в чем виноват и за что наказан...».
Война англичан с бурами (1899 — 1900) имела большой отклик в России. В бурскую армию шли добровольцы, Красный Крест посылал отряды русских сестер на помощь бурам, в деревнях, среди рабочих, всюду распевалась песня: «Трансвааль, Трансвааль, страна родная, горишь ты, как в огне... Под деревцем развесистым задумчив бур сидит... Сынов всех девять у меня убито на войне...»
Толстой, в глубине души, тоже сочувствовал бурам. Когда интервьюировавший его корреспондент спросил Толстого, как он относится к Трансваальской войне, Толстой сказал: «Знаете ли, до чего я доходил, теперь этого уже нет, я превозмог себя... Утром, взяв в руки газету, я страстно желал всякий раз прочесть, что буры побили англичан... И эта бойня, заметьте, совершается после Гаагской конференции, так нашумевшей»1.
Но не успела эта корреспонденция появиться в газетах, как сейчас же Толстого стали осаждать письмами и вопросами, в том числе его единомышленник и переводчик Моод: как он, Толстой, мог сочувствовать какой-то одной стороне, вместо того, чтобы осуждать войну вообще?
Ответ на сомнения «друзей» Толстого мы находим в письме, написанном кн. Волконскому. В этом письме Толстой развивает мысли, сходные с теми, которые встречаются в «Войне и мире». Виноваты не Наполеоны, не Вильгельмы и Чемберлены: «Вся история есть ряд точно таких же поступков всех политических людей, как Трансваальская война... До тех пор. пока мы будем пользоваться исключительными богатствами в то время, как массы народа задавлены трудом, всегда будут войны за рынки, за золотые прииски и т. п.».
Эти же мысли Толстой изложил в статьях «Не убий», написанной им после убийства итальянского короля Гумберта, «Рабство нашего времени», «Патриотизм и правительство» и «Единственное средство», написанной несколько позже. Обрисовывая положение рабочих, он снова и снова повторяет мысль о подчинении только одному закону — Божьему, и только исполняя волю Бога, народ может освободиться от рабства правительства, фабрикантов и землевладельцев.
С 1900 года Толстой снова стал более регулярно вести дневник. Каждый
человек должен вести дневник, говорил он. Это помогает идти вперед, развивает мозг, как гимнастика развивает наши мускулы. Дневник — толстая тетрадь, в которой Толстой записывал свои мысли и некоторые события вечером, у себя в кабинете. Но, кроме дневника, у него всегда, даже ночью, была с собой маленькая записная книжечка. Верхом на лошади, проснувшись среди ночи он записывал или отвлеченную мысль, или внезапно пришедшую ему в голову подробность к произведениям. Записи эти он, иногда развивая и уточняя, переписывал в дневник. Главное содержание дневника — глубоко философские, постепенно развивающиеся мысли о смерти, о Боге, о любви... и постоянная борьба с собственными грехами — честолюбием, недобротой. Здесь же он часто дает отзывы о прочитанных книгах и о влиянии прочитанного на него самого. Прочитав «Жизнь и учение Конфуция» и «Жизнь и творчество Менция» (Лега), Толстой задумал написать послание китайцам. Чтение Джона Рескина, Декарта, Эмерсона и других философов доставляет ему наслаждение — в них он часто находит созвучие со своими взглядами. Иногда, заканчивая запись, Толстой помечает число следующего дня и ставит буквы: «е. Б. в.» — «если Бог велит», или «е. б. ж.» — «если буду жив», напоминая сам себе, что он должен исполнять волю Бога и постоянно думать о смерти.
Несмотря на то, что Толстой был погружен в свои религиозно-философские работы, он не мог не интересоваться современной литературой. От старых классиков, которыми изобиловал XIX век — период расцвета русской литературы, — оставался один Толстой. Он часто говаривал, что не хочет быть похожим на старичков, признающих только старые формы в литературе и осуждающих все новое. Он с большим вниманием и бережностью подходил к молодым писателям.
В то время искусство в России стояло высоко. В Петербурге, под водительством А. Н. Бенуа, создавался новый художественный центр вокруг
журнала «Старые годы», в опере появился Шаляпин и такие декораторы, как Коровин, Билибин, Добужинский и др. Балет возносился Дягилевым на небывалую высоту. В Москве, рядом со знаменитым Малым театром, совершал свою революцию и эволюцию новый Художественный театр Станиславского и Немировича-Данченко. В музыке, после Чайковского, появились Рахманинов, Скрябин, Стравинский. В литературе наибольшей популярностью пользовались Чехов, Горький, Куприн, Бунин, Андреев, Мережковский. Толстой постепенно знакомился с ними.
Горький впервые посетил Толстого в начале 1900 года. Вероятно, Горький шел с некоторым предубеждением в «аристократический» дом графов Толстых, и его коробило от лакеев, блестящих паркетных полов и всей «буржуазной» обстановки. Сам он был одет в черную косоворотку, штаны навыпуск; каштановые волосы, подстриженные под гребенку, лезли в глаза и он постоянно откидывал их назад; в движениях, в лице с широкими, костлявыми скулами, в походке Горького было что-то угловатое, непричесанное.
В начале разговора у Горького было впечатление, что он держит экзамен. Но Толстой так ласково и сердечно принял его, что впечатление это быстро сгладилось. Толстой откровенно высказал Горькому свое отрицательное мнение о некоторых его произведениях, похвалил другие, а под конец, прощаясь, сделал ему, с его толстовской точки зрения, большой комплимент: «Вы настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо — ничего! Умные люди поймут».
Вскоре после этого свидания Горький написал Толстому письмо:
«За все, что вы сказали мне спасибо вам, сердечное спасибо, Лев Николаевич! Рад я, что видел вас и очень горжусь этим. Вообще я знал, что вы относитесь к людям просто и душевно, но не ожидал, признаться, что именно так хорошо вы отнесетесь ко мне».
На что Толстой ответил:
«Я очень, очень был рад узнать вас и рад, что полюбил вас. Аксаков говорил, что бывают люди лучше (он говорил умнее) своей книги и бывают хуже. Мне ваше писанье понравилось, а вас я нашел лучше вашего писания. Вот какой делаю вам комплимент, достоинство которого, главное, в том, что он искренен».
Позднее Толстой записал в записной книжке:
«Горькому было что сказать и от того успех. Он преувеличивает неверно, но он любит, и мы узнаем братьев там, где не видали их прежде».
В это же время у Толстого в Москве пел Шаляпин. Шаляпин вышел приблизительно из той же среды, что и Горький, но не было ничего «пролетарского» ни в громадной, стройной фигуре Шаляпина, в его милом, простом, типично русском открытом лице, ни в его манере держаться, говорить. Он был прост, весел, голубые глаза его сияли задором, весельем, не было в нем ничего напыщенно актерского. Наоборот, было в нем что-то покоряющее, царственное, по-настоящему барское: «Пришел, увидел, победил».
Под аккомпанемент пианиста Гольденвейзера он пел «Блоху», «Во Францию два гренадера» и другие вещи, и все были в восторге. Но чем больше все присутствующие выражали свое восхищение, тем сдержаннее был Толстой. И только когда Шаляпин, под корявый аккомпанемент Миши Толстого (Гольденвейзер не знал этой песни), запел «Ноченьку», Толстой воодушевился.
«Чудесно, превосходно», — повторял он.
Из дневника Толстого видно, как произведения других писателей иногда косвенно влияли на его собственное творчество. В дневнике от 7 мая 1901 года Толстой записал:
«Видел во сне тип старика, который у меня предвосхитил Чехов. Старик был тем особенно хорош, что он был почти святой, а между тем пьющий и ругатель. Я в первый раз понял ту силу, какую приобретают типы от смело накладываемых теней. Сделаю это на Хаджи-Мурате».
Толстой буквально приходил в восторг от талантливости Чехова. Некоторые рассказы его, как «Душечка», он читал вслух несколько раз. Впоследствии он даже написал предисловие к рассказу и поместил рассказ в недельное чтение своего сборника «Круг чтения».
«Чехов, — говорил он, — в «Душечке» дал идеальный тип женщины — самоотверженной, доброй, основное свойство которой — любовь. И она самоотверженно, до конца, служит тем, кого любит».
«Вот что нравится Лёвочке, — с возмущением говорила Софья Андреевна. — Тип женщины — самки, рабы, без всякой инициативы, интересов! Ухаживай за мужем, служи ему, рожай, корми детей».
«Идеальная женщина это та, — записал Толстой в дневнике от 6 апреля 1900 года, — которая будет рожать детей и воспитывать их по-христиански, т. е. так, чтобы они были слуги Бога и людей, а не паразиты жизни».
Женский вопрос в семье Толстых был одним из тех, которые вызывали постоянные споры между Толстым, которого с восторгом поддерживал сын Сергей, и женской половиной семьи. Толстой иногда очень резко высказывался против женщин, говорил, что весь разврат идет от женщин, что женщина не должна занимать какие-либо общественные, научные и другие должности — ее назначение исключительно семья.
Драм Чехова Толстой не признавал, хотя драме Чехова суждено было косвенно повлиять на писание им «Живого трупа».
В начале года Толстой смотрел «Дядю Ваню» на сцене Художественного театра и, как он записал в дневнике, он очень «возмутился». «Нет настоящего действия, движенья, к чему ведутся все эти бесконечные разговоры неврастеников-интеллигентов. Непонятно, что Чехов вообще хотел выразить».
Но когда Толстой посмотрел «Дядю Ваню» в Художественном театре, ему, как он записал в дневнике, вдруг «захотелось написать драму «Труп». Он тотчас же набросал конспект. «Мне кажется, — отметил в своей книге П. И. Бирюков, — что в драме «Живой труп» есть нотки, навеянные произведением Чехова. Такова тайна художественного творчества»2.
И Толстой стал писать драму, задуманную им еще в середине 90-х годов.
История «Трупа» была рассказана Толстому Н. В. Давыдовым. Фабулу этой драмы подробно рассказывает А. Ф. Кони, также причастный к этому делу.
Героиня романа — порядочная, хорошая женщина, вышла замуж за слабого человека, пьяницу, который постепенно опускался все ниже и ниже. В конце концов он ушел из дому и окончательно спился, превратившись в бездомного бродягу. Несчастная, покинутая мужем женщина, встретила человека, которого полюбила. В то время трудно было получить развод, дело затягивалось и казалось безнадежным. Женщина разыскала своего бывшего мужа и уговорила его симулировать самоубийство. На берегу Москвы-реки нашли мужскую одежду с документами ее мужа и как раз в это же время, по неожиданной случайности, из
реки выловили труп мужчины, в котором, совершенно растерявшаяся женщина опознала своего мужа. Она вышла замуж. Однако, вследствие недоразумения с документом, по которому проживал ее первый муж, симуляция эта была вскрыта полицией, об этом узнали власти и началось судебное дело. Женщину обвинили в двоебрачии и приговорили к пожизненной ссылке в Сибирь. Только благодаря вмешательству А. Ф. Кони в высшей инстанции суда, приговор был смягчен и женщина была приговорена к одному году тюремного заключения.
Сведения о том, что Толстой пишет драму «Живой труп», попали в газеты. Об этом, в пьяном виде, проболтался его переписчик, поручик Иванов. К Толстому посыпались просьбы издателей журналов о предоставлении им права напечатания «Живого трупа». Приезжал и Немирович-Данченко, прося дать ему драму для постановки в Художественном театре. Но Толстой всем отказывал.
«Вы ни за что не угадаете, кто у меня был, — сказал раз Толстой, выходя из своего кабинета. — У меня был — «живой труп»!
Оказалось, что приходил оборванный, опустившийся, несчастный человек, который сообщил Толстому, что он и есть тот человек, «живой труп», которого Толстой описал в своей драме. Толстой принял большое участие в «трупе», помог ему материально, поговорил с ним «по душам» и «труп» обещал Толстому больше не пить. Толстой через друзей устроил его на место, где он и прослужил до конца своих дней.
В другой раз пришел юноша, пожелавший говорить с Толстым наедине. Его прислала мать, та самая женщина, которая судилась за двоебрачие. Юноша был сыном от ее второго брака и передал Толстому просьбу матери не печатать драмы, так как вся трагичная история их жизни, которая, слава Богу, как-то улеглась, могла бы снова всколыхнуться.
Это и было главной причиной, почему Толстой никогда не закончил вполне своей драмы.
12 декабря 1900 года Толстой писал Черткову по поводу «Живого трупа»: «Драму я, шутя, или, вернее — балуясь, я написал начерно; но не только не думаю ее теперь кончать и печатать, но очень сомневаюсь, чтобы я когда-нибудь это сделал. Так много более нужного перед своей совестью».
Чертков больше интересовался статьями Толстого, чем его художественным творчеством, и когда Толстой увлекался своим любимым делом, он точно извинялся перед Чертковым.
Только что вернулся из ссылки, где он пробыл два с половиной года, последователь Толстого Буланже, человек горячий, увлекающийся новыми идеями. Ему пришло в голову издавать журнал «Утро», в котором сотрудничали бы Толстой и все видные писатели — Горький, Чехов и другие. На это издательство соглашался дать деньги Солдатенков, пожертвовавший на духоборов 5000 рублей. Но узнав об этом, Чертков написал Толстому резкие письма от 3 и 5 января 1901 года, в которых он упрекал Толстого за то, что он, начиная журнал, ставит себя в необходимость подчиняться цензурным требованиям правительства.
«Мне хочется вам указать на весь компромисс, всю безнравственность, всю измену нашему Хозяину, которые требуются для получения разрешения и для подчинения всем требованиям, связанным с этим поганым делом...» (Издание журнала). Все, которые идут за правительственным разрешением, совершают «ряд раболепных, подлых поступков, для которых приходится потерять свое человеческое достоинство и становиться добровольным подхалимом». Чертков кончает
письмо еще более резко: «участвовать в подцензурной организации настолько же и еще хуже участия в доме терпимости, насколько душевная проституция хуже, отвратительнее, пагубнее нежели физическая».
На это письмо Толстой, как всегда, ответил коротким письмом — он любит «обличение». Но, обдумав, он написал, что «менее соглашался... очень меня подкупало то, что это (т. е. журнал) побуждало бы меня писать художественные вещи, которые я без этого не буду писать».
Но из журнала ничего не вышло. Солдатенков умер, Буланже денег не получил, да и цензура вряд ли разрешила бы издание этого журнала. Но Чертков, разумеется, был не прав. Создавая в свое время «Посредник», он сам непосредственно имел дело с правительственной цензурой.
Еще в 1888 году поднимался вопрос об отлучении Толстого от церкви. Свое намерение Победоносцев подтвердил в письме к С. А. Рачинскому в 1896 году, а в 1900 году «По указу Его Императорского Величества, Владимирская Духовная Консистория слушали: отношение первенствующего члена Святейшего Синода Иоанникия»... в котором идет перечисление причин, по которым Толстой должен быть отлучен. «...Совершение панихид и заупокойной литургии по гр. Льве Толстом, в случае его смерти без покаяния и примирения с церковью, несомненно смутит верных чад св. церкви и вызовет соблазн, который должен быть предупрежден. В виду сего Св. Синод постановил: воспретить совершения поминовения, панихид, заупокойных литургий по графе Льве Толстом, в случае его смерти без покаяния»1.
Официально опубликовано постановление Синода было 22 февраля 1901 года.
«...В наши дни, Божьим попущением, явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой. Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно перед всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его матери, церкви православной, и посвятил литературную свою деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и крепка была Русь святая...»2
Этот документ был подписан Антонием, митрополитом С.Петербургским и Ладожским, еще двумя митрополитами и 4-мя епископами.
Вероятно, правительство, главным образом Победоносцев, не ожидало того действия, которое произвело это отлучение. Софья Андреевна писала своей сестре Тане Кузминской в Киев: «... пережили эти дни здесь много интересного. После ваших киевских студентов, взбунтовались наши — московские. Но совсем не по-прежнему: разница в том, что раньше студентов били мясники и народ им не сочувствовал. Теперь же весь народ: приказчики, извозчики, рабочие, не говоря об интеллигенции — все на стороне студентов»3.
24 февраля была громадная демонстрация. Тысячные толпы народа собрались на площадях, на улицах. В этот же день было напечатано во всех газетах сообщение об отлучении Толстого. Толстой, который, по обыкновению, пошел на прогулку, попал на Лубянскую площадь. Какой-то человек, узнав его, крикнул: «Смотрите, вот дьявол в прообразе человека!» Немедленно громадная толпа
окружила Толстого, кричали ура, сдавили его тесным кольцом... С помощью конного жандарма Толстой едва выбрался из толпы, его посадили на извозчика и он приехал домой.
В то время шло повсеместное брожение. Революционеры, взбунтовавшееся студенчество воспользовались фактом отлучения Толстого, чтобы создать из него своего революционного героя, выставив его жертвой ненавистного им строя, и тем поставили Толстого в трудное положение. Он не мог не стать на защиту тех студентов, которых за беспорядки правительство жестоко наказывало, но он не мог и не осуждать революционеров, готовых употребить насилие и террор, чтобы захватить власть в свои руки.
«Люди, имеющие в виду народ и его благо, — записал он в дневнике, — совершенно напрасно, — и я в том числе, — приписывают важность волнениям студентов. Это собственно раздор между угнетателями — между уже готовыми угнетателями и теми, которые только еще хотят быть ими».
У Толстых в доме шло страшное волнение — все, от мала до велика, были возмущены «отлучением». Шестнадцатилетняя Саша и ее ровесник Миша Сухотин, Танин пасынок, живший у Толстых, обуреваемые духом протеста и революционным пылом, жаждали деятельности, мечтая о несбыточных геройских выступлениях против правительства. Было волнительно-весело. Софья Андреевна даже записала в дневнике: «Несколько дней продолжается у нас в доме какое-то праздничное настроение; посетителей с утра до вечера — целые толпы...» (6 марта 1901 г.)4.
Софья Андреевна разделяла общее настроение. Быстрыми, легкими шагами она бегала в страшном волнении по дому, не переставая, разговаривала то с мужем, то с посетителями, выражая свое возмущение, и затихала только на время, за письменным столом. Она написала письмо Св. Синоду:
«Горестному негодованию моему нет пределов, — писала она. — И не с точки зрения того, что от этой бумаги погибнет духовно муж мой: это не дело людей, а дело Божье. Жизнь души человеческой с религиозной точки зрения никому, кроме Бога, не ведома и, к счастью, не подвластна...» «Для меня непостижимо определение Синода, — писала она дальше. — Оно вызовет не сочувствие (разве только «Московских Ведомостей»), а негодование в людях и большую любовь и сочувствие Льву Николаевичу. Уже мы получаем такие изъявления — и им не будет конца со всех сторон мира. Не могу не упомянуть еще о горе, испытанном мною от той бессмыслицы, о которой я слышала раньше, а именно: о секретном распоряжении Синода священникам не отпевать в церкви Льва Николаевича в случае его смерти. Кого же хотят наказывать? — умершего, ничего не чувствующего уже, человека, или окружающих его, верующих и близких ему людей? Если это угроза, то кому и чему? Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в церкви, я не найду — или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим Богом любви, или непорядочного, которого можно подкупить большими деньгами для этой цели?...»5
Ответ митрополита Антония не удовлетворил Софью Андреевну, Толстой же просто не стал читать его. Возбужденное настроение вокруг Толстого продолжалось. Письмо Софьи Андреевны было напечатано во многих заграничных газетах. По Москве распространились басни «О семи голубях» (7 иерархов), «Победоносцев» и «Осел и Лев», осмеивавшие действия правительства. Басня «Осел и Лев» начиналась так: «В одной стране, где правили ослы, лев завелся...»
Если целью Синода было унизить Толстого, ослабить его влияние, то они своим отлучением добились обратного. Особенно неудачно было то, что это совпало с демонстрациями по всей России. Революционеры не дремали. 4 марта в Петербурге, на Казанской площади, произошла крупная демонстрация. Полиция стала разгонять толпу, многие были избиты, пострадали некоторые видные общественные деятели, писатели. На защиту избиваемых выступил князь Вяземский, генерал, член Государственного Совета. Ему вследствие этого был объявлен Высочайший выговор и он был выслан из Петербурга.
Протест против действий полиции на Казанской площади, обращенный к министру внутренних дел, подписали 155 писателей, после чего последовала бумага от градоначальника Петербурга с приказом о закрытии Союза Писателей. Этот поступок еще больше возмутил общественное мнение и Союзу Писателей было написано приветствие со многими подписями — первой стояла: Лев Толстой. Кроме того, Толстой написал письмо князю Вяземскому, с выражением уважения и благодарности за его заступничество за невинных людей, которые избивались на Казанской площади полицией. Не избежал преследования и Горький — его посадили в тюрьму, и Толстой писал в Петербург, прося его освободить.
Миша Сухотин и Саша, наконец, нашли применение своей энергии. Во все свободные минуты от уроков они переписывали басни, ответ Синоду Софьи Андреевны, запрещенные вещи Толстого. На каждой копии делалась надпись крупными буквами: «просим распространять». Но работа была кропотливая, непроизводительная. Один раз вечером Миша Сухотин, с таинственным видом, протащил к себе в комнату что-то тяжелое... Это был гектограф — в то время запрещенный правительством для частного пользования.
Работали ночами. Это было похоже уже на типографию. Выпускали сотни экземпляров запрещенной литературы. Но как-то ночью, когда сотни листов с
кривыми лиловыми строчками были разложены на Мишиной кровати, на стульях, комоде, — вошла Софья Андреевна. Разразилась страшная буря, часть напечатанных листов была сожжена, гектограф изъят из дома и за Сашей и Мишей установлен строгий надзор.
В дневнике Софьи Андреевны от 30 марта имеется следующая запись: «С Сашей вышло очень неприятно. Она говеть со мной не стала: то отговаривалась. что ногу натерла, а то наотрез отказалась. Это новый шаг к нашему разъединению».
В Москве весело весной. Текут ручьи, копошатся дети, пуская по воде бумажные кораблики, солнце уже греет, звонят, переливаясь, во всех концах Москвы, колокола. В белую, с золотыми куполами церковь входят, крестясь, люди с сосредоточенными, серьезными лицами, многие идут к исповеди. Толстые, и мать и дочь, настроены покаянно, и обе старались вызвать в себе чувство любви и близости друг к другу. В церкви священник, игнорируя всех бедных и старых, провел «графиню» первой к исповеди.
«Даже здесь, в храме Божьем, все для богатых, знатных — нет равенства, нет справедливости. Вот о чем всегда говорил отец. И его, отца, отлучила эта самая церковь, его — доброго, справедливого, заступающегося всегда за слабого, обиженного». В душе Саши стал вопрос: кто же из двух родителей прав? Отец, отрицающий церковь, но всей жизнью своей исповедующий учение Христа, или мать? Кто был прав — отец, или церковь, его отлучившая? Мысли эти были примитивные, детские, над которыми преобладало чувство, но Саша уже не могла по-прежнему, умиленно-радостно простаивать службы — все вызывало в ней критику, неприязнь. И когда хор слепых девушек пел любимую Херувимскую, Саша, стоя на коленях, горько плакала, но молиться уже не могла. В душе что-то сломилось.
С этого дня в Саше — во мне — произошел перелом. Саша — я — уже больше не была ребенком, я поняла, что должна была избрать свой собственный путь, и вечером я пошла к отцу, в его кабинет, разговаривать. Это был мой первый значительный разговор с отцом. Когда я сообщила ему о своем решении не ходить больше в церковь, он не обрадовался, как я предполагала, он испугался. Он понял то, чего я не понимала, что мое решение было продиктовано чувством, оно не было продумано до конца, как бы он хотел. Он просил меня пойти в церковь, он не хотел, чтобы я огорчала мать. И, действительно, моя мать бурно реагировала на мое решение, упрекала отца в том, что он совратил ее последнюю дочь, но, впрочем, она всегда знала, что Саша глупое, ничем не интересующееся существо, и многое другое говорила она, пока я не успокоила ее, сказав, что пойду с ней в церковь.
У отца в дневнике краткая запись: «Применял в жизни за это время свои молитвы на каждый случай. Говорил об этом с Сашей».
Волнения вокруг имени Толстого продолжались, никогда еще Толстой не достигал такой известности, как теперь, с помощью правительства и Св. Синода. Приветственные телеграммы, письма, адреса, ругательства — тысячами сыпались по адресу Толстого. В Петербурге, на Передвижной выставке, перед портретом Толстого, написанным Репиным в Ясной Поляне, во весь рост и босиком (портрет, который, между прочим, Толстой очень не любил), публика, экспромтом собравшись в большую группу, устроила овацию. Какой-то студент вскочил на стул и произнес речь, кричали ура, разукрасили портрет цветами, гирляндами; а когда
демонстрация повторилась еще раз, — портрет Толстого, по распоряжению властей, был снят. Группа людей, пройдя на выставку и увидев пустое место, послала Толстому гирлянду цветов и телеграмму: «Не найдя вашего портрета на выставке, посылаем вам нашу любовь»7.
Все эти волнения расшатали здоровье отца, ослабили его сердце, он очень похудел, постарел, стал прихварывать. Чем больше люди выражали Толстому сочувствие, чем больше писали и говорили о нем, тем сильнее он чувствовал свою ответственность перед людьми.
Он закончил письмо «Царю и его помощникам», где он снова умолял царя ослабить репрессии и дать больше свободы русским людям.
«Как ни трудно верить, что у вас доброе сердце по тем ужасам, которые, не переставая, совершаются вашим именем, — я верю в вас, — писал Толстой государю в декабре 1900 г. — И когда вы были больны, мне было жаль вас, я боялся, что вы умрете и без вас было бы хуже. Я на вас почему-то надеюсь».
В дневнике отец кратко отмечает взволновавшее всю Россию событие: «За это время было странное отлучение от церкви и вызванные им выражения сочувствия, и тут же студенческие истории, принявшие общественный характер и заставившие меня написать Обращение к царю и его помощникам, и программу».
Сначала Толстой колебался, отвечать ли на постановление Синода об отлучении его от церкви. 24 марта он набросал первый вариант своего ответа.
«Верю в Бога, — писал Толстой, — которого понимаю как Дух, как Любовь, как Начало всего. Верю и в то, что Он во мне и я в нем. Верю в то, что воля Бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться считаю величайшим кощунством. Верю в то, что истинное благо человека — в исполнении воли Бога, воля же его в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними, как и сказано в Евангелии, что в этом весь закон и пророки».
В конце Толстой излагает мысль Кольриджа:
«Тот, кто начнет с того, что полюбит христианство более истины, очень скоро полюбит свою церковь или секту более, чем христианство, и кончит тем, что будет любить себя (свое спокойствие) больше всего на свете».
«Я шел обратным путем. Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю истину более всего на свете. И до сих пор истина совпадает для меня с христианством, как я его понимаю. И я исповедую это христианство; и в той мере, в которой исповедую его, спокойно и радостно живу и спокойно и радостно приближаюсь к смерти».
С замужеством сестер не было никого, кто бы мог систематически переписывать его статьи. Иногда помогала Юлия Ивановна Игумнова, Жули-Мули, как ее прозвали — Танина товарка по школе живописи, изредка появлялся Александр Петрович. Но он все больше и больше критиковал и обличал Толстого, особенно когда напивался. Толстой даже в дневнике записал: «Пришел Александр Петрович, я его очень холодно принял, потому что он бранил меня. Но когда он ушел, я лишился покоя. Где же та любовь, то признание целью жизни увеличение любви, которое ты исповедуешь? говорил я себе; и успокоился тогда, когда исправил».
В начале мая семья Толстых переехала навсегда в Ясную Поляну. Учить было некого. Миша отбыл воинскую повинность в Сумском полку и женился на
девушке, которую он любил с раннего детства — Лине Глебовой. Я больше учиться не хотела. К экзамену домашней учительницы я была подготовлена, за исключением Закона Божия, который я умышлевно, из протеста, не учила, меня гораздо больше интересовала работа отца, чем уроки с англичанкой, мисс Вельш, чтение Расина и Корнеля с матерью и уроки Закона Божия. Экзамен отложили до осени, но сдать его мне не пришлось. Понемногу я, довольно неуверенно и плохо, начала переписывать рукописи отца.
Отец был очень слаб, и Буланже выхлопотал отдельный вагон для переезда в Ясную Поляну. Многие друзья, к которым присоединилась толпа незнакомых людей, провожали Толстого на вокзале, кричали ура, приветствовали его. В Ясной еще жили Лёва с женой, занятый писанием бездарных сочинений и яснополянским хозяйством, и Маша с мужем. Но в Ясной Поляне не было покоя от посетителей, от продолжающих поступать приветствий. Чертков просил Дунаева заняться этим целым архивом писем и телеграмм и списать самые ценные. Маша, Коля и Софья Андреевна ему помогали. Большинство писем были благожелательные, ругательных немного.
«Позвольте мне, — гласит одно из писем, — хоть и не принадлежащему к ученикам вашим, поздравить вас по поводу послания синода от 21 — 22 февраля с. г., сегодня помещенного в общей печати. Вам, могучему писателю земли русской, удалось невозможное — пробудить от спячки православных и всколыхнуть вековое болото нашего духовенства. Естественно, что сперва из болота брызнуло грязью, но пройдет время — ил осядет, а вызванные вами к жизни источники закроют его потоком воды живой, ибо жизнь есть движение» .
Из Женевы группа русских писала:
«Мы искренно желали бы удостоиться той чести, которую оказал вам Синод, отделив такой резкой чертой свое позорное существование от вашей честной жизни. По своей близорукости Синод просмотрел самое главное ваше «преступление» перед ним, то, что вы своими исканиями рассеиваете тьму, которой он служит, и даете сильный нравственный толчок истинному прогрессу человечества» .
От Брянского стекольного завода рабочие прислали пресс-папье, большую глыбу красивого зеленого стекла с надписью золотыми буквами: «Вы разделили участь многих великих людей, идущих впереди своего века, глубокочтимый Лев Николаевич. И раньше их жгли на кострах, гноили в тюрьмах и ссылке. Пусть отлучают вас, как хотят и от чего хотят, фарисеи, первосвященники. Русские люди всегда будут гордиться, считать вас своим великим, дорогим, любимым»10.
«Звероподобному в человеческой шкуре Льву, — писал какой-то человек. — Да будешь ты отныне, анафема, проклят, исчадие ада, духа тьмы, старый дурак. Лев — зверь, а не человек, подох бы скорее, скорее, скот. Один из скорбящих о погибшей твоей душе, когда-то человеческой»11.
В дневнике (12 июля 1900 г.) Толстой писал:
«Я серьезно убежден, что миром управляют... совсем сумасшедшие. Несумасшедшие воздерживаются или не могут участвовать».
История показала, что это смелое, крайнее суждение не только имело основание в то время, но приложимо и к современности.
Наделав ряд ошибок, правительство все же желало знать, как реагировала публика на отлучение Толстого. Департаменту полиции было дано распоряжение
перлюстрировать письма частных лиц, не имевших прямого отношения к Толстому. Некоторые из этих писем не лишены интереса.
Из письма от 26 февраля юрисконсульта Кабинета Его Величества, Н. Лебедева:
«Прочитал сейчас указ Синода о Толстом. Что за глупость. Что за удовлетворение личного мщения. Ведь ясно, что это дело рук Победоносцева, и что это он мстит Толстому... Может быть, десятки тысяч читали запрещенные произведения Толстого в России, а теперь будут читать сотни тысяч. Прежде не понимали его лжеучений, а Синод их подчеркнул. По смерти похоронят Толстого, как мученика за идею, с особой помпой. На могилу его будут ходить на поклонение. Что меня огорчает, так это отсутствие в епископах духа любви и применения истин христианства... Они наряжаются в богатые одежды, упиваются и объедаются, наживают капиталы, будучи монахами, забывают о бедных и нуждающихся; они еретики, не соблюдая делом учения Христа. Если Толстой виновен в искажении учения Христа словом и учением, то он чист делом. Соблюдает это учение в поступках и применяет его, помогая ближнему. Они же удалились от народа, построили дворцы, забыли кельи...»
К Н. П. Агапьевой в Тифлисе писали 26 февраля из П-бурга:
«Никто не мог предполагать такой комедии, как официальное отлучение Л. Толстого от церкви. Осрамили Россию на весь мир. Как бестактно в политику вносить личные счеты; это личная месть Победоносцева за то, что Толстой осмеял его в «Воскресении» (Топоров)»13.
К его превосходительству Д. А. Хомутову в Москву писал 26 февраля Н. М. Павлов из Петербурга. (Павлов — писатель славянофильского толка.)
«Говорю без преувеличения: в Русской истории, со дня учреждения Синода, не было более значительного и чреватого отрицательньши последствиями факта, как робкая анафема, наложенная Синодом на Толстого. Как нарочно случилось: на открывшейся выставке картин на Большой Морской главную атракцию производит Репина портрет Льва Николаевича: во весь рост в рубахе крестьянской и босоногий; — а внизу подпись: «Приобретено для Музея Императора Александра Ш». А публика толпится у этого портрета и смеется (конечно, не над графом) — вот, дескать, он — отлученный»...
Полковник военно-судебного ведомства А. В. Жиркевич пишет С. А. Толстой из немецкого курорта:
«Если бы вы знали, как имя Льва Николаевича ценится заграницей. Всюду, во всех городах в окнах магазинов сочинения Льва Николаевича и его портреты. Все говорят о нем. Газеты сообщают все подробности о ходе его болезни, об его занятиях. Я с восторгом и с гордостью за русское имя встречаю это отношение культурных наций к нашему великому писателю. Англичане, немцы, французы, поляки, русские, все без исключения читают Льва Николаевича, ценят и любят его. Боже, храни его долго, долго еще для России, для человечества! Скажите дорогому больному, что весь цивилизованный мир по-прежнему с ним и за него; что на всех концах земного шара прислушиваются к его голосу и стараются жить по его указаниям. А имя его стоит везде на ряду с величайшими гуманистами вселенной».15
Статья «Чего прежде всего желает большинство людей рабочего народа» постепенно расширялась и
была закончена под заглавием «Единственное средство». Кроме того, он написал целый ряд мелких статей: «Солдатская и офицерская памятка» — против войны и воинской повинности, предисловие к роману Поленца «Крестьянин», произведшего на него сильное впечатление, длинное письмо Бирюкову о свободном воспитании, и начал статью о религии и в чем ее сущность. Ответы на письма занимали много времени. Он ответил Румынской королеве Кармен Сильве на ее сочувственное письмо, написал парижскому корреспонденту Пьетро Мадзини длинное письмо на тему о франко-русском союзе, к которому он остался совершенно равнодушен.
«Мой ответ на ваш первый вопрос о том: что думает русский народ о франко-русском союзе, — писал он Мадзини, — следующий: русский народ — настоящий народ — не имеет ни малейшего понятия о существовании этого союза; но если бы даже он знал об этом союзе, я уверен, что, так как все народы для него одинаково безразличны, то его здравый смысл, а также его чувство человечности ему указали бы ему, что этот исключительный союз с одним народом, предпочтительный перед всяким другим, — не может иметь иной цели, как ту, чтобы вовлечь его во вражду, а быть может, и в войны с другими народами, и потому союз этот был бы ему в высшей степени неприятен...»
Весной 1901 г. Репин писал портрет отца акварелью, художник Пастернак зарисовал нашу семью, скульптор Аронсон лепил бюст Толстого. Позирование для художников, скульпторов превратилось в тяжелую повинность для отца. Еще раньше, русский, воспитанный в Италии скульптор Паоло Трубецкой, вылепил в Москве прекрасные статуэтки Толстого, одна из них верхом на лошади. Летом 1899 года он снова приехал в Ясную Поляну. Отец любил Паоло. В этом громадном, талантливом человеке было что-то наивно детское, милое. Он почти ничего не читал, мало говорил, вся жизнь его была в скульптуре. Паоло был убежденным вегетарианцем: «Je ne mange pas de cadavre!»*, кричал он, если ему предлагали мясо. В мастерской в Петербурге у него был целый зоологический сад: медведь, лисица, лошадь и волк-вегетарианец.
Но бывали посетители гораздо менее приятные. Так, в Ясную Поляну заладил приезжать тульский тюремный священник Троицкий, и приезд его всегда совпадал с болезнями отца. Отец чувствовал себя плохо, когда в конце июня снова появился Троицкий. Отец принял его, но с полной откровенностью сказал, что если он ездит по распоряжению начальства, то это очень дурно, и просил его больше не приезжать.
Отец заболел тяжелой формой малярии и дней десять был между жизнью и смертью: пульс 150 в минуту, с перебоями, одышка. Вызвали докторов. Съехались все дети, приехала тетенька Марья Николаевна. Температура спала, но отец задыхался, слабело сердце. Врачи определили грудную жабу и заговорили о необходимости перемены климата, упоминался Крым.
Графиня С. В. Панина, одна из самых богатых женщин в России, работавшая в то время среди бедноты петербургских окраин и создавшая там один из первых Народных Домов, предложила отцу свой дом на южном берегу Крыма, около деревни Гаспра. На семейном совете решено было принять предложение гр. Паниной и ехать на зиму в Крым.
Все кругом засуетились, делали планы, укладывались, плакали, расставаясь с семьями, повар Семен и лакей Илья, которых моя мать брала с нами.
* «Я не ем трупов!»
Отец жил вне этой суматохи. В дневнике от 16 июля он писал:
«Болезнь была сплошной духовный праздник; и усиленная духовность и спокойствие при приближении к смерти, и выражение любви со всех сторон...»
Выехали из Ясной Поляны в сырую, темную, осеннюю ночь, в двух колясках: отец с матерью, Маша с Колей, Буланже и я. Лошади шагом, осторожно пробирались полторы версты по колеистой проселочной дороге до шоссе. Конюх Филечка освещал дорогу ярким желтым светом керосинового факела. На душе было неспокойно. Отец был так слаб, что едва держался на ногах. Только один Буланже чувствовал себя героем и всех подбадривал. Он выхлопотал у себя на службе, на Московско-Курской дороге, отдельный вагон, который должен был довезти нас из Тулы до Севастополя. Вагон оказался великолепным, с кухней, столовой, отдельными спальнями. Но вид отца нас всех напугал — он казался таким измученным, больным. Померили температуру — жар. Что делать? Как ехать дальше? Но Буланже опять уговорил. 15 верст езды на лошадях обратно в Ясную Поляну труднее сделать, чем 1 000 верст до Севастополя со всеми удобствами в вагоне, а там... солнце, тепло... В три часа ночи поезд тронулся. На утро температура спала, отец доволен, уже диктует Маше...
К вечеру замелькали белые, чистые мазанки, сады, теплее воздух — поезд подходил к Харькову. Мы собирались идти обедать на вокзал, но обедать не пришлось. Что это? На платформе море человеческих голов... колышется толпа, пробиваясь к поезду, обнажаются головы... Я выскакиваю на площадку вагона.
«Толстой! Лев Николаевич! Здесь? Делегация! Пустите нас! Урра! Толстой!» — кричала толпа. Я в ужасе бросилась обратно в вагон. «Отец умрет от волнения! Сердце не выдержит... Что делать?»... проносится у меня в голове.
«Толстой! Уррра! Уррра!» — гудит толпа. Буланже вводит к отцу одну делегацию, другую... Толстой ласково говорит с ними, он бледен, губы посинели, дрожат руки, прерывается дыханье. Мы с Машей переглядываемся. Наконец, кажущиеся бесконечными 20 минут стоянки поезда на вокзале на исходе. «Просим Толстого показаться, просим к окну!» — кричала толпа. Поддерживаемый сзади матерью и Буланже, отец встает у окна, машет рукой. На лице капли пота... Поезд медленно трогается. «Урррра!» — ревет толпа, и бежит по платформе за поездом, махая шапками. Отец вытирает слезы... Когда его, наконец, уложили, сделался сердечный припадок, он задыхался, поднялась температура. Эта Харьковская демонстрация могла стоить ему жизни!
На следующее утро мы подъезжали к Севастополю. Толпа на Севастопольском вокзале была небольшая. Полиция наводила порядок, отца сразу же провели под руки и посадили в коляску. Четырехместная извозчичья плетенная коляска, запряженная парой крепких лошадей, довезла нас до лучшей Севастопольской гостиницы «Киста». Солнце, мягкий южный воздух, по заливу снуют многочисленные суда, катеры, рыбачьи лодки. Отец ожил, он с интересом рассматривал город. «Где же 4-й бастион?» — спрашивал он у извозчика. Тот 4-й бастион, где подпоручик артиллерии Толстой в 1855 году защищал город во время осады его англичанами. В те сутки, которые мы провели в Севастополе, отец гулял по городу, стараясь найти свой 4-й бастион, встретил даже сына своего старого севастопольского приятеля, посетил военный музей.
В Гаспру ехали на почтовых, в двух колясках. В одной — родители, Буланже и я, в другой — Оболенские и присоединившийся к нашей компании в Харькове пианист Гольденвейзер. Первая половина дороги ровная — селенья, поля, степь. Но
вот дорога пошла вверх — выше, выше и мы подъехали к Байдарским воротам, мягким подъемом среди букового леса. Живописно, но ничего особенного. И пока мать хлопотала с завтраком, я побежала вперед, за ворота, и остолбенела — в первый раз увидела я и реально ощутила безбрежность моря, раскрывшегося перед глазами и лежавшего далеко внизу, у наших ног. Яркие зеленые берега, сады, налево Яйла, такая же торжественная, величавая, как море. И Маша, и отец, и Буланже, который веселился как ребенок, понимали мой почти детский восторг. Хотелось скорее нестись дальше, дальше, в этот волшебный край, к морю, к садам, в горы...
Стемнело, когда мы подъезжали к Панинскому дворцу. Зашелестели колеса по гравию, среди двора журчал фонтан, в темноте едва обрисовывались две башни, темные гранитные стены, купол домовой церкви... В дверях стоял, с хлебом-солью в руках, старенький, улыбающийся немец-управляющий гр. Паниной, Карл Христианович Классен.
Хотя отец начал постепенно поправляться, он продолжал думать о смерти и готовиться к ней. Умер старый друг семьи, граф Адам Васильевич Олсуфьев. «Я выздоравливаю потихоньку, но приближаюсь к смерти шибко, — писал отец брату Сергею 6 ноября 1901 г. — Умер А. В. Олсуфьев, утром ходил, за 10 минут говорил, знал, что умирает, прощался со всеми, давал советы детям и часто повторял: «Я никак не думал, что так легко умирать».
Недели через две отец ходил на прогулку и мы ездили с ним верхом в Алугасу и к морю. Классен указал мне татарина, у которого можно было доставать лошадей, мы наняли коляску, и у того же татарина я нанимала верховых лошадей для отца и себя.
Оболенские переехали в Ялту, и я начала переписывать рукописи отца. Сначала я ничего не могла разобрать. Буквы — косые, высокие — сливаются. По
смыслу — угадывать не могу, не все понимаю (отец в то время писал; «Что такое религия и в чем ее сущность»). Как я ни старалась, выходило очень плохо: пропуски, строчки кривые, кое-где чернила расплылись, закапанные слезами. Совестно было нести переписанное отцу, я проклинала свою неспособность, глупость, молодость.
Привыкла я постепенно, и скоро перешла с рукописной переписки на машинку «Ремингтон» — это забавляло меня. Между делом я успевала съездить в Ялту верхом, сбегать к морю, нарвать чудного винограда «Изабелла», которыми была обвита вся нижняя мраморная терраса, сыграть с Горьким и его сыном Максимкой, который жил у моря и часто приходил к нам, в городки.
Отец жил внизу, рядом с гостиной. Мебель, окна в готическом стиле, мраморные широкие подоконники, ковры, вид на море из окон и с широкой террасы, сквозь зелень густого парка, кипарисы, деревья грецких орехов, олеандры, магнолии... Никто из нас не привык к такой роскоши, в Ясной было бедно и серо по сравнению с Гаспрой.
«Живу я здесь в роскошнейшем палаццо, — писал отец брату Сергею 6 ноября 1901 года, — в каких никогда не жил: фонтаны, разные поливаемые газоны в парке, мраморные лестницы и т. п. И кроме того, удивительная красота моря и гор. Со всех сторон богачи и разные великие князья, у которых роскошь еще в 10 раз больше». В письме к Чертковым он писал: «Живем мы здесь 5: я с женой, Маша с Колей и Саша. Красота здесь удивительная. И мне было бы совсем хорошо, если бы не совестно».
Гаспра окружена такими же великолепными имениями и дворцами: Кореиз князя Юсупова, имение гр. Шувалова Мисхор, имения великих князей Николая и Петра Николаевичей, Александра и Георгия Михайловичей. Гаспра граничила с Ай-Тодором, имением вел. князя Александра Михайловича, где в это время гостил его брат Николай Михайлович. Узнав, что у Толстого больное сердце, великий князь предложил ему пользоваться так называемой «горизонтальной тропой», на которой не было ни подъемов, ни спусков, и которая тянулась до самой Ливадии, дворца Государя.
Великий Князь сам пришел к Толстому и когда он это сделал во второй раз, то Толстой встретил его словами: «Очень рад вас видеть, я поджидал вас, меня мучила совесть, хочу спросить вас, подумали ли вы, что сделали, когда первый раз пришли ко мне. Ведь я — скарлатина, я отлучен от церкви, меня боятся, а вы приходите ко мне; повторяю, я — скарлатина, зараза, и у вас могут выйти неприятности ради меня, будут на вас косо смотреть, как вы посещаете политически неблагонадежного человека».
Они долго беседовали и остались довольны друг другом.
Разумеется, великий князь не мог признать антигосударственных и антицерковных взглядов Толстого, но он не одобрял окружения своего двоюродного племянника, Государя Николая II. Простота и живой, пытливый ум вел. князя понравились отцу.
В конце декабря Толстой снова написал письмо Царю и просил вел. князя передать его в собственные руки Государя.
«Прилагаю письмо Государю, к сожалению, написанное не моей рукой. Я начал было это делать, но почувствовал себя настолько слабым, что не мог кончить. Я прошу Государя извинить меня за это. Письмо посылаю незапечатанным с тем, что если Вы найдете это нужным, могли прочесть его и решить еще
раз, удобно ли Вам передать его. Письмо может показаться в некоторых местах резким — правду или то, что считаешь правдой, нельзя высказывать наполовину — и потому Вы, может быть, не захотите быть посредником в деле, неприятном Государю. Это не помешает мне быть сердечно благодарным Вам за Вашу готовность помочь мне. В таком случае я изберу другой путь. Вы же пока оставьте письмо у себя».
В письме Государю Толстой предупреждает его, что если не дать свободы русскому народу — будут «братоубийственные кровопролития». «Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в Центральной Африке, отделенной от всего мира, но не требованиям русского народа, который все более и более просвещается общим всему миру просвещением; и потому поддерживать эту форму правления и связанное с нею православие можно только, как это и делается теперь, посредством всякого насилия; усиленной охраны, административных ссылок, казней, религиозных гонений, запрещения книг, газет, извращения воспитания и вообще всякого рода дурных и жестоких дел... Мерами насилия можно угнетать народ, но нельзя управлять им...»
Великий князь Николай Михайлович, которому Толстой послал письмо в Петербург, обещал передать его в собственные руки Государя. Вот что писал Толстому по этому поводу великий князь:
«Приехав в Петербург 22 января, я получил на другой день ваше послание, которое, конечно, прочел, оставив себе копию, и нашел, что смело могу оное вручить тому, кому оно адресовано. Когда я спросил, могу ли я передать ему это послание, то Государь сказал: «Да, конечно», и через три дня ... я ему из рук в руки передал письмо ваше. Но, передавая, прибавил от себя: «Прошу из уважения ко Льву Николаевичу мне сделать удовольствие — не давать читать это письмо никому из ваших министров». Государь обещал никому не показывать и сказал, что прочтет оное с интересом... Ведь Государь наш очень добрый и отзывчивый человек, а все горе в окружающих...».
Чехов жил в Ялте и приезжал к Толстому. Еще будучи в Москве, Толстой навещал его в клинике, так как Чехов болел туберкулезом. Независимо от несогласия во взглядах, была взаимная симпатия между ними, и в это свидание в Москве разговор между ними шел о значительном — о бессмертии. Именно потому, что Толстой полюбил Чехова, его мучила мысль, что Чехов живет без Бога, и невольно Толстой постоянно наводил разговор на эту тему. Этот же вопрос он часто задавал себе и по отношению к Горькому. Он чувствовал силу таланта обоих. Чехов писал прелестные, трогательные, талантливейшие рассказы, Толстой сравнивал его по силе с Мопассаном; Горький писал более значительные вещи, он открывал целый мир и жизнь людей, на которых до тех пор не обращали внимания, — мир босяков, пролетариев, угнетенных.
«Рад, что и Горький и Чехов мне приятны, — записал он в дневнике от 29 ноября, — особенно первый». А Черткову он писал: «Видаю здесь Чехова, совершенно безбожника, но доброго, и Горького, в котором гораздо больше "fond"*». Но в Горьком он скоро разочаровался, главным образом из-за его «На дне», которое создало ему, с помощью Художественного Театра, такую славу. «Горький — недоразумение, — писал он в дневнике. — Немцы знают Горького, не зная Поленца».
* Глубины, (фр.).
Фальшь, напыщенность, ходульность в художественном творчестве Толстой не выносил. И эту неискренность Толстой почувствовал в Горьком. Он говорил, что та слава, на которую вознесли Горького, испортила его.
Наоборот, Чехова Толстой ценил все больше и больше, хотя как-то, после разговора о литературе вообще, Толстой вдруг ласково обнял Чехова и сказал ему: «Голубчик, пожалуйста не пишите больше драм». И Чехов не обиделся. С другой стороны, Толстой «уяснил себе, что он [Чехов], как Пушкин, двинул вперед форму. И это большая заслуга...» «Чехов! — воскликнул Толстой в разговоре, — Чехов — это Пушкин в прозе. Вот как в стихах Пушкина каждый может найти что-нибудь такое, что пережил и сам, так и в рассказах Чехова, хоть в каком-нибудь из них читатель непременно увидит себя и свои мысли...»'
Эту правдивую художественную искренность Толстой ценил в Куприне и считал, что он очень талантлив. Что касается той фальши, о которой я упомянула, то больше всего отец ощущал ее в Леониде Андрееве, слава которого только что начинала восходить. Прочитав его прогремевшую «Бездну», отец возмущался: «Выдумано, напыщенно, — говорил он, — точно он старается всех удивить и напугать. А мне, вот, совсем не страшно, а совестно как-то, как от фальшивой ноты ...»
Постепенно жизнь в Крыму входила в колею. Отец писал, мать усиленно занималась фотографией, гуляли, ездили верхом, по вечерам приходил повар Семен Николаевич с книжечкой, обдумывался и заказывался обед; у портнихи Ольги, к великому отчаянию всех нас, завелся роман с поваром, у которого дома осталась любимая всеми нами жена его Маша с детьми; лакей Илья Васильевич так же методически и безлично подавал к столу и убирал отцовскую комнату. Он тоже тосковал и иногда они с поваром Семеном напивались с горя и жаловались друг другую «Куда нас завезли — с одной стороны море, с другой — горы, деваться некуда!» Софья Андреевна ненавидела Крым, скучала и стремилась домой, и служащие сочувствовали ей.
По вечерам играли в винт: отец, немец Классен, Буланже во время своих наездов, Коля Оболенский. Когда не было партнера, брали меня четвертой. Классен играл классически, Буланже весело и хитро, отец азартно и плохо, назначал большие игры и неизменно ставил штраф. Классен принимал игру всерьез и сердился на отца, когда играл с ним: «Уясно, уясно!» — вздыхал добродушный немец, закатывая к потолку голубые, добрые глаза. «Опять у нас с вами шлем без четырех! Уясно!» Все смеялись.
А мать моя сердилась. «Ненавижу карты! — говорила она. — И девчонку испортили, Сашу приучили к картам!»
Но спокойствие наше длилось недолго. Отец снова и тяжко заболел. В Гаспру съехались братья и сестры. Сергей почти все время жил с нами, Оболенские часто приезжали из Ялты, Андрей с Ольгой и маленькой дочкой Сонечкой поселились в одном из флигелей.
Новый 1902 год не принес нам радости. Сначала отец опять стал прихварывать своей обычной желудочной болезнью и не успел поправиться, как его вдруг зазнобило, закололо в боку, поднялась температура и он стал покашливать. Вызвали местных врачей, из Москвы приехал знаменитый д-р Щуровский, из Петербурга — лейб-медик Бертенсон. Температура поднималась, увеличился кашель, врачи поставили диагноз — катаральное воспаление легких. Положение было почти безнадежное. Температура доходила до 40°, неровный, с перебоями, пульс 150 в
минуту, короткое, частое дыхание. Все мысли сосредоточились на одном: выдержит ли ослабленное болезнями, волнениями худое, старческое тело новую, страшную болезнь?
Все, что делалось вне этого, никого не интересовало. Никого не интересовало, что Таврический губернатор получил распоряжение из Петербурга, чтоб в случае кончины Толстого, не допускались по нем заупокойные службы, панихиды; что в свою очередь губернатор дал распоряжение Московско-Курской железной дороге, чтобы после кончины Толстого, когда будут перевозить его тело в Ясную Поляну, не задерживать поезда в населенных местах.
Никто не придавал значения тому, что митрополит Антоний даже писал моей матери, прося ее убедить мужа примириться с церковью. А отец, узнав про это, только сказал: «От Тебя изошел, к Тебе иду», — вот моя последняя молитва: «Да будет воля Твоя»2. Синод был обеспокоен.
«Вывели, помогли выйти Л. Н. из церкви эти владыки духовные, а теперь ко мне подсылают, чтобы я его вернула. Какое недомыслие!»3 — писала Софья Андреевна в дневнике.
Дежурили у отца по двое, врач и кто-нибудь из нас: моя мать, Маша, Сережа, Буланже или Количка Ге, когда они приезжали, Жули, допустили и меня. Я сменяла мать в 4 часа утра. Беспрестанно совещались: Щуровский, в то время большая знаменитость в Москве, придворный врач Бертенсон, земский врач Волков. Ежедневно приезжал из Ялты д-р Альтшуллер, сам туберкулезный. Мы смотрели на них как на спасителей, мы ждали их, мы надоедали им своими бесконечными вопросами. А мать тревожилась: «Но что же мы для них сделаем, ведь это ужасно. Никто не хочет брать денег!»
Болезнь затягивалась — разрешался фокус в одном месте, и немедленно обнаруживались хрипы в другом. Отец готовился к смерти и вся эта суета вокруг него казалась ему ненужной. Помню, как во время моего дежурства, когда мы с Буланже были в комнате, отец, обращаясь к нему, сказал:
«Что может быть прекраснее народного языка, вот вы послушайте: Зачал старинушка покряхтывать,
Зачал старинушка покашливать,
Пора старинушке под холстинушку,
Под холстинушку, да и в могилушку.
— Разве не чудесно? — спросил он, одновременно смеясь и глотая слезы. — Вот так и я: «пора старинушке под холстинушку». И так у них (у народа) это просто, естественно, без докторов, без всякого fuss'a»*.4
А я не понимала, почему эти стихи вызывали умиление и восторг отца, мысль о могилушке и 17-летнем возрасте вызывала не восхищение, а слезы.
Ночь кризиса останется памятна на всю жизнь. Ходили, как мрачные тени, Таня с мужем, Сережа, Маша, помрачневшие Илья, Лев, Миша, Андрей, Маша. Мать не отходила от отца. Врачи явно нас избегали. Надежды у них почти не было. Только один земский врач Волков, увидав, вероятно, полное отчаяние на моем лице, ободрил меня. Никто не спал. Щуровский, Альтшуллер не отходили от отца, следя за сердцем. К утру нам сказали, что кризис миновал.
Теперь, когда отец стал поправляться, меня все чаще и чаще пускали к нему. Теперь уж я и по утрам помогала ему, расчесывала его мягкие волосы гребнем,
* Суеты, (англ.).
умывала его, растирала его худые ноги. Отец не мог стоять на ногах и был так слаб и худ, что страшно было смотреть на него. Уже грело весеннее солнце. Отца сажали в кресло на колесах и подвозили к окну, чтобы он мог смотреть на море, на зазеленевшие сады.
И здесь, в Крыму, трудно было нам избавиться от назойливых посетителей. Приезжал на автомобиле писатель Сергеенко и повез отца кататься. Автомобилей было еще очень мало в России и это событие всех очень взволновало, особенно когда отец решился на нем поехать.
Один раз из Ялты приехала целая компания «посмотреть» на Толстого. Им сказали, что Лев Николаевич болен и никого не принимает. Но они так слезно умоляли, что, наконец, моя мать смилостивилась и отца выкатили к окну в его кожаном кресле.
«Лев Николаевич, — начал один из посетителей. — Мы так счастливы, мы так хотели познакомиться с великим писателем земли русской... Кто же не читал ваших бессмертных произведений "Войну и..."».
Но ему не суждено было кончить. Из задних рядов, усиленно работая локтями, выкатилась маленькая, толстенькая дама. Она подбежала к Толстому, схватила его руку и начала с силой ее трясти. «Лев Николаевич, наш дорогой, обожаемый. Ах, как я взволнована... Я читала ваше бессмертное произведение "Отцы и дети"...»
«Детство и отрочество», «Детство и отрочество», — подсказывали ей громким шопотом сзади.
«Ах, не приставайте, пожалуйста, — отмахнулась толстушка. — Я и «Детство и отрочество» читала, конечно, но «Отцы и дети», — она сложила толстые ручки на груди и закатила глазки: — потрясающее, незабываемое впечатление»...
Мы все разразились громким хохотом. Отец едва едва сдерживался. Посетители были смущены.
2 февраля отец просил Машу записать в дневнике следующую мысль: «Огонь разрушает и греет. Также и болезнь. Когда здоровый, стараешься жить хорошо, освобождаясь от пороков, соблазнов, то это делаешь с усилием и то как бы приподнимаешь одну давящую сторону, а все остальное давит. Болезнь же сразу приподнимает всю эту грязную чешую и сразу делается легко, и так страшно думать, что, как это знаешь по опыту, как только пройдет болезнь, она опять наляжет всей своей тяжестью».
Но, даже когда он начал постепенно поправляться, мысли о смерти не покидали его. 21 марта он записал в дневнике: «Выхожу из этой жизни по воле Того, Кто мне дал ее, спокойно отдаюсь ей, зная ее только как источник высшего блага — жизни».
В середине февраля я заболела каким-то странным, но серьезным желудочным заболеванием с сильным жаром и большой слабостью- Отец теперь лежал в большой комнате с террасой наверху, я лежала рядом. Мать тосковала. Ей хотелось поехать в Москву, послушать концерты. Несмотря на то, что она самоотверженно ухаживала за отцом, делала все, что она могла, чтобы выходить его, душевная жизнь их шла врозь.
Понемногу отец начал диктовать. «Предстоят работы, — писал он в дневнике 2J марта, — 1) Добавления, 2) об истинном значении христианства, 3) к духовенству, 4) к молодежи». Он продиктовал письмо к Николаю Михайловичу о проекте
Генри Джорджа, обдумывал статью по поводу жестокого подавления крестьянского движения в Харьковской и Полтавской губерниях, писал письма.
Родные стали разъезжаться — Таня с мужем, Андрей с семьей. Софья Андреевна радовалась, что мы скоро выберемся из ненавистного ей Крыма. Я встала, опять стала понемногу помогать отцу. Стояли яркие весенние дни, отцвел миндаль, зацвели розы, магнолии. На душе было радостно, но радость эта продолжалась недолго. Отец опять почувствовал себя плохо: жар, боли в животе. Врачи поставили диагноз: брюшной тиф. Снова приехали Таня, Илья, Буланже. Снова надежда сменялась отчаянием. Казалось, что измученный организм не выдержит новой тяжелой болезни.
Брат Сергей не отходил от отца. Отец сказал матери: «Вот удивительно, никак не ожидал, что Сережа будет так чуток, так внимателен», — и голос его задрожал от слез.5
К концу второй недели опасность миновала, отец стал поправляться, появился аппетит, ему захотелось на воздух, на солнце. Сестры, Илья, Буланже уехали, остался Сережа, с которым мы за это время очень подружились. Отец постепенно возвращался к жизни, стал писать, читать журналы, принимать посетителей. Мы снова стали возить его кататься по окрестностям на лошадях, иногда с Сережей и служащим Ильей катали его в кожаном кресле по горизонтальной тропе в имении великого князя Ай-Тодор.
Один раз мы с Буланже повезли отца в коляске к морю, в Олеиз. Море было тихое, спокойное, прибои узкой белой полоской пенился у берега. На якоре стояли турецкие рыбачьи лодки. Буланже подошел к туркам и о чем-то сговаривался с ними. «Лев Николаевич, хотите покататься по морю?» — спросил он отца. Я запротестовала: отец еле ходит, и вдруг пуститься с ним в открытое море с едва говорящими по-русски, одетыми в странные одежды и фески, незнакомыми турками. Но отец обрадовался — он любил необыкновенные приключения.
Его уложили на палубе на турецком ковре, на разноцветные восточные подушки, и не успели мы оглянуться, как перед нами открылся южный берег, величественный Ай-Петри, царящий над лиловато-серой Яйлой. Гаспра с ее башнями, белый, в мавританском стиле, дворец Дюльбер, Юсуповское имение Кореиз — показались нам маленькими точечками. Нам было очень весело, но немного страшно. Когда же мы вернулись домой, то как провинившиеся дети боялись сообщить матери про наше путешествие.
Уехали мы из Гаспры в Ясную Поляну 25 июня. Я снова сильно заболела, у меня был жар, я исхудала, ослабела и не могла ходить. Но мать ни за что не хотела больше оставаться в Крыму. Сережа снес меня вниз по лестнице и всю дорогу с нежной заботливостью ходил за отцом и за мной.
В этот раз мы ехали в Севастополь пароходом. Моя мать, Сережа, Буланже старались охранить отца от любопытных, толпившихся вокруг него. Многие ялтинские жители — д-р Альтшуллер, д-р Елпатьевский — пришли его проводить; тут же на пароходе отец познакомился с писателем Куприным. В Севастополе нас ждал директорский вагон начальника Московско-Курской железной дороги.
На обратном пути снова на больших остановках собирались небольшие группы, приносили цветы, кричали ура! В Курске, где происходил учительский съезд, собрались учителя, во главе с земским деятелем, князем Петром Дм. Долгоруковым, приветствовать Толстого. Отец, да и все мы, устали от людей, от суеты, и рады были вернуться домой. В Крыму мы все пережили тяжелое
время. Казалось, в родной Ясной Поляне отец скорее поправится и заживет нормальной, спокойной жизнью.
По возвращении отец писал брату Сергею Николаевичу:
«Мы приехали третьего дня. Я доехал очень хорошо. Положение мое такое: ходить могу шагов 200 по ровному и согнувшись. Коленки и суставы в руках болят, сплю мало, но могу работать и всё понимаю и чувствую и могу сказать, что доволен... Очень мне после болезни стала близка смерть и я благодарю Бога за болезни, во время которых многое понял».
В дневнике от 1 июля 1902 г. он записал: «Моя последняя болезнь была сильная потуга рождения, но теперь дан отдых, чтобы набраться силы для следующей, чтобы она была действительна».
Отец часто говорил, что для того, чтобы хорошо писать — надо учиться писать. Он возмущался, когда шел приблизительно такой разговор: «Вы пишете что-нибудь?» — «Нет, я еще не пробовал». Отец говорил: «Как нелепо звучал бы подобный ответ на вопрос собеседника: «Вы играете на скрипке?» — «Нет, я еще не пробовал».
Одного таланта мало, нужны правдивость, обработка языка, стиля, знание обстановки, исследовательская работа. Как можно верить писателю, который описывает Пасху в лунную ночь. Или писателю, который берется писать о деревне и не знает, что мужик не будет рубить дуба для оглобель и дуг. Надо знать, что на дуги и оглобли идет только вяз.
Вернувшись из Крыма, отец снова принялся за Хаджи-Мурата. «Писал Хаджи Мурата, — записал он в дневнике от 5 августа 1902 года, — то с охотой, то с неохотой и стыдом».
Несмотря на эту запись, отец самым подробным образом изучал материалы того времени: обычаи, нравы, одежду, религию чеченцев; личность наместника Воронцова и его окружение. Особое внимание отец уделил государю Николаю I.
Стасов присылал ему материалы из Петербургской Публичной Библиотеки, отец обращался к вел. князю Николаю Михайловичу с просьбой отыскать переписку Николая I с наместником Кавказа, князем Воронцовым в томе X актов Кавказской Военной Комиссии; обращался он к Александре Андреевне, от которой получил подробную характеристику, описание детства государя и отношения к нему его бабки, императрицы Екатерины II. Конец 1902 года и весь 1903 год, хотя и с перерывами, Толстой с юношеским увлечением работал над «Хаджи Муратом».
В то же время он исправлял повесть «Фальшивый купон», статью «Обращение к духовенству», свои детские воспоминания для биографии Бирюкова и легенду «Разрушение ада и восстановление его». Легенда эта, сущность которой моя мать не поняла, глубоко возмутила ее.
«Это сочинение, — записала она в дневнике, — пропитано истинно дьявольским духом отрицания, злобы, глумления надо всем на свете, начиная с церкви»... «А дети — Саша, еще неразумная, и Маша, мне чуждая — вторили адским смехом злорадствующему смеху их отца, когда он кончил читать свою чертовскую легенду, а мне хотелось рыдать. Стоило оставаться жить для такой работы! Дай Бог, чтобы не она была последняя; дай Бог смягчиться его сердцу!»1
Осенью 1902 года моя мать, собираясь переиздавать все сочинения отца, на издание которых она должна была вложить 50000 рублей, потребовала у отца,
чтобы ей вернули переписанное Машей и подписанное отцом завещание. После бурной сцены, от которой у отца снова начались сердечные перебои, отец, как всегда, уступил просьбе матери.
Коля Оболенский писал Черткову:
«...Существование этого завещания с его подписью заставило бы призадуматься тех из его наследников, кто захотел бы пользоваться его сочинениями... после смерти Льва Николаевича можно было бы прекратить нарекания на его память и упреки в том, что вот он говорит одно, а сделал другое. Т. е. можно бы было показать, что он желал сделать и что сделали его наследники, несмотря на то, что — «продажи его сочинений были для него последние десять лет самым тяжелым во всей его жизни». Я говорю «наследники», но в сущности говорю про одну Софью Андреевну, у которой нет ни стыда, ни совести; остальных не имею права никого включать сюда, ибо не знаю их мнений, кроме Сережи, Тани, Саши и Маши... На днях Софья Андреевна пришла к Льву Николаевичу и сказала, что просит взять эту бумагу у Маши и отдать ей, потому что она имеет к Маше злобные чувства, и тогда это пройдет. Лев Николаевич не решился противиться ей и взял эту бумагу и отдал ей. Я пробовал говорить об этом с Софьей Андреевной, но разумеется ни до чего не договорился... Одно, что она мне ясно сказала: «Я теперь затратила 50000 рублей на новое издание, и если папа умрет и бумага эта будет обнародована, то я не верну своих денег, и потому я эту бумагу взяла и никому не отдам». Когда я пробовал сказать ей, что все-таки ее нельзя стереть с лица земли, так как в дневниках она есть, то она беззастенчиво ответила, что «дневники в музее, ключ у нее, и она их положит туда на пятьдесят лет вместе со своими».
Маша с Колей жили в то время в «Кузминском» доме.
«Она убьет отца... Саша, — говорила Маша, в волнении бегая по комнате, —
если я умру, ты должна обнародовать всю правду, ты должна знать, что отец по воле матери вычеркнул все, что он писал о ней в дневнике, ты должна запомнить содержание его завещания ...» Она вдруг остановилась и серые отцовские глубокие глаза впились в меня — мне стало страшно. «Очень уж ты молода... но я все-таки скажу тебе секрет... ты должна знать это... мать пишет дневники post factum no отцовским дневникам, чтобы оправдаться ...»
Врачи настаивали, что отцу необходимо жить в верхнем этаже — «больше солнца, суше». Они не вникали в семейные обстоятельства, и это была их ошибка. Они не учли, что спальня, в которую перешел отец, была отделена только площадкой от спальни матери. После крымской болезни отец расстался со своим тихим кабинетом «под сводами» и перешел в две верхние юго-западные комнаты наверху. Моя мать то и дело заходила к нему, и он потерял свой покой.
Из итальянской стеклянной двери был ход на открытый балкон с видом в парк, на дальние поля, железную дорогу. Всю мебель из его кабинета перенесли наверх — семейный кожаный диван, сделанные домашним столяром кресла с деревянными переплетами спинок, семейные портреты. Раньше здесь была детская и почему-то не сняли со стены две нарушавшие характер кабинета гравюры ангелов Рафаэля. Из кабинета одна дверь вела в спальню, где стояла узкая кровать, тумбочка, деревянный умывальник с тазом и кувшином с водой, помойное ведро, которое он, когда был в силах, сам выносил во двор. Другая дверь вела в гостиную и залу.
Как-то вечером (11 сентября 1902 г.) мы все сидели в зале. На столе, уже остывая, затихал самовар, постепенно расходились спать. Но откуда-то доносился запах гари. Никто не придал этому значения — мало ли откуда могло пахнуть дымом. Но Софья Андреевна не успокоилась. Небольшая дверь с площадки лестницы, рядом с залой, вела на чердак. Здесь, под лестницей, моя мать обычно проявляла фотографии. Когда она открыла дверь, на нее полыхнуло густое облако дыма, заполнившее комнаты.
Что было духа помчалась я на скотный двор, разбудила управляющего и рабочих. На усадьбе не было ни пожарных шлангов, ни водопровода. Воду черпали из колодца и ведрами подавали по вытянувшимся цепью людям на чердак. Пожар потушили.
Оказалось, что вывалились кирпичи из трубы калориферной печки и, как раз над спальней отца, почти до конца истлели толстенные, дубовые балки. Не заметь моя мать вовремя пожара, балки бы прогорели и потолок рухнул бы!
В дневнике от 4 ноября 1902 года отец написал: «За это время важное: суд Афанасия, арест Новикова».
Афанасий Агеев был арестован за глумление над иконами и православной верой. Его жена, простая, неграмотная баба, взятая из Ясной Поляны, равнодушная к идеям своего мужа, понимала только одно: мужа ссылали, лишая его всех имущественных прав. Уголком черного платочка, которым была повязана голова, она утирала слезы и просила отца помочь их горю. Отец хлопотал через своих петербургских друзей, но на этот раз ничего не удалось сделать. Афанасий был сослан на поселение и жена последовала за ним.
Другой крестьянин-толстовец, пострадавший за свои убеждения, Новиков, был самородок, умный, прекрасно владеющий пером, много читавший и думавший человек. Новиков выделялся в своей округе и когда, по инициативе министра финансов Витте, организовалось «Особое Совещание о нуждах крестьянства».
земский начальник предложил Новикову принять участие в Совещании. Новиков согласился и написал толковую и смелую записку о нуждах крестьянства, о необходимости образования народа и пр. По распоряжению министерства внутренних дел Новикова арестовали за вольные мысли. Отец писал Витте с просьбой содействовать освобождению Новикова, и Плеве, к которому обратился Витте, дал распоряжение выпустить Новикова из тюрьмы и сослать в Тульскую губернию, под негласный надзор полиции.
Насколько Новиков был близок отцу своей духовной силой и, главное, чуткостью, настолько вождь духоборов, Петр Веригин, вернувшийся из ссылки и собиравшийся ехать в Канаду, чтобы там присоединиться к своим единомышленникам, был в духовном смысле примитивен. Было что-то узкое, ограниченное в этом сильном и духом и телом, большом, крепком человеке. Старушка Шмидт писала про Веригина: «Очень милый и душевный человек... но Лев Николаевич сказал о нем: «Он очень хорош и сильно может влиять на людей, но еще не родившийся духом человек»2.
7 декабря отец снова заболел. Д-р Никитин, наш домашний врач, лечивший его, предполагал, что это новый приступ малярии. Но моя мать объяснила это иначе: «Мучительно преследует меня мысль, что Бог не захотел продлить его жизнь за ту легенду о дьяволах, которую он написал»3.
Опять начались дневные и ночные дежурства, вечный страх, сосредоточение всего дома на градусах, пульсе...
«Сегодня у меня нехорошее чувство сожаления о даром тратившихся силах на уход за Львом Николаевичем,4 — пишет Софья Андреевна 8 декабря. 13 декабря 1902 г. она записывает: — Сегодня в Москве второй концерт Никиша, — это была моя самая счастливая мечта быть на этих двух концертах, — и, как всегда, я лишена этого невинного удовольствия, и мне грустно и досадно на судьбу».
Но, к счастью, болезнь на этот раз не затянулась, отец быстро поправился и вернулся к своим занятиям.
8 начале апреля 1903 года с молниеносной быстротой распространилась весть о еврейских погромах в Кишиневе и вызвала неслыханное возмущение среди интеллигенции и лучших представителей аристократии. К Толстому посыпались сотни писем и телеграмм. Профессор Стороженко от группы писателей и ученых, среди которых были князь Трубецкой, князь Сумбатов-Южин, Н. В. Давыдов и многие другие, обратились к Толстому с просьбой подписать телеграмму к Кишиневскому градоначальнику, что он охотно исполнил. Целый ряд евреев писали отцу, прося его высказать свое мнение по еврейскому вопросу.
«Отношение мое к евреям не может быть иным, как отношение к братьям, которых я люблю не за то, что они евреи, а за то, что мы и они, как и все люди, сыны одного Отца Бога, и любовь эта не требует от меня усилий, так как я встречал и знаю очень хороших людей евреев», — писал Толстой одному еврею.
Одновременно Толстой ответил писателю Шолом Алейхейму (Рабиновичу), что охотно напишет что-нибудь в пользу пострадавших в Кишиневе.
18 июня 1903 года он записал: «Задумал три новые вещи: 1) Крик теперешних заблудших людей: материалистов, позитивистов, ничшеанцев, крик (Map. 1, 24): «Оставь: что Тебе до нас, Иисус Назарянин? «Ты пришел погубить нас. Знаю Тебя, кто Ты, святой Божий», (очень бы хорошо). 2) В еврейский сборник: веселый бал в Казани, влюблен в Корейшу красавицу, дочь воинского начальника — поляка, танцую с ней; ее красавец старик-отец ласково берет ее и идет мазурку.
И на утро после влюбленной бессонной ночи, звуки барабана и сквозь строй гонит татарина, и воинский начальник велит больней бить. (Очень бы хорошо). И 3) Описать себя по всей правде, какой я теперь, со всеми моими слабостями и глупостями, вперемежку с тем, что важно и хорошо в моей жизни. (Тоже хорошо бы)».
Этот рассказ «После бала» отец решил передать Шолом Алейхейму. Но, не закончив «После бала», он написал сказки «Царь Асархадон» и «Три вопроса», которые и были посланы в сборник в пользу пострадавших евреев.
28 августа отцу минуло 75 лет. Отец не выносил юбилеев. Он никогда не вспомнил бы сам 50-летие своей литературной деятельности (3 сентября 1902 г.), если бы не получил поздравительной телеграммы от членов Художественного Кружка — Чехова, Горького и др. И в этот день — 28 августа — когда ему минуло 75 лет, ему были скорее неприятны многочисленные приветствия, письма, телеграммы, подарки, посыпавшиеся со всех концов России. Собрались почти все дети и внуки. Нам хотелось быть одним в семье, но приехало много гостей «на юбилей Толстого», был торжественный парадный обед, и всё это бестолково толклось, разговаривало, ловило слова «великого человека», «писателя земли русской».* Это выражение «земли русской» употреблялось в нашей семье иронически по отношению к некоторым людям, которые к Толстому относились именно только как к писателю «земли русской», т. е. к знаменитости, К этой категории мы причисляли П. А. Сергеенко.
Бывают люди, которые, хотите вы этого или нет, необыкновенно ловко проникают в дом. Они умеют преподнести полезный, необыкновенный подарок, умеют вовремя польстить хозяйке. Смотришь — человек этот уже сделался частым гостем, завсегдатаем. А сколько таких было, и сколько сил и времени они отнимали у отца! Таков был Сергеенко. Он вечно дарил необыкновенные вещи отцу: палку с раскладывающимся сиденьем, на которое отец мог, во время прогулок, сесть, чтобы записать свои мысли, фонарик, граммофон и т. п. Сергеенко был объектом внутренней борьбы для Толстого. Что-то было отталкивающее в его вкрадчивом, мягком голосе, согнутой высокой фигуре, длинных, точно щупающих пальцах, а главное, в его лести. «Какой противный Сергеенко!» — скажешь отцу. «Противнее тебя?» — спросит он. «Да, да, гораздо противнее! Пусть я хуже, глупее... а он противнее!» Я знала, что в глубине души отец со мной соглашался.
Но были и приятные гости: старушка Шмидт и сияющий счастьем Иван Иванович Горбунов, который к рождению сделал отцу самый дорогой для него подарок: «Мысли мудрых людей», сборник, составленный отцом, который издательство «Посредник» напечатало к этому дню.
3 сентября 1903 года отец писал в дневнике: «28-е прошло тяжело. Поздравления прямо тяжелы и неприятны — неискренно «земли русской» и всякая глупость ...».
Как мало людей понимало Толстого! Одни называли его революционером, другие — консерватором, аристократом, упрекали его за «роскошь», кстати сказать, весьма относительную. С кем же в конце концов Толстой?
Он не с правительством, не с революционерами, методы которых он осуждал. Его отрицательного отношения к революционерам не понимали, хотя он совершен-
* Знаменитое Тургеневское выражение «Великий писатель русской земли» было переделано в «земли русской».
но ясно высказывался в своих статьях. Достаточно прочитать мысль, записанную им в дневнике от 20 сентября 1902 года, чтобы понять раз навсегда его отношение к социализму.
«Социалисты видят в трестах, синдикатах осуществление или движение к осуществлению социалистического идеала, т. е. что люди работают сообща, а не врозь. Но работают они сообща только под давлением насилия. Какие доказательства на то, что они так же будут работать, когда будут свободны, и какие доказательства того, что тресты и синдикаты перейдут к рабочим. Гораздо вероятнее, что тресты произведут рабство, от которого освобождаясь, рабы будут разрушать эти не ими устроенные тресты».
«Сторонники социализма это люди, имеющие в виду преимущественно городское население. Они не знают ни красоты, поэзии деревенской жизни, ни их страданий», — писал отец 20 февраля 1903 года в своем дневнике.
Хотя отец несколько раз обращался лично к царю, он вполне сознавал его слабость. В дневнике от 25 июля 1903 года он пишет: «Обращаются к царю, советуя ему сделать то-то и то-то для общего блага. И я делал это. От него ждут помощи, действий, а он сам чуть держится. Все равно, как человеку, который еле, еле руками, зубами держится за сук над пропастью советовать помочь поднять бревно на стену».
Отца осуждали правые, левые, даже собственные его единомышленники. Известный поэт-декадент Добролюбов, опростившийся и странствовавший без денег по России, писал своему учителю:
«Лев Николаевич, я хочу сказать прямо и о тебе — ради любви. Ты близок к смерти, ты всю жизнь сражался за некоторую часть веры и за телесный труд, как за неизбежный закон Божий, — пока на видимой земле, подыми еще раз меч за это, не давай повод ищущим повода, разъясни свою ошибку в отдаче именья, чего теперь не исправить, но чтоб не соблазнялись; разъясни еще свою ошибку, как ты признавал, что ты не вьппел из барского дома (этого также теперь не исправить по болезни), и разъясни лучше печатно всем (потому что ты печатаешь всё и печатал), кроме того разъясни, что ты признаешь ошибкой, когда оставлял телесный труд (и это при болезни теперь не исправить). Такое признание оградит закон телесного труда и бедности, за который ты боролся всю жизнь, оградит крепче всех суждений от осуждающих. С миром прими, Лев Николаевич, это слово, как слово друга».
«Все наши устремления, старания, порывы сердца, все призывы наших уст, все наши объятия — тщетны и тщетны... мы всегда одиноки», — писал Гюи де Мопассан в своем «Одиночестве», которое отец так высоко ставил.
Но Толстой обладал громадной, невидимой для других силой, помогавшей ему любить и огорчающих его близких, и несчастного царя, и заблудших революционеров, и обличающих его «толстовцев», и Сергеенок, и не быть «одиноким».
«Все чаще и чаще в минуты неудовольствия, сомнений, вспоминаю, что мне нужно угодить только Богу, к которому иду, а не людям. И становится очень хорошо и легко», — писал он 11 марта 1903 года.
В литературе так же, как и в других областях, отец иногда высказьшал диаметрально противоположное общепринятому, установившемуся мнению о том или ином писателе, произведении. Он не любил Гёте,
42-томные сочинения которого он все прочел, и никогда не разделял восхищения им Тургенева, в то время как Шиллер ему был очень близок.
«Читаю Гёте и вижу все вредное влияние этого ничтожного, буржуазно-эгоистического даровитого человека на то поколение, которое я застал — в особенности бедного Тургенева с его восхищением перед Фаустом (совсем плохое произведение) и Шекспиром... и, главное, с той особенной важностью, которая приписывалась разным статуям Лаокоонам, Аполлонам, и разным стихам и драмам. Сколько я помучался, когда, полюбив Тургенева, желал полюбить то, что он так высоко ставил. Из всех сил старался, и никак не мог. Какой ужасный вред авторитеты, прославленные великие люди, да еще ложные!» — записал он в своем дневнике 30 сентября 1906 г.
Слава Шекспира представлялась ему искусственной, наигранной и ему давно хотелось высказать о Шекспире то, что сидело в нем полстолетия, как он писал Стасову. Брату же Сергею Николаевичу он написал, что хочет доказать, что Шекспир «не только не писатель, но страшная фальшь и гадость».
В статье о Шекспире Толстой доказывает, что миросозерцание Шекспира «есть самое низменное, пошлое... отрицающее всякие не только религиозные, но и гуманитарные стремления». Что у Шекспира отсутствует техника, дающая внешнюю красоту искусству, «нет естественности положения», языка действующих лиц, «нет чувства меры» и третьего условия художественного произведения — «искренность совершенно отсутствует».
Кроме этой статьи, у отца на письменном столе лежали две рукописи: «Божеское и человеческое»- — рассказ из жизни бывшего революционера. 23 февраля 1904 года отец записал в дневнике: «Хочется написать продолжение Божеского и Человеческого и мне очень нравится».
В конце 1904 года вернулся из ссылки П. И. Бирюков. Он начал писать биографию отца и просил, чтобы он сам написал свое детство. Но отец, к сожалению, мало времени уделял «Воспоминаниям детства». Его захватила работа над сборником «Круг чтения», более подробным, чем «Мысли мудрых людей». Здесь на каждый день мысли распределялись по темам: о любви, о воздержании, смерти и т. п. Начиная с 1884 года, когда отец записал в дневнике о необходимости составить «Круг чтения» с мыслями Эпиктета, Марка Аврелия, Лао Цзы, других мудрецов и Евангелия, отец постоянно возвращался к этой мысли. В 1902 году, во время крымской болезни, отец начал осуществлять свою мечту. Но он не удовлетворился этим и сборник постепенно стал разрастаться в «Круг чтения», с воскресными недельными чтениями. Эту работу отец не оставлял до конца жизни и она доставляла ему громадное духовное наслаждение.
В конце 1903 и начале 1904 года отец писал повесть «Фальшивьш купон». Это была совершенно новая для отца форма, где не было центральных действующих лиц, а перед вами проходил целый калейдоскоп людей, гибнущих от внешних соблазнов и сложным путем возвращающихся к Богу. К сожалению, отец так никогда и не закончил своей повести.
Мы жили тихо в Ясной Поляне. Изредка приезжали к нам гости. Американец Вильям Дженингс Брайан с сыном приехал в Ясную Поляну. Он был очень приятен отцу. Ради него, чего никогда не бывало, отец отменил свои утренние занятия, а Брайан так увлекся своим разговором, что отменил свидание с царем. Ему была назначена аудиенция у царя в Царском Селе на следующий день и он должен был выехать из Ясной Поляны в 12 часов дня, но он послал телеграмму,
что не может приехать. Между другими темами разговор коснулся непротивления злу насилием и Брайан привел обычный пример, который употребляли всегда против Толстого. Что если злодей на ваших глазах будет истязать ребенка?
«Я прожил 75 лет на свете, — сказал Толстой, — и еще не встречал этого злодея. Но я вижу как миллионы людей, женщин, детей, гибнут и умирают из-за злодейств правительств». Брайан улыбнулся — он понял Толстого.*
Жули Игумнова, доктор Беркенгейм, заменявший д-ра Никитина, жили с нами. Отец совсем поправился, гулял по утрам, много работал, ездил верхом. Моя мать часто уезжала в Москву, где слушала музыку, занималась изданием книг. Она теперь была очень озабочена сохранением рукописей отца для будущего поколения и начала писать историю своей жизни. Намерение матери было отдать отцовские и свои дневники в Московский Исторический Музей с тем, чтобы никто не имел к ним доступа в течение 50 лет.
О войне с Японией никто не думал. Больше всех был ею потрясен отец. Несколько дней он не мог думать и говорить ни о чем другом, пока не отвел душу, написав новую статью против войны — «Одумайтесь». Статья эта, напечатанная за границей, обратила на себя внимание. Лондонский «Тайме», уделивший ей 91/2 столбцов, писал: «Это в одно и то же время исповедание веры, политический манифест, картина страданий мужика-солдата, образчик идей, бродящих в голове у
* Пересказ отрывка из работы Толстого «Предисловие к английской биографии Гаррисона»: Я сказал ему, что я признаю непротивление злу насилием потому, что, прожив 75 лет, я ни разу, кроме как в рассуждениях, не встретил того фантастического разбойника, который на моих глазах желал убить или изнасиловать ребенка, но не переставая видел и вижу не одного, а миллионы разбойников, насилующих и детей, и женщин, и взрослых, и стариков, и старух, и всех рабочих людей во имя допущенного права насилия над себе подобными. Когда я сказал это, мой милый собеседник со свойственной ему быстротой понимания, не дав мне договорить, засмеялся и признал мой аргумент удовлетворительным.
многих из этих солдат, и, наконец, любопытный и поучительный психологический этюд. В ней ярко выступает та большая пропасть, которая отделяет весь душевный строй европейца от умственного состояния великого и влиятельного славянского писателя, недостаточно полно усвоившего некоторые отрывочные фразы европейской мысли ...».
«Daily News», напротив, восторженно одобряет статью. «Когда Карлейль, — говорит газета, — толковал о бедной, немой России как о стране, никогда не производившей мирового голоса, он еще не знал, что как раз в это время среди офицерской молодежи кричал именно голос, к которому прислушиваются все. Вчера Толстой вьшустил одно из тех великих посланий к человечеству, которые возвращают нас к первым основным истинам, поражающим нас своей удивительной простотою».
На телеграфный запрос филадельфийской газеты «The North American» за кого он — за Россию или за Японию — Толстой отвечает:
«Я ни за Россию, ни за Японию, а за рабочий народ обеих стран, обманутый правительствами и вынужденный воевать против своего благополучия совести и религии».
Несмотря на этот ответ, Толстой, как бы он ни хотел быть беспристрастным, болезненно переживал каждое известие о поражении русских. Он не мог дождаться московских газет, получавшихся с почты на другой день, и ездил иногда верхом в Тулу, чтобы получить свежие известия, о ходе войны.
2 июня отец писал: «Война и набор в солдаты мучает меня». 6 июня: «Несчастные брошенные солдатки ходят. Читаю газеты, и как будто все эти битвы, освящения штандартов так тверды, что бесполезно и восставать, и иногда думаю, что напрасно, только вызывая вражду, написал я свою статью, а посмотришь на народ, на солдаток, и жалеешь, что мало и слабо написал.»
В мае отец писал Тане: «Война давит всех. Сбор запасных производит ужасное впечатление».
1 июня он писал вел. князю Николаю Михайловичу: «Я никак не думал, чтобы эта ужасная война так подействовала на меня, как она подействовала. Я не мог не высказаться об ней и послал статью за границу, которая на днях появится и, вероятно, будет очень не одобрена в высших сферах».
10 июня Толстой писал К. В. Волкову: «Война захватила вашу семью своим материальным колесом, меня же она давит духовно. Ужасаешься на то, что с таким усилием и напряжением совершается то, чего не должно, не может быть, если только человек — разумное существо».
Моя мать, между тем, дает в своем дневнике совершенно другое освещение войне: «Война эта и в нашей деревенской тишине всех волнует и интересует. Общий подъем духа и сочувствие государю — изумительные. Объясняется это тем, что нападение японцев было дерзко-неожиданное, а со стороны России не было ни у государя, ни у кого-либо желания войны. Война вынужденная».1
Из нашей семьи на войну пошел брат Андрей. Бедной Ольге не удалось остепенить своего мужа. Андрей увлекся другой замужней женщиной, оставил жену и двух малых детей, Сонечку и Илью, и, окончательно запутавшись, уехал на Дальний Восток в действующую армию. Моя мать, Илья с женой Соней, Лева и Миша ездили провожать Андрея в Тамбов, откуда отправляли его кавалерийский полк.
Оба родителя страдали от его слабостей, но любили Андрея. Мать с гордостью описывает сына в дневнике от 8 августа 1904 года:
«Выехали и ординарцы верхами, и мой Андрюша впереди всех в светло-песочной рубашке, такой же фуражке, на своей прелестной кобыле. Так все запечатлелось в моей памяти: завязанные чем-то белым ноги кобылы, прекрасная посадка на лошади Андрюши, и слова старушки: „На лошади-то как сидит ваш сынок — картина, точно у себя в кабинете"»2.
Отец тоже отметил это событие в своем дневнике: «13 июня. — Проводил Андрюшу. Удивительно, почему я люблю его. Сказать, что оттого, что искренен, правдив — неправда... Но мне легко, хорошо с ним, люблю его. Отчего?».
В этом году Толстой потерял двух с детства родственно близких ему людей. В марте скончалась бабушка Александра Андреевна Толстая — моя крестная. Незадолго до ее смерти бабушка и любимый, но так далеко отошедший от нее Лев, обменялись сердечными письмами. Бабушка была уже тяжело больна. Она благодарила отца за любовь, она была счастлива, что почувствовала в его письме «ту самую, самую искреннюю нотку, которая всегда звучала» между ними3.
«Дорогой друг Alexandrine, — писал отец 26 января 1903 года, — чем старше я становлюсь, тем мне с всё большей и большей нежностью хочется обращаться к вам... чтобы сказать, что я очень и очень люблю вас... Да, вероятно, мы уже больше в этом мире не увидимся; так Богу угодно, стало быть, это хорошо. Не думаю тоже, чтобы мы увидались там так, как мы разумеем свидание, но думаю и вполне уверен, что и в той жизни все то доброе, любовное и хорошее, которое вы дали мне в этой жизни, останется со мной, может быть, такие же крохи от меня останутся и у вас. Вообще, приближаясь к неизбежному и хорошему пределу, я чувствую, что чем определеннее мои представления о том, что будет там, тем я менее верю в них, и напротив, чем неопределеннее — тем вера в то, что жизнь не кончается здесь, а начинается новая и лучшая там, сильнее и тверже. Так что все сводится к вере в благость Божью — всё, что у Него и от Него, всё то благо. Что как я от Него исшел, родившись, так к Нему иду, умирая, и что, кроме хорошего, от этого ничего быть не может. «В руки Твои предаю дух мой». — Прощайте, милый, милый друг, братски нежно целую вас и благодарю за вашу любовь».
9 февраля 1903 г.: «Спасибо вам, дорогой друг, за ваш ответ на мое письмо. Вы сердцем почувствовали, своим отзывчивым сердцем, искренность и нежность моего чувства к вам, и так и откликнулись. И это очень радостно. — Письмо это вам передаст моя Саша. Она очень хорошая или, скорее, желающая серьезно быть хорошей. Ее смущает, немножко и меня тоже, при ее свидании с вами, ее неправославие. Не судите ни ее, ни меня строго за это. Я умышленно не влиял на нее, но невольно она по внешности подчинилась мне. Но, как вы знаете, в ее года еще религия не составляет необходимости. А ей много впереди. А когда наступит настоящая религиозная потребность, она изберет то, что ей нужно. — Впрочем, мне совестно писать вам это, как будто я не знаю вашего чуткого сердца ...»
Перечитывая в последний год своей жизни свою переписку с «бабушкой», отец говорил: «Как в темном коридоре бьшает свет из-под какой-нибудь двери, так, когда я оглядываюсь на свою долгую, темную жизнь, воспоминания об Alexandrine — всегда светлая полоса»4.
В конце августа скончался дядя Сережа Толстой. У него был рак языка и он жестоко страдал. Отец часто посещал его во время болезни и присутствовал при его смерти. Перед смертью дядя Сережа исповедался и причастился. Отец был рад этому.
26 августа отец писал в дневнике: «Сережа умер. Тихо, без сознания, выраженного сознания, что умирает. Это тайна. Нельзя сказать, хуже или лучше это. Ему было недоступно действенное религиозное чувство, может быть, я еще сам себя обманываю; кажется, что нет. Но хорошо и ему. Открылось новое, лучшее. Так же, как и мне. Дорога, важна степень просветления, а на какой она ступени в бесконечном кругу, безразлично».
В это лето мне минуло 20 лет. Я, как губка, впитывала в себя идеи отца, но они не проникали глубоко в сознание, как у сестры Маши. Во мне не было той жертвенности, аскетизма, которые были в ней до замужества. Не было во мне и цельности сестры Тани — я не мечтала о семье, хотя романы и мечты при лунном свете о каком-то необыкновенном герое и крутились в моей голове.
Отец огорчался моей некрасивости и радовался моей ловкости в спорте и неограниченной веселости и жизнерадостности. Я думала, что следую взглядам отца, потому что была вегетарианкой, одевалась просто, тратила деньги на амбулаторию для крестьян, а это как раз была благотворительность, которую он считал фальшивым добром; зимой я учила ребят в бывшей Таниной мастерской, помогала д-ру Никитину в приеме больных. Но это занятие отец быстро прекратил. «Я прошу тебя больше не ходить в амбулаторию», — сказал он. Я протестовала, мне хотелось знать, почему он на этом настаивает, — «Я прошу тебя», — сказал он. И так я никогда и не узнала, почему он не хотел, чтобы я помогала доктору: боялся ли он, что я заражусь какой-нибудь гадкой болезнью или что я буду кокетничать с доктором?..
В конце 1904 года приехал словак д-р Душан Петрович Маковицкий, друг и последователь отца, который так и остался на многие годы в Ясной Поляне. С Душаном я снова стала ходить в амбулаторию, но способы его лечения были такие странные, что интерес мой к медицине быстро пропал. Русский язык он так коверкал, разговаривая с крестьянами, что я, стоя в аптекарской, где я развешивала порошки или готовила какую-нибудь мазь, хохотала до слез.
Душан был почти святой. С утра до ночи ездил он по больным, помогал отцу и... писал. В кармане у него было множество крошечных карандашей и твердых листков бумага. И когда отец говорил, Душан, опустив правую руку в карман, записывал его слова. Выпуклые, серые глаза его упирались в одну точку, лысая, с белокуро-седыми волосами и рыжеватой с проседью бородой голова его — застывала в напряженной неподвижности... И записывание это, и святость Душана меня раздражали, и я немилосердно дразнила Душана и мешала его записям. Теперь мне стыдно это вспоминать.
В те годы я даже не сознавала, как далека я была от учения отца. По-настоящему надо было раздать имущество, а мне жалко было. Лошади, которых я так любила и знала, седла, хорошо сшитые английским портным амазонки, теннисные ракеты, коньки, лыжи — все это требовало денег, и я совсем не готова была отказаться от всего этого.
Отец писал в дневнике от 18 июня 1904 года: «Думал о себе: 1) что не обманываю ли я себя, хваля бедность... Вижу это на Саше. Жаль их, боюсь за них без коляски, чистоты, амазонки. Объяснение и оправдание одно: не люблю бедность, не могу любить ее, особенно для других, но еще больше не люблю, ненавижу, не могу не ненавидеть то, что дает богатство: собственность земли, банки, проценты. Дьявол так хитро подъехал ко мне, что я вижу ясно перед собой
все лишения бедности, а не вижу тех несправедливостей, которые избавляют от нее. Всё это спрятано, и всё это одобряется большинством».
Зимой нередко отец заезжал на каток, где я с армией крестьянских ребят — часть из них мои ученики — каталась на коньках. И я знала, что отец любовался мной, радовался, что мне весело. Характерна его запись в дневнике от 21 января 1905 года: «Слушал политические рассуждения, споры, осуждение, и вышел в другую комнату, где с гитарой пели и смеялись. И я ясно почувствовал святость веселья. Веселье, радость, это — одно из исполнений воли Бога».
Но часто я огорчала его несдержанностью с матерью, глупостью, нелюбовью к «темным». Но больше всего огорчила я его, когда, из-за собственной прихоти, желания иметь свой клочок земли, я купила соседнее имение Телятинки — 130 десятин земли. Я думала, что, передав крестьянам большую часть земли через крестьянский банк и потеряв на этом довольно крупную сумму денег, я поступила хорошо. Это опять была «благотворительность».
В дневнике 21 апреля 1905 года отец записал:
«Вчера с Бутурлиным был у Петра Осипова, и он жестко упрекал меня за то, что я говорю, а скупаю землю. Было и больно и хорошо. Почувствовал, как полезно, укрепляюще осуждение, в особенности незаслуженное, и как пагубно, расслабляюще похвалы, и особенно незаслуженные (а они все незаслуженные)».
Петр Осипов имел в виду землю, которую я купила. В крестьянстве нельзя было себе представить, чтобы дочери делали что-либо без ведома главы семейства — отца.
«Чем хуже становится человеку телесно, тем лучше ему становится духовно, — писал отец в дневнике. — И потому человеку не может быть дурно. Я долго искал сравнения, выражающего это. Сравнение самое простое: коромысло весов. Чем больше тяжесть на конце телесном, чем хуже телесно и в смысле славы людской (тоже телесное), тем выше поднимается конец духовный, тем лучше душе».
Французская большая революция провозгласила несомненные истины, но все они стали ложью, когда стали вводиться насилием.
Дневник, 22 октября 1904 г. Лев Толстой
20 декабря 1904 года газеты сообщили, что генерал Стессель сдал Порт-Артур японцам, вместе с 15 000 человек гарнизона и всеми орудиями.
Из всей нашей семьи известие это, как это ни странно, больше всех подействовало на отца. Он долго не мог успокоиться. Русский патриот, бывший военный заговорили в нем. Он сам себе признается в этом в дневнике: «Сдача Порт-Артура огорчила меня, мне больно. Это патриотизм. Я воспитан в нем и несвободен от него так же. как несвободен от эгоизма личного, от эгоизма семейного, даже аристократического, и от патриотизма. Все эти эгоизмы живут во мне, но во мне есть сознание божественного закона, и это сознание держит в узде эти эгоизмы, так что я могу не служить им. И понемногу эти эгоизмы атрофируются».
Известия с Дальнего Востока становились все более угрожающими. Японцы потопили русский флот. Третий сын тетеньки Татьяны Андреевны Кузминской, Вася, моряк-офицер, пропал без вести. Позднее мы узнали, что, продержавшись сутки в море, он был подобран японцами и попал к ним в плен.
«Вчера получилось известие о разгроме русского флота, — писал отец в .невнике 19 мая 1905 года. — Известие это почему-то особенно сильно поразило меня. Мне стало ясно, что это не могло и не может быть иначе: хоть и плохие мы христиане, но скрыть невозможно несовместимость христианскою исповедания с войной... В войне с народом нехристианским, для которого высший идеал — отечество и геройство войны, христианские народы должны быть побеждены. Если до сих пор христианские народы побеждали некультурные народы, то это происходило только от преимущества технических военных усовершенствований христианских народов. (Китай, Индия, Африканские народы, Хивинцы и среднеазиатские); но — при равной технике христианские народы неизбежно должны быть побеждены нехристианскими, как это произошло в войне России с Японией. Япония в несколько десятков лет не только сравнялась с европейскими и американскими народами, но превзошла их в технических усовершенствованиях. Этот успех японцев в технике не только войны, но и всех материальных усовершенствований, ясно показал, как дешевы эти технические усовершенствования, то, что называется культурой. Перенять их и даже дальше придумать ничего не стоит. Дорого, важно и трудно добрая жизнь, чистота, братство, любовь, то самое, чему учит христианство и чем мы пренебрегли. Это нам урок.
Я не говорю это для того, чтобы утешить себя в том, что японцы побили нас. Стыд и позор остаются те же. Но только они не в том, что мы побиты японцами, а в том, что мы взялись делать дело, которое не умеем делать хорошо и которое само по себе дурно».
Отец никак не мог успокоиться. Поражение русского войска имело для него глубокое значение — перед ним уже тогда раскрылась бездна, в которую устремлялась не только Россия, но и все увлеченное материалистическими благами человечество.
«Это разгром не русского войска и флота, не русского государства, — писал он в дневнике 18 июня 1905 года, — но разгром всей лже-христианской цивилизации. Чувствую, сознаю и понимаю это с величайшей ясностью. Как бы хорошо было суметь ясно и сильно выразить это. — Разгром этот начался давно: в борьбе денежной, в борьбе успеха в так называемой научной и художественной деятельности, в которой евреи, не христиане, побили всех христиан во всех государствах и вызвали к себе всеобщую зависть и ненависть. Теперь это самое сделали в военном деле, в деле грубой силы японцы...»
Революционеры не дремали. Почва для революционеров была чрезвычайно благодарная: поражение русского войска, недовольство рабочих, зажим правительства, малоземелие крестьян. В январе распространился слух, что во время Крещенского крестного хода на Иордань, перед Зимним дворцом, было покушение на Государя, и что снарядом был убит городовой.
9 января 1905 года, под предводительством священника Талона, 15-тысячная толпа рабочих двинулась с петицией к Зимнему дворцу. Их не допускали туда и разгоняли полиция и гвардейские полки. Были убитые и раненые.
В январе брат Лев получил аудиенцию у Государя и беседовал с ним l1/2 часа. Я в это время ездила в Петербург к брату Льву. Я очень была привязана к его милой жене шведке и его детям. Лёва рассказал мне про свое свидание с Государем. Об этом я писала отцу из Петербурга:
«Царь сказал ему Льву, что доволен, что принял депутацию рабочих, с которыми поплакал, что Земский Собор нужно созвать, но не теперь, пока еще война продолжается... Лёва говорил ему о вегетарианстве, о вине, о табаке и обещал прислать свое сочинение о гигиеническом образе жизни» .
«Все: Лева, Стахович и так далее — учат, учат — сказал отец Маковицкому, — а сами не умеют своих дел вести, не умеют самовар поставить, жить»2.
Приехав 1 февраля 1905 года из Москвы, моя мать рассказывала, что ей говорили, будто царь сказал Льву Львовичу на аудиенции: «Ваш отец — великий человек, но вместе с тем фантазер, например, о земле»3. Она сообщила также, что генерал-губернатору телеграфировали из Петербурга», что войсками было убито на улицах 3.000 человек (из 65.000 стачечников) . Слухи эти распространялись и преувеличивались самими революционерами. На самом деле в Петербурге пострадало, повидимому, несколько сот человек.
В феврале был убит бомбой в Москве великий князь Сергей Александрович. Я была в то время в Москве и, вернувшись, сообщила отцу эту новость. Отец был возмущен, громко ахал и резко осуждал революционеров-террористов.
«Революция теперь никак не может повторить того, что было 100 лет назад, — писал он. — Революции 30, 48 годов не удались, потому что у них не было идеалов, и они вдохновлялись остатками большой революции. Теперь те, которые делают русскую революцию, не имеют никаких: экономические идеалы — не идеалы».
Отец не верил, что с введением конституции что-либо изменится в России. Умеренные либералы — Стаховичи, Василий Маклаков, князья Долгоруковы — приезжавшие к Толстому, были ему тяжелы, потому что не понимали его равнодушия к их усилиям, направленным к введению конституции в России.
«Несомненный прогресс человечества один, — говорил он, — в области духовной, в самосовершенствовании каждого отдельного человека. И человек может совершенствовать только себя одного, а не других людей государственными
реформами... Количество причин, влияющих на движение человечества, огромно, и эти причины очень сложны, так что ничего нельзя предсказать, и смешно приписывать известной внешней реформе важное влияние на движение человечества».5
Особенно тяжелы были отцу споры с Сергеем. Они не понимали друг друга. Сергей был «либералом», кадетом. Он был равнодушен к вопросам религиозным и считал, что самое важное — добиться в России конституции и свобод. Отец же считал, что только истинное христианство, самосовершенствование каждого человека может улучшить жизнь людей.
«Конституционный подданный, воображающий, что он свободен, — писал Толстой, — подобен заключенному, воображающему, что он свободен, потому что может выбирать тюремщика. Люди конституционных государств утратили понятие свободы. Человек, живущий в деспотическом государстве — Турции, России, может быть более или менее свободен, хотя и подвержен насилиям власти, которую он не устанавливал, но член конституционных государств, всегда признавая законность власти, под которой находится, всегда раб».
Смолоду у Толстого была нелюбовь к интеллигентам-либералам. При полном незнании, по его мнению, сердцевины России — крестьянского народа и религиозных основ, которые составляли суть этого народа, эти люди были самоуверенны до предела. Отношение его к либералам ярко выражено в его дневнике 23 декабря 1905 года:
«Теперь, во время революции, ясно обозначились три сорта людей с своими качествами и недостатками. 1) Консерваторы, люди, желающие спокойствия и продолжения приятной им жизни и не желающие никаких перемен. Недостаток этих людей — эгоизм, качество — скромность, смирение. Вторые — революционеры — хотят изменения и берут на себя дерзость решать, какое нужно изменение, и не боящиеся насилия для приведения своих изменений в исполнение, а также и своих лишений и страданий. Недостаток этих людей — дерзость и жестокость, качество — энергия и готовность пострадать для достижения цели, которая представляется им благою. Третьи — либералы — не имеют ни смирения консерваторов, ни готовности жертвы революционеров, а имеют эгоизм, желание спокойствия первых и самоуверенность вторых».
Отец считал, что простой народ неизмеримо выше и мудрее интеллигенции, которая бралась учить его и устраивать его жизнь. 31 июля 1905 г. отец записал: «Интеллигенция внесла в жизнь народа в сто раз больше зла, чем добра».
С беспокойством отец следил за растущим революционным настроением в народе. Всё чаще и чаще отец сталкивался с людьми, отрицающими Бога, материалистами, революционерами, и разговоры с этими людьми всегда расстраивали его,
«Нынче был еврей, — записал он в дневнике 9 сентября 1905 года, — корреспондент «Руси». В конце разговора, вследствие моего несогласия с ним, он сказал: «Этак вы и убийство Плеве признаете нехорошим». Я сказал ему: «Жалею, что говорил с вами», и с раздражением ушел, т. е. поступил очень дурно».
Становилось все тревожнее и тревожнее... Стачки, студенческие беспорядки. Отец получал все большее количество обличительных писем с требованием раздать землю, которою он не владел, крестьянам.
«У тебя, говорят, есть земля, даже много земли; — отдай же ее тем, которые своим потом удобряют ее, — писал ему один крестьянин. — Начни, сделай то, о чем
проповедуешь, великий старче! Твоему примеру последуют и другие. Прими истинное почтение и уважение от крестьянина Григория Чечуги».
23 сентября 1905 г. — «Кончил «Конец века»... Сейчас — утро — письмо от интеллигентного сына крестьянина с ядовитым упреком, под видом похвалы «Великому Греху», что я сам не отдаю свою землю. Ужасно стало обидно. И оказалось на пользу. Понял, что я забыл то, что живу не для доброго мнения этого корреспондента, а перед Богом. И стало легко и даже очень. Да, никогда не забывать всю серьезность жизни».
14 сентября 1905 года отец написал письмо вел. князю Николаю Михайловичу, с которым он иногда переписывался:
«...В наших отношениях есть что-то ненатуральное и не лучше ли нам прекратить их. Вы — великий князь, богач, близкий родственник государя; я — человек, отрицающий и осуждающий весь существующий порядок и власть и прямо заявляющий об этом. И что-то есть для меня в отношениях с вами неловкое от этого противоречия, которое мы как будто умышленно обходим. Спешу прибавить, что вы всегда были особенно любезны ко мне и что я только могу быть благодарен вам. Но все-таки что-то ненатуральное, а мне на старости лет всегда особенно тяжело быть не простым. Итак, позвольте мне поблагодарить вас за вашу доброту ко мне и на прощание дружески пожать вашу руку».*
Великий князь ответил отцу 1 октября из Петербурга:
«...Я вполне подчиняюсь вашему решению, но с глубокой болью в душе, потому что люблю вас всем моим сердцем и буду просить вас хоть изредка обращаться к вашей духовной помощи в наше безотрадное время. Вы вполне правы, что есть что-то недоговоренное между нами, но смею вас уверить, что, несмотря на родственные узы, я гораздо ближе к вам, чем к ним. Именно чувство деликатности вследствие моего родства заставляет меня молчать по поводу «существующего порядка и власти», и это молчание еще тяжелее, так как все язвы режима мне очевидны и исцеление оных я вижу только в коренном переломе всего существующего. Еще жив мой престарелый батюшка, и из уважения к его личности я должен быть осторожным, чтобы не огорчить своими действиями и суждениями старика. Не сомневаюсь, что вы поймете эти чувства сына к отцу. Итак, до свидания, милейший Лев Николаевич, говорю до свидания, а не прощайте, потому последнее выражение для меня слишком тяжело. Так же крепко жму вашу руку и прошу не изменять ваших чувств ко мне, которые ценю особенно нервно. От всей души обнимаю вас мысленно. Да хранит вас Господь! — Сердечно любящий вас Николай Михайлович»6.
Ровно через месяц отец записал 23 октября 1905 года:
«Революция в полном разгаре. Убивают с обеих сторон. Выступил новый неожиданный и отсутствующий в прежних европейских революциях элемент — «черной сотни», «патриотов»: в сущности, людей, грубо, неправильно, противоречиво представляющих народ, его требование не употреблять насилие. Противоречие в том, как всегда, что люди насилием хотят прекратить, обуздать насилие. — Вообще легкомыслие людей, творящих эту революцию, удивительно и отвратительно: ребячество без детской невинности».
* Два года спустя отец написал вел. князю: «28 февраля 1908 года. ... Мне теперь совестно вспоминать о моем письме 1905 года. Теперь я бы не написал этого. Вы не можете представить, как изменяется жизнь, приближаясь к старости, т. е. к смерти... Теперь же мне дороже всего любовное общение со всеми людьми, безразлично кто они, цари или нищие...»
Манифест, изданный царем 17 октября, в котором народу была дана конституция, свобода слова, печати, собраний, вызвал сначала бурные манифестации сочувствия и восторга в больших городах, но волнения не утихали. Рассказывали, что в Москве дошло до вооруженных стычек между полицией и революционерами, на улицах строили баррикады, друг друга убивают.
Почта, газеты не приходили. Забастовали железные дороги. На станции Козловка застряли поезда, растерянные, голодные пассажиры бродили по окрестным деревням, ища провизии.
Мы питались слухами, всегда преувеличенными, когда они передаются из уст в уста. Среди рабочих, с которыми приходилось встречаться, даже среди некоторых крестьян, была заметна перемена — пропала почтительность, уважение к старшим, появилась некоторая развязность, самоуверенность в тоне.
«Повесят нас революционеры на первой березе», — думала я. Брат Миша, который ожидал третьего ребенка в декабре, никак не мог добраться до Москвы, где была его семья. Наконец, ему удалось нанять лошадей. Проехав полдороги, он позвонил приятелю, спрашивая его о здоровье жены.
— Благополучно, дуплет! — ответил приятель. Под звуки выстрелов, в самый разгар революции, родилась двойня: мальчик и девочка.
27 апреля 1906 года открылась первая Государственная Дума, председателем которой был избран С. А. Муромцев. Из близких нам людей в члены Государственной Думы были избраны С. Сухотин, А. Стахович.
Но по всей России чувствовалось тревожное настроение. Репрессии со стороны правительства продолжались, ждали разгона Думы (она была распущена 9 июля 1906 года). В городах шли забастовки, в крестьянском народе развязались языки, рассказывали о тех безобразиях, которые творились на войне, ругали генералов и хотели одного — больше земли; одни надеялись на царя, другие на Думу.
Отец послал Черткову свою брошюру «Правительство, революционеры и народ», для напечатания в Англии, но Чертков задержал ее, прося отца смягчить резкие суждения о революционерах. Статья эта была напечатана несколько позднее и с очень малыми изменениями в подпольном издательстве толстовца Фельтена, в «Обновлении».
Отец как раз в это время был под впечатлением брошюры славянофила Хомякова, которую он назвал «прекрасной». Россия должна идти своим путем. Путь западных народов был бы для славянских народов гибелью. 3 июля 1906 года он пишет в дневнике:
«Если русский народ — нецивилизованные варвары, то у нас есть будущность. Западные же народы — цивилизованные варвары, и им уже нечего ждать. Нам подражать западным народам всё равно, как здоровому, работящему, неиспорченному малому завидовать парижскому плешивому молодому богачу, сидящему в своем отеле. Ah, que je m'embete! (Ax, до чего мне скучно!) Не завидовать и подражать, а жалеть».
Мысль Толстого, выраженная им в дневнике от 9 марта 1906 года, не только дополняет этот взгляд на тщету устройства внешних форм свободы без внутреннего духовного роста человечества, но звучит как предсказание.
«Как ярко выразилось на революционерах, когда они начали захватывать власть, обычное развращающее действие власти: самомнение, гордость, тщеславие и, главное, неуважение к человеку (курсив мой. — А. Т.). Хуже прежних, потому что внове».
Бывали дни, когда отец ничем иным не занимался, кроме «Круга чтения». Систематическое распределение религиозно-философского учения по дням, неделям и месяцам составляло громадную работу. Отец бесконечное число раз переправлял, пересортировывал изречения, переводя некоторые сложные мысли французских, немецких, английских и американских мыслителей и излагал их более простым языком. Работа была кропотливая. На большом столе в «ремингтонной», иногда в зале, раскладывались все эти материалы по папкам, рассортировывались по дням. Маша, Жули, толстовец Хрисанф Абрикосов, часто и подолгу гостивший в Ясной Поляне, помогали.
Одновременно с этой работой, у отца возникла мысль написать «Катехизис для детей», который дал бы религиозно-нравственные устои детям.
Как-то Марья Александровна рассказала, как она один раз спросила мальчика подпаска: — «Где Бог?» — «На нёбушке» — ответил мальчик. — «Нет, в душах наших» — поправила его старушка Шмидт. — «Больно Он-то в нас нуждается», — возразил ей подпасок1. Отец очень смеялся, но рассказ этот его еще больше убедил в необходимости составления «Круга чтения» для детей.
Когда Таня с мужем уезжали за границу, в Ясной Поляне подолгу гостила дочь Сухотина, Наташа, двумя годами старше меня, со своим братом Дориком, мальчиком лет 9. Отец занимался с Дориком каждый день. Вместе они читали Евангелие, отец объяснял его содержание мальчику и они беседовали на религиозно-нравственные темы. Позднее к Дорику присоединились несколько человек Яснополянских ребят из деревни. Мысль о составлении Закона Божия для детей, систематизированного по дням, все больше и больше захватывала отца, и постепенно зародился новый «Детский круг чтения».
Благодаря «Кругу чтения» для взрослых, в который отец решил включить воскресные недельные чтения, отец еще в 1905 году и в начале 1906 года написал несколько художественных рассказов: «Корней Васильев» и «Алеша Горшок», особенно яркие по своей художественной силе, — из крестьянской жизни, «За что?» из истории польского восстания, и рассказ «Ягоды».
Кроме этих рассказов, отец неожиданно увлекся историей старца Федора Кузмича, который, по преданиям и по убеждениям некоторых историков, в том числе великого князя Николая Михайловича, был покинувший престол император Александр I.
«Федор Кузмич все больше и больше захватывает», — писал отец в дневнике 12 октября 1905 года. К сожалению, отец не закончил рассказа. Осенью 1907 года он писал великому князю:
«Пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Кузмича, легенда остается во всей своей красоте и истинности. Я начал было писать на эту тему, но едва ли не только кончу, но едва ли удосужусь продолжать. Некогда, надо укладываться к предстоящему переходу. А очень жалею. Прелестный образ».
Переписывать рукописи отца — было любимым моим занятием, особенно когда он писал художественное. Я могла сидеть ночи напролет, когда у него была спешная работа. Если отец требовал, чтобы я шла спать, я ложилась в постель одетая и делала вид, что сплю, когда он приходил меня проверять, а как только он уходил к себе в кабинет, я снова садилась за свой Ремингтон и печатала всю ночь. Я испытывала острую ревность ко всем, кто хотел меня заменить. Я ревновала к Абрикосову, к Коле Оболенскому, Жули, ко всем, за исключением Маши, кто
помогал отцу. Я научилась разбирать его почерк и иногда читала то, что он сам не мог разобрать, и я самоуверенно (как поручик Иванов) считала, что никто не может лучше меня угодить отцу. Когда утром я приносила ему чисто переписанные листы с двойными строчками и большими полями, чтобы он мог снова поправлять свою работу, и отец ласково улыбался и благодарил меня — я была в полном восторге. Особенно я ревновала к Жули. Она была много старше меня и в ее обращении со мной звучала вполне естественная покровительственно-насмешливая нотка. В такие минуты меня раздражали и ее низкий голос, и стриженные, гладкие волосы, ее плоские шуточки и бесконечные разговоры с Колей Оболенским о политике, которые Жули обычно вела растянувшись в зале на кушетке. Я ревновала даже отцовскую собаку Белку, чудесную белую лайку, которую Жули приучила ходить с ней гулять и которая перестала сопровождать отца на его прогулки...
Но Жули была милым и очень полезным в нашем доме человеком, всегда готовым помочь там, где нужно было. Жули имела привычку к словам добавлять то же слово с приставкой буквы «м»: собака — мобака, кошка — мошка, и т. д. Поэтому мы прозвали ее Жули-Мули. Иногда Жули-Мули преодолевала свою лень, вспоминала, что она художница и писала очень недурные этюды с отца верхом на лошади.
У отца в записной книжечке есть характеристика близких ему людей, между прочим и характеристика Жули-Мули.
«У каждого человека есть высшее для него миросозерцание, то, во имя чего он живет. И он воспринимает только то, что согласно с этим миросозерцанием, нужно для него (для миросозерцания), остальное проскальзывает, не оставляя следа. Так, миросозерцание Сони — жизнь в высшем свете с романом. Миросозерцание Сережи — европейская жизнь. Андрюши — барина. Лев — личное сочинителя гениального. Потом есть смешанные.
Кузминский — государственного человека высшего общества.
Давыдов — чиновника и весельчака.
Таня — Христианина и эпикурейца изящное.
Михаил Сергеевич — Дворянина честного и остроумника.
Юлия Ивановна — Эпикурейца и честное, правдивое.
Илья — Эпикурейца молодца».
Обе сестры, и Таня и Маша, очень любили и ценили Жули.
Осенью 1905 года у нас жила Таня. После нескольких неудачных беременностей, Таня лечилась у одного швейцарского профессора, который, как мы шутя говорили, посадил ее на «макаронную» диету, состоявшую исключительно из мучной и молочной пищи. Она перешагнула уже через роковой 7-й месяц, когда обычно в ней умирал ребенок, и донашивала ребенка последние дни. Вся семья наша с волнением ждала этого события. 22 ноября Таня неожиданно легко и быстро родила девочку. «Великое событие, — записал отец в дневнике, — Таня родила».
Но что это была за девочка! Маленькая, сморщенная, сине-красная... Дедушка потребовал, чтобы девочку назвали Татьяной, и само собой вышло как-то так, что она стала называться Татьяной Татьяновной — по матери, а не Михайловной, по отцу.
Зимой Таня с девочкой остались в Ясной Поляне, а не переносивший из-за больного сердца русскую стужу Сухотин и Оболенские решили ехать за границу. На семейном совете решено было, что для расширения моего кругозора и образования мне надо было ехать с ними.
Но заграница не дала мне того, чего мне хотелось. Правда, что я добросовестно, вместе с американскими и английскими туристами, с Бедекером в руках, бегала по всем музеям Парижа и Италии, осматривала все достопримечательности, но я была одна. Маша плохо себя чувствовала, Коля был слишком ленив, чтобы со мной ходить, а Сухотин десять раз уже все видел и ему было неинтересно «расширять мой кругозор».
Я рада была вернуться к отцу, к своей работе, к лошадям, собакам.
Летом 1906 года из Японии приехал к отцу знаменитый японский писатель Кенджиро Токутоми, редактор журнала «Independent» человек либеральный, увлекавшийся взглядами отца и вместе со своей самоотверженной, умной и преданной женой поселившийся около Токио на земле, где он сам обрабатывал свой огород.*
Мне лично пришлось убедиться, что Токутоми не принадлежал к тем толстовцам, которые не умели держать вилы в руках и не могли отличить ржи от пшеницы. Работать он умел.
Партия в теннис была в полном разгаре, когда отец подошел ко мне и сказал, что Маша, жена нашего повара, беременная на сносях, одна убирает в Чапыже сено для своей коровы.
Не без некоторого сожаления, и вместе с тем радуясь, как всегда, что я исполняю то, чего хотел отец, я бросила ракетку и пошла. Ко мне примкнули другие, между ними японец. Токутоми в белой, широкополой шляпе, белом
* В 1930 году, когда я жила в Японии, до приезда в Америку, я познакомилась с вдовой Токутоми-сан и посетила их деревенский дом, где она продолжала жить около его могилы в очень простой обстановке.
кимоно, был необыкновенно живописен. Когда он начал работать, мы едва поспевали за ним, такие у него были быстрые, ловкие и привычные движения. Не успели мы оглянуться, как все сено было убрано.
Кроме рождения Татьяны Татьяновны, за последнее время произошло много семейных событий.
Маня, первая жена Сергея, которая ушла от него, умерла несколько лет назад от чахотки. Единственный сын от этого брака, Сережа, воспитывался у деда Рачинского. Совершенно неожиданно для всех нас Сережа женился во второй раз на племяннице графа Олсуфьева, некрасивой, но очень милой девушке, немного моложе Тани, графине Марии Зубовой, которую мы все давно знали. Сережа и Маша подходили друг к другу и по возрасту и по интересам, и мы все надеялись, что на этот раз он будет счастлив, что и оправдалось.
В это же лето правительство разрешило Черткову ненадолго приехать в Россию повидать старушку мать.
Отец записал в дневнике 30 июля 1906 года: «Здесь Чертков и мне очень приятно. Решили отдать с изменениями «Правительство, революционеры и народ».
Никогда, кажется, не встречала я человека, у которого лицо менялось бы так сильно, как у В. Г. Черткова. Порой, это был воспитанный, светский человек, с необыкновенно привлекательной улыбкой, заразительным смехом, веселый и ласковый. В эти минуты даже моя мать, которая очень редко смеялась, беззвучно тряслась от смеха, слушая его анекдоты и шутки. Но если кто-нибудь спорил с ним, не соглашался, глубокие складки бороздили лоб, неприятно морщился породистый, горбатый нос, гневом сверкали большие серые глаза и все лицо принимало злобное выражение. Он не терпел возражений. Светскость и юмор, упрямство и деспотизм, смелость взглядов и узость, нетерпимость сектанта, — все это сочеталось в этом человеке.
Чертков был необычайно весел и дружелюбно настроен в этот свой приезд, и для отца пребывание его было большой радостью.
«За это время приезжал Чертков, — писал отец 24 августа 1906 года в дневнике. — Я ездил с ним к Маше. Чертков очень был приятен, но боюсь, что много от того, что он очень высоко ценит меня... Хотел написать, что Маша мне очень мила, да все читают мои дневники...»
Отношения отца и матери в это лето снова обострились по следующей причине: несколько человек крестьян были привлечены моей матерью к суду за порубки и их должны бьыи посадить в тюрьму. Мы все умоляли мать простить их. Отец был в ужасном состоянии, он буквально стонал от внутренней боли. И снова во всей силе стал перед ним вопрос об уходе. Он чувствовал, что не имеет нравственного права жить в Ясной Поляне, где совершаются как бы его именем такие поступки.
«Очень мне тяжело от стыда моей жизни. И что делать, не знаю», — писал он 29 мая 1906 года.
Молодой толстовец Лебрен, которого отец очень любил, и который жил у нас и помогал отцу, писал в своих воспоминаниях:
«... Мы с М. А. Шмидт ходили как-то после завтрака по дорожке между двух тесных рядов вековых лип. Рядом большое общество играло в теннис. Вдруг из кустов к нам подошел Лев Николаевич. Меня сразу поразило выражение страдания на его лице, как у тяжело больного. — «Ужасно, нестерпимо! — тихо сказал он, наклоняясь к нам. — «Прежде, когда народ не замечал этого, еще можно
было терпеть. Но теперь, когда всем это режет глаза, эта жизнь невыносима! Надо уйти; это выше моих сил...» Голос его дрогнул, и он, быстро отвернувшись, пошел продолжать свою одинокую прогулку.
Вечером того же дня, когда я вошел в кабинет, Лев Николаевич в сумерках сидел один у стенки вдали от стола, глубоко задумавшись. Я хотел было пройти мимо, взять для записи последние письма, но Лев Николаевич, резко махнув рукой, точно отгоняя от себя навязчивую мысль, с жаром заговорил:
— Для меня так ясно, что, куда бы я ни уехал, через два дня там же рядом опять появится Софья Андреевна с лакеями, докторами, и все пойдет по-старому!»
Возможно, что отец и ушел бы тогда из Ясной Поляны, но к концу лета моя мать стала серьезно прихварывать. Она жаловалась на боли и тяжесть внизу живота. Профессор по женским болезням Снегирев нашел фиброму в матке и советовал матери немедленно оперироваться. Но моя мать боялась, откладывала, и дотянула до тех пор, пока у нее не сделались острые боли в животе. Нельзя было думать о том, чтобы перевезти ее в госпиталь. Решили делать операцию в Ясной Поляне. Но когда приехал Снегирев с ассистентами, хирургическим столом и инструментами, — матери сделалось лучше. Операцию отложили. Но боли повторились с страшной силой, температура дошла до 40°, началось местное воспаление брюшины и надо было, не откладывая, делать операцию.
Какие иногда чудодейственные перемены совершаются в человеке перед лицом смерти! Чем острее становились страдания матери, чем ближе она приближалась к смерти, тем выше поднималась она духовно. Когда входил отец, она старалась не стонать. Возьмет его руку, поцелует: «Лёвочка, прости, — повторяла она. — Прости меня».
Я и не подозревала, что так люблю ее. «Сашенька, милая, спасибо», — скажет она, когда что-нибудь для нее сделаешь. И я готова была распластаться, чтобы помочь ей, спасти ее. Я смотрела в громадные, прекрасные, полные страдания беспомощные глаза ее, и вся моя нелюбовь, порою даже ненависть, которые иногда разъедали мою душу, казались далеким кошмаром... Как я могла...
Моя мать потребовала священника и отец был рад этому. «Соня пожелала священника, — 2 сентября 1906 года записал он в дневнике, — и я не только согласился, но охотно содействовал. Есть люди, которым недоступно отвлеченное, чисто духовное отношение к Началу жизни. Им нужна форма грубая. Но за этой формой то же духовное. И хорошо, что оно есть, хотя и в грубой форме».
Отец становился всё более и более веротерпим, и молитва ему нужна была, хотя и в другой форме, чем матери. «Иногда молюсь... — писал он 24 августа 1906 года, — в неурочное время самым простым образом, говорю: Господи помилуй, крещуюсь рукой, молюсь не мыслью, а одним чувством сознания своей зависимости от Бога. Советовать никому не стану, но для меня это хорошо. Сейчас так вздохнул молитвенно».
Во время операции отец ушел в Чапыж. Когда мы с Ильей нашли его и сказали, что операция кончилась благополучно, он не выразил радости, наоборот, глубокое страдание было у него на лице. Он не пошел с нами — ему хотелось остаться одному.
Что он испытывал? В дневнике он кратко записал:
«Нынче Соне сделали операцию. Говорят, что удачно. А очень тяжело. Утром она была очень духовно хороша. Как умиротворяет смерть!» «Соня открывается нам, умирая», — писал он.
Вот это «открывание» было ему дороже, гораздо дороже ее телесной жизни. Хорошо ли сделали, что допустили вмешательство врачей, нарушили естественный ход болезни, нарушили волю Бога?..
Мать стала поправляться очень быстро. Физические силы ее возвращались и постепенно заслонялся житейским тот свет, который так ярко озарил нашу жизнь.
Опять все вошло в норму. Работали над «Кругом чтения», и приезжали люди, со всех концов света приходили письма: одни интересные, глубокие, другие глупые, как отец называл их, просительные, ругательные от революционеров — Великанова-безволосого (у него не было ни единого волоска на всем черепе, даже бровей и ресниц). Эти письма были тяжелы ему; «Трудно вам удержаться от наседания на вас черносотенной копоти, живучи в гнезде семьи, как ваша, — писал Великанов. — Как мелко и нагло и пошло издевались Александра Львовна, ваша дочь и ваш зять над Спиридоновой!...* Впрочем, ваш идеал «Душечка» Чехова. А эти «душечки» состоят женами наших опричников-мародеров... Да еще хотите, чтобы созерцанием этих «душечек» дети воспитывались в религии по вашей программе. Выходит, что вы сами виноваты в пошлости ваших детей, хотя они и не «одурялись» на высших курсах, а около вас 25 лет усваивали «высшее мировоззрение времени», вникая в евангелие нищеты...»
На деревне, в избе, поселился какой-то студент-пошляк, пьяница, один из тех маленьких, подлых людей, которые стараются собирать всякие гадкие сплетни. Когда он уехал, в Харьковской газете появился отвратительный пасквиль на всех Толстых. Всех обитателей яснополянского дома автор считает типичными крепостниками; «только старик драпируется в какую-то туманную философию о тщете материальных благ, о спасении души и прочем». «Граф, — по словам крестьян, это — «волк в овечьей шкуре»: за порубку леса соседними крестьянами граф вызвал в свое имение казаков...».
Изредка обличал отца слепой крестьянин, старовер, прозванный у нас «табачной державой». Так он называл правительство за то, что оно собирало пошлины с табака. Тряся козлиной бородкой, близко наклонившись к отцу и брызжа слюной, он ругал отца лгуном, фарисеем и кровопийцей народа. Отец терпел все это, как испытание, как наказание за грехи.
«Последний раз записал, что продолжаю радоваться сознанию жизни, а нынче как раз должен записать противное: ослабел духовно, главное, тем, что хочу, ищу любви людей — и близких и дальних. Нынче ездил в Ясенки и привез письма все неприятные. То, что они могли быть мне неприятны, показывает, как я сильно опустился... фельетон в Харьковской газете того маленького студента, который жил здесь летом... Несомненный признак упадка, потери общения с Вечным через сознание, то, что мне стало больно читать его злую и глупую печатную ложь... Кроме того, физически был в дурном, мрачном настроении и долго не мог восстановить свое общение с Богом... Все от того, что радуюсь на любовь людей и близких, и Черткова, от которого получил прекрасное письмо о жизни и Боге...»
Ноябрь самый неприятный месяц, особенно в деревне, когда развозит все дороги, грязь, сырость, сильные ветры. В это время много болезней, обычно все с нетерпением ждут снега, санного пути.
* Мария Спиридонова — соц.-революционерка, приговоренная к смертной казни за убийство охранника Луженского, который особенно жестоко усмирял крестьянские аграрные беспорядки в 1906 г.
Этой осенью Оболенские жили с нами. Простудилась ли Маша в эту погоду, или просто, как крестьяне говорят: «время ее пришло». Заболела она в конце ноября и доктор определил воспаление легких. Со второго же дня стало очевидным, что положение серьезное. Температура не спадала, Маша сильно кашляла, жаловалась на боль в боку. Лежала она «под сводами». Коля, Жули и я ухаживали за ней. «Маша сильно волнует меня, — писал отец Черткову. — Я очень, очень люблю ее». В течение нескольких дней Маша стала неузнаваема. Худое лицо ее еще больше осунулось, на щеках горел румянец, в глазах было сосредоточенное, оторванное от нас и от жизни выражение.
«Смерть ее, — писал отец, — эгоистически для меня, хотя она и лучший друг мой из всех близких мне, не страшна и не жалка — мне не долго придется жить без нее, но просто, не по рассуждению, больно, жалко ее, — она, должно быть, и по годам своим хотела бы жить, и жалко просто страданий — ее и близких. Жалко и неприятно эти тщетные усилия лечением продлить жизнь. А смерть все больше и больше и в последнее время так стала мне близка, не страшна, естественна, нужна, так не противоположная жизни, а связана с нею, как продолжение ее, что бороться с нею свойственно только животному инстинкту, а не разуму. И потому всякая разумная — не разумная, а умная борьба с нею, как медицина, — неприятна, нехороша».
Умерла Маша спокойно, в полном сознании. Отец и Коля сидели у ее постели. Машу приподняли на подушки, ей было тяжко дышать. За час до смерти она широко открыла глаза, увидела отца и положила его руку к себе на грудь. Отец нагнулся и поднес ее худую, прозрачную руку к своим губам. «Умираю», — едва слышно прошептала она.
Отец ушел к себе. «Сейчас час ночи, — записал он в дневнике, — скончалась Маша. Странное дело. Я не испытывал ни ужаса, ни страха, ни сознания совершающегося чего-то исключительного, ни даже жалости, горя. Я как будто считал нужным вызвать в себе особенное чувство умиления горя и вызывал его, но в глубине души я был более покоен, чем при поступке чужом — не говорю уже своем — нехорошем, недолжном. Да, это событие в области телесной и потому безразличное. — Смотрел я все время на нее, как она умирала: удивительно спокойно. Для меня — она была раскрывающееся перед моим раскрыванием существо. Я следил за его раскрыванием, и оно радостно было мне. Но вот раскрывание это в доступной мне области (жизни) прекратилось, т. е. мне перестало быть видно это раскрывание; но то, что раскрывалось, то есть «Где? Когда?» — это вопросы, относящиеся к процессу раскрывания здесь и не могущие быть отнесены к истинной, внепространственной и вневременной жизни».
А после похорон: «Сейчас увезли, унесли хоронить, — писал он. — Слава Богу, держусь в прежнем хорошем духе».
«Да, жизнь есть рост, или раскрытие духовной сущности. Это раскрытие идет до самой смерти. В смерти оно совершается вполне для того отдельного существа, которое я сознаю собой», — записал он в дневнике от 4 января 1906 года.
Машу везли по деревне в церковь на кладбище, где похоронены были дедушка и бабушка Толстые и наши маленькие братья Николенька, Петя и сестра Варя. Долго шли по деревне. Из домов выбегали бабы, мужики, все хотели служить по ней панихиду. Все знали и любили Машу. Сколько бессонных ночей провела она над скарлатинным ребенком, или над роженицей, сколько сил
положила, работая наравне с крестьянами для неимущих, вдов, вдовцов, сколько слез утерла она своим добрым, отзывчивым словом. Многие плакали.
С отцом мы не говорили о Маше, не могли, но мысли наши были все время с ней.
«Нет-нет и вспомню о Маше, но хорошими, умиленными слезами, не об ее потере для себя, а просто о торжественной, пережитой с ней минуте от любви к ней», — писал он.
«Живу, — писал он уже через месяц после ее смерти, — и часто вспоминаю последние минуты Маши (не хочется называть ее Машей, так не идет это простое имя тому существу, которое ушло от меня). Она сидит обложенная подушками, я держу ее худую, милую руку, и чувствую, как уходит жизнь, как она уходит. Эти четверть часа одно из самых важных, значительных времен моей жизни».
Мне тогда было непонятно, почему ушли лучшие: Ваничка, Маша. Пришли на время, чтобы внести свет, любовь, радость людям. Оба открытые ко всему хорошему, с ласковым словом на устах для всех, кто в нем нуждался, такие похожие на отца и друг на друга...
Отпала их почти бестелестная, немощная плоть перед «Раскрыванием» и ушло то, что отцу было трудно назвать простым, житейским именем «Маши». Все это смутно было для меня тогда. Не знала я и того, как незаменима была для нас эта утрата, и как Маша нужна была бы отцу в той трагедии, которая разыгралась 4 года спустя, и в которой мне пришлось взять на свои слабые, молодые плечи непосильную ответственность.
В апреле 1907 года отец написал тетеньке Марии Николаевне в монастырь:
«Милый друг Машенька, часто думаю о тебе с большой нежностью, а последние дни точно голос какой все говорит мне о тебе, о том, как хочется, как хорошо бы видеть тебя, знать о тебе, иметь общение с тобой. Как твое здоровье? Про твое душевное состояние не спрашиваю. Оно должно быть хорошо при твоей жизни. Помогай тебе Бог приближаться к Нему...
У нас, к нашей радости, живет Таня с милой девочкой. Муж ее на время за границей в Сицилии у больного сына.
Очень чувствую потерю Маши, но да будет воля Его, как говорят у вас, и как и я от всей души говорю. Про себя, кроме незаслуженного мною хорошего, ничего сказать не могу. Что больше стареюсь, то спокойнее и радостнее становится на душе. Часто смерть становится почти желательной. Так хорошо на душе и так веришь в благость Того, в Ком живешь и в жизни и в смерти.
... Поклонись от меня всем твоим монашкам. Помогай им Бог спасаться. В миру теперь такая ужасная, недобрая жизнь, что они благой путь избрали, и ты с ними. Очень люблю тебя. Напиши много словечко о себе. Целую тебя.
Брат твой и по крови и по духу — не отвергая меня. Лев Толстой».
В этот момент тетенька была единственным человеком, которой он мог, хотя и сдержанно как всегда, высказать эту потребность простой человеческой любви.
Большое утешение и радость отец находил в крестьянских ребятах. Несколько мальчиков приходили к нему каждый вечер. Занимался он с ними внизу в библиотеке, где раньше был его кабинет. Отобрались лучшие ребята, интересовавшиеся религиозно-нравственными вопросами, более пустые, легкомысленные быстро отпали. Отец особенно любил одного — Николку, за его душевную
чуткость. Во время чтения выражение милого, открытого лица мальчика с ямочками на щеках делалось серьезным, голубые глаза внимательно смотрели на учителя и он схватывал налету слова отца и, как взрослый, обсуждал с отцом прочитанное. Товарищи впоследствии дали ему прозвище «толстовца».
Этим летом приехал Чертков с семьей из Англии. Срок его ссылки кончился и он, пробыв в Ясной Поляне несколько дней, поселился со всеми своими чадами и домочадцами в 5 верстах от нас, в старой, заброшенной усадьбе Ясенки.
Вокруг Черткова было пропасть народу: переписчики, секретари, фотограф, привезенный из Англии, чтобы снимать отца во всех видах, люди с неопределенными обязанностями, называвшиеся помощниками. Все, кроме жены Черткова Гали, ели вегетарианскую пищу за одним столом.
Галя Черткова меня поразила. Она была красива какой-то особенной, болезненной красотой. Громадные, черные, темные глаза; красиво вьющиеся темные волосы, тоненький прямой носик, губы, про которые обычно говорят «бантиком», неестественно белая кожа лица и рук и худое, хрупкое тело, прикрытое чем-то мягким, серым, не то платьем, не то халатом. При ней всегда была фельдшерица.
Галя Черткова вполне разделяла взгляды моего отца и своего мужа и, насколько могла по состоянию своего здоровья, помогала Черткову с изданием отцовских сочинений за границей. Когда я была рядом с Галей, я стеснялась своей силы, здоровья... Особенно когда вдруг крошечное Галино личико из бледного превращалось в зеленовато-прозрачное, слезы показывались на глазах: «Мне дурно, я голодная»... шептала она. Помощницы бросались в кухню, откуда появлялась спокойная, рослая кухарка Аннушка с подносом, на котором были расставлены крошечные, вроде игрушечных, чашечки и мисочки с какими-то намешанными, жидкими кушаньями. А когда она пела низким, грудным и глубоким голосом духоборческие псалмы и брала трагично-проникновенные контральтовые ноты, по телу пробегали мурашки и опять делалось неловко.
В это лето в округе поселилось много людей, желавших быть ближе к моему отцу. В Овсянникове, кроме старушки Шмидт, жила семья Горбуновых. На моем хуторе Телятинках жил пианист Гольденвейзер с женой. Взамен домика и лошади, которыми пользовались Гольденвейзеры, он давал мне уроки музыки. На этом настоял отец. На деревне поселился художник Орлов, писавший картины из крестьянской жизни, рисующие бедность, угнетение крестьян: «Открытие царской монополии», телесное наказание крестьянина и т. п. Орлов был маленький, добродушный человек, у него были такого же маленького роста жена, мать, и необычайное количество низкорослых, улыбающихся детей — целый выводок. И все они жили в одной крестьянской избе и сенном сарае, и уверяли, что им очень удобно и что они готовы еще и гостей принимать. Также на деревне жил Николаев с семьей — переводчик и убежденный последователь Генри Джорджа — скромный, милый человек. Отец все также продолжал интересоваться теорией Генри Джорджа о едином налоге и даже написал по этому поводу министру внутренних дел Столыпину, прося его ознакомиться с теорией Джорджа с целью введения этой земельной реформы в России. Взгляды Столыпина и моего отца в этом вопросе были диаметрально противоположны. Отец ценил принцип общинного владения землей, не допускавший закрепления собственности, Столыпин же вводил в это время в России хуторское единоличное хозяйство, считая, что общинное владение и чересполосица, постоянные переделы и разбросанность
клочков земли, находящихся во временном пользовании, экономически ослабляют крестьян. Земля крестьянина должна быть в одном куске-хуторе, в постоянном его владении и только тогда он сможет о ней заботиться и поднять уровень своего хозяйства. Столыпин находил применение теории Генри Джорджа в России невозможным, о чем и писал отцу.
В первый раз отец писал Столыпину 26 июля 1907 года:
...«Пишу вам, Петр Аркадьевич, под влиянием самого доброго, любовного чувства к стоящему на ложной дороге сыну моего друга. — Вам предстоят две дороги: или продолжать ту, начатую Вами деятельность не только участия, но и руководства в ссылках, каторгах, казнях, и, не достигнув цели, оставить по себе недобрую память, а, главное, повредить своей душе, или, став при этом впереди европейских народов, содействовать уничтожению давней, великой, общей всем народам жестокой несправедливости земельной собственности, сделать истинно доброе дело и самым действительным средством — удовлетворением законных желаний народа, успокоить его, прекратив этим те ужасные злодейства, которые теперь совершаются, как со стороны революционеров, так и правительства.
Лев Толстой».
20 — 23 октября 1907 г. Столыпин пишет отцу:
«Лев Николаевич,... Не думайте, что я не обратил внимания на Ваше первое письмо. Я не мог на него ответить, потому что оно меня слишком задело. Вы считаете злом то, что я считаю для России благом. Мне кажется, что отсутствие «собственности» на землю у крестьян создает всё наше неустройство, — Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты... и одно из самых сильных чувств этого порядка — чувство собственности. Нельзя любить чужое, наравне со своим и нельзя обхаживать, улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своей землей. — Искусственное в этом отношении оскопле-
ние нашего крестьянина, уничтожение в нем врожденного чувства собственности, ведет ко многому дурному и, главное, к бедности. — А бедность, по мне, худшее из рабств. И теперь то же крепостное право, — за деньги вы можете так же давить людей, как и до освобождения крестьян. Смешно говорить этим людям о свободе, или о свободах. Сначала доведите уровень их благосостояния до той по крайней мере наименьшей грани, где минимальное довольство делает человека свободным. А это достижимо только при свободном приложении труда к земле, т. е. при наличии права собственности на землю. — Я не отвергаю учения Джорджа, но думаю, что «единый налог» со временем поможет борьбе с крупной собственностью, но теперь я не вижу цели у нас в России сгонять с земли более развитой элемент землевладельцев и, наоборот, вижу несомненную необходимость облегчить крестьянину законную возможность приобрести нужный ему участок земли в полную собственность... Впрочем, не мне Вас убеждать, но я теперь случайно пытаюсь объяснить Вам, почему мне казалось даже бесполезным писать вам о том, что Вы меня не убедили. Вы мне всегда казались великим человеком, я про себя скромного мнения. Меня вынесла наверх волна событий — вероятно на один миг! Я хочу все же этот миг использовать по мере моих сил, понимания и чувств на благо людей и моей родины, которую люблю, как любили ее в старину. Как же я буду делать не то, что думаю и сознаю добром? А Вы мне пишете, что я иду по дороге злых дел, дурной славы и, главное, греха. Поверьте, что, ощущая часто возможность близкой смерти, нельзя не задумываться над этими вопросами, и путь мой мне кажется прямым путем. Сознаю, что все это пишу Вам напрасно — это и было причиной того, что я Вам не отвечал. Простите. Ваш П. Столыпин».
28 января 1908 г. отец пишет Столыпину:
«Петр Аркадьевич... За что, зачем вы губите себя, продолжая начатую вами ошибочную деятельность, не могущую привести ни к чему, кроме как к ухудшению положения общего и вашего? Смелому, честному, благородному человеку, каким я вас считаю, свойственно не упорствовать в сделанной ошибке, а сознать ее и направить все силы на исправление ее последствий. Вы сделали две ошибки: первая — начали насилием бороться с насилием и продолжаете это делать, все ухудшая и ухудшая положение; вторая — думали в России успокоить взволновавшееся население и ждущее и желающее только одного: уничтожения права земельной собственности (столь же возмутительного в наше время, как полстолетия тому назад было право крепостное), успокоить население тем, чтобы, уничтожив общину, образовать мелкую земельную собственность. Ошибка была огромная. Вместо того, чтобы, воспользовавшись еще живым в народе сознанием незаконности права личной земельной собственности, сознанием, сходящимся с учением об отношении человека к земле самых передовых людей мира, вместо того, чтобы выставить этот принцип перед народом, вы думали успокоить его тем, чтобы завлечь в самое низменное, старое, отжившее понимание отношения человека к земле, которое существует в Европе, к великому сожалению всех мыслящих людей в этой Европе. Милый Петр Аркадьевич... жизнь не шутка. Живем здесь один раз. Из-за partie pris (предвзятого мнения) нельзя, неразумно губить свою жизнь... Обе ваши ошибки: борьба насилием с насилием и не разрешение, а утверждение земельного насилия, исправляются одной и той же простой, ясной и самой, как это ни покажется вам странным, удобоприменимой мерой: признанием земли равной собственностью всего народа и установлением соответствующего сравнительным выгодам земель налога, заменяющего подати
или часть их. Одна только эта мера может успокоить народ и сделать бессильными все усилия революционеров, опирающихся теперь на народ, и сделать ненужными те ужасные меры насилия, которые теперь употребляются против насильников... Повторяю то, что я сказал сначала: все, что пишу, пишу для вас, желая вам добра, любя вас... Любящий вас Лев Толстой».
Гости и посетители нас не забывали. В это лето гостил художник Нестеров, написавший несколько этюдов и большой, прекрасный портрет отца.
Из Тулы приехали однажды в Ясную Поляну 850 школьников. Они провели у нас целый день, купались, гуляли, играли в разные игры, которые я организовала для них в Чапыже.
Соседи «темные» приходили к отцу каждый вечер. Они рассаживались вокруг него полукругом и ждали, что он им скажет. Душан записывал в кармане. Когда отец читал вслух, Душан более или менее точно рассчитывал, сколько времени будет продолжаться чтение, бежал к себе в комнату, заводил будильник, ложился и немедленно засыпал. Поездки по больным, прием в амбулатории сильно утомляли его. Когда через несколько минут будильник звонил, Душан вскакивал и поспевал как раз во-время к обсуждению прочитанного. Иногда Чертков устраивал у себя на хуторе «беседы» с молодыми крестьянами и старался вовлечь отца в эти собрания. Но дело не пошло, может быть, отец почувствовал некоторую искусственность в этих собраниях и перестал ездить.
Должна откровенно признаться, что все это мне было очень скучно. Блузы, сапоги, длинные бороды, нерасчесанные волосы, всегда серьезные лица, точно люди закаялись шутить, смеяться, веселиться. Только отец и иногда Чертков вносили некоторое оживление в эту среду, шутили, смеялись, каламбурили. Я сознавала, что все эти толстовцы были прекрасные люди, и что отец ценил их, но все же не могла преодолеть гнетущую скуку. Забравшись с Анночкой, моей племянницей, моложе меня только на четыре года, в мою угловую комнату, мы под аккомпанемент гитары или фортепиано, распевали цыганские романсы. Иногда тихо открывалась дверь и входил отец. Мы смущались, останавливались: «Продолжайте, продолжайте, — говорил он улыбаясь, — хорошо у вас выходит». И он стоял в дверях, заткнув руки за пояс, и слушал...
Но не все толстовцы вызывали во мне это чувство нудной тоски. Может быть, я инстинктивно, как бывает иногда в молодости, чувствовала искусственный надрыв в некоторых из них, надрыв, которого я сама так боялась. И действительно, многие не выдерживали аскетической жизни, которую на себя взяли. Отец предостерегал их: нельзя брать на себя подвига, если не вполне готов к нему.
Буланже не выдержал — запутался, проиграв казенные деньги в карты и, оставив записку, что он кончает жизнь самоубийством — исчез. Некоторые толстовцы сделались революционерами, другие ушли в монастыри, иные превратились в убежденных монархистов — остались лишь немногие. Некоторые доходили до фанатизма, большинство же людей, последовавших учению отца, погибли в ссылке и тюрьмах во время революции.
Настоящими, искренними людьми были два брата Булыгиных, Сережа и Ваня, разные по типу юноши. Сережа — красавец собой, с громадными черными глазами, вьющимися волосами, сильный, здоровый, с девическим румянцем на щеках, и голубоглазый, менее красивый брат его, всегда кроткие, радостные, готовые помочь ближним, жили работая на земле, вегетарианствовали.
Друг Сережи Булыгина, Сережа Попов, был еще более крайних убеждений.
Попов не признавал решительно никакой собственности. Попроси кто-нибудь у него последнюю рубашку, он бы отдал ее. У него не было паспорта, он бродил по деревням, бесплатно помогая работой кому надо было. От времени до времени его арестовывали как беспаспортного бродягу. При допросах его спрашивали, кто он. «Сын Божий», — отвечал он и радостно улыбался. Надзирателей, полицейских он называл братьями. Начальство терялось, не знало, что с ним делать, и в конце концов отпускало его на все четыре стороны. Иногда он приходил к отцу запыленный, в опорках, обросший бородой, но вы этого не замечали., так сильно было то тепло и тот свет, которыми горел этот юноша; вы видели только его голубые глаза, излучавшие добро, любовь и радость.
Закончив статью «Не убий никого», отец прочел ее вслух собравшимся вокруг него единомышленникам. Он писал воззвание о любви... А вокруг сгущалась атмосфера зла, ненависти, борьбы... Моя мать была очень расстроена. Брата ее, дядю Вячеслава, главного инженера комиссии по организации земляных работ в Гавани под Петербургом, убили, как предполагали, безработные, озлобленные на начальство за то, что они не получили работы. Дядя же Вячеслав как раз накануне защищал в Городской Думе интересы рабочих и хлопотал о том, чтобы дать им работу.
В Ясной Поляне крестьяне срубили и увезли 129 дубов; у Миши в имении мужики спалили инструментальные сараи со всеми ценными сельскохозяйственными орудиями; у Сухотиных в имении сгорели хозяйственные постройки; подозревали, что это был также поджог. У нашей соседки Звегинцевой было неблагополучно. Прибежали бабы, сказали, что какие-то двое подозрительных людей ходят у нее по лесу. Звегинцева послала кучера и охотника вдогонку за прохожими. Они настигли их на шоссе и потребовали их паспорта. Вместо паспортов, люди эти выхватили револьверы и наповал убили обоих Звегинцевских служащих, а сами скрылись в лесу.
В Ясной Поляне кто-то забрался воровать капусту, в ночного сторожа стреляли. Моя мать и Андрей обратились к губернатору, прося защиты. Губернатор прислал пристава, урядника, несколько человек стражников, на деревне был сделан обыск и трех крестьян, у которых найдено было оружие, — арестовали.
«Последние два-три дня тяжелое душевное состояние, которое до нынешнего дня не мог побороть, от того, что стреляли ночью воры капусты, и Соня жаловалась и явились власти и захватили 4-х крестьян, и ко мне ходят просить бабы и отцы. Они не могут допустить того, чтобы я — особенно живя здесь — не был бы хозяин, и потому всё приписывают мне. Это тяжело и очень, но хорошо, потому что, делая невозможным доброе обо мне мнение людей, загоняют меня в ту область, где мнение людей ничего не весит. Последние два дня я не мог преодолеть дурного чувства», — писал отец 7 сент. 1907 года.
Сам губернатор приезжал в Ясную Поляну.
«И отвратительно и жалко», — писал отец об этом посещении в дневнике.
Ему было так тяжело, что он хотел уехать к Тане, но и там жизнь была ему не по сердцу — большое помещичье хозяйство, праздность...
В передней пахло мужским потом и махоркой. За перегородкой жили стражники. Чертков беседовал с ними и раздавал им «Солдатскую» и «Офицерскую памятки» против военной службы.
Я умоляла мать отправить стражников обратно, я ссорилась с ней, с братом
Андреем, сердилась, плакала. Нестерпимо больно было видеть страдания отца. Ни в одном имении, ни у Миши, ни у Сухотиных, ни у кого из соседей не было полиции... только в Ясной Поляне.
Я ездила к губернатору с письмом отца, умоляя уважить его просьбу и освободить арестованных крестьян, но он сухо мне ответил: «Ваша матушка графиня просила меня об ограждении безопасности Ясной Поляны и вашей семьи и я только исполняю ее просьбу». Разговаривать было не о чем.
С тяжелым чувством вернулась я домой. А тут еще принесли со станции перепугавшую всех нас телеграмму: «Ждите гостя. Гончаров». И через несколько дней опять: «Ждите. Гончаров». Я нервничала, всматривалась в каждого нового посетителя: не Гончаров ли? Ходила по пятам отца. Он не одобрял моего страха и трунил надо мной.
Осенью Чертков уехал на несколько месяцев в Англию для приведения в порядок своих дел. Перед отъездом он озаботился тем, чтобы у отца был настоящий «секретарь» и для этой цели пригласил толстовца Гусева. Гольденвейзеры на зиму уехали в Москву, так как Гольденвейзер преподавал в Московской Консерватории, и Гусев поселился в моем домике в Телятинках.
Гусев ведал главным образом корреспонденцией отца. Он отвечал на письма. Обычно, когда я это делала, я не брала на себя смелости поучать людей, а просто писала, что ответ на задаваемый вопрос можно найти в такой-то книге или статье отца. Гусев же излагал взгляды моего отца и подробно отвечал на письма. За мной оставалась переписка рукописей.
Но не успел еще Гусев втянуться в работу, как его арестовали и посадили в Крапивенскую тюрьму.
8 ноября отец записал в дневнике: «Дня три тому назад был в Крапивне у Гусева. Очень тяжелое и значительное впечатление». По дороге в Крапивну, куда он ехал частью верхом, частью в санях, отец заехал к Булыгиным: «Очень радостное впечатление от их жизни», — писал он.
Тяжелый это был год. Семья наша тяжело переживала развод Андрея с женой и его женитьбу на Арцимович. Катя Арцимович была женой губернатора, при котором Андрей состоял чиновником особых поручений. Катя и Андрей влюбились друг в друга и она, бросив шесть человек детей, развелась с мужем и вышла замуж за Андрея.
Вся наша семья очень любила Ольгу и ее детей, Сонюшку и Илюшку, и хотя Катя и была принята в семью, Ольга и ее дети была нам гораздо ближе. Отец надеялся, что на этот раз Андрей не разойдется с женой. Шутя он говорил старушке Шмидт: «Двух вещей я боюсь — что Андрей опять разведется с женой и что Саша перестанет смеяться»1.
В конце декабря выпустили Гусева.
«Как я завидую вам, — говорил отец. — Как бы я хотел, чтобы меня посадили в тюрьму, настоящую, вонючую... Видно этой чести я еще не заслужил...»2
В Ясной Поляне было весело и шумно. Готовились к Рождественским праздникам.
Приехала знаменитая пианистка Ванда Ландовская с мужем и привезла с собой клавесин. Она играла нам без конца, и чистота, прозрачность ее исполнения Рамо, Моцарта, Гайдна приводили всех в полный восторг. Отец наслаждался больше всех.
Он был в веселом, бодром настроении. Гусева выпустили из тюрьмы и он поселился в Ясной Поляне, рядом с Ремингтонной, стена к стене с отцовской спальней, где раньше жила Жули-Мули. У моей матери теперь тоже была секретарша, городская, веселая и добродушная дама, В. М. Феокритова, Варя, как мы ее звали. Она стенографировала и переписывала для матери ее сочинение: «Моя жизнь».
В январе отец получил в подарок невиданный еще нами аппарат от Томаса Эдисона из Америки — диктофон. Когда его собрали и наладили, отец попробовал диктовать. Но не мог... волновался, запинался, забывал, что хотел сказать: «Останови, останови машину, — кричал он мне: — забыл!» «Ужасно волнительно, — прибавлял он со вздохом, — вероятно, эта машина хороша для уравновешенных американцев, но не для нас, русских».
Но все же он иногда пользовался машиной. Эдисону он написал благодарственное письмо и обменялся с ним несколькими письмами.
«Я уважаю Эдисона, — говорил он. — Он не дал ни одного изобретения для военных целей».
Отец продолжал работать над «Кругом чтения» для второго издания, Гусев помогал ему. Я переписывала его статьи: «Закон насилия и закон любви» и новую статью «Всему бывает конец».
В начале января 1908 года поднялся вопрос о праздновании юбилея отца и в Петербурге образовался Комитет почина по организации этого чествования. В Комитет вошел целый ряд профессоров, общественных деятелей, писателей — Бунин, Боборыкин, Андреев — председатель первой Государственной Думы Муромцев. Председателем Комитета был избран Максим Ковалевский, вице-председателями — В. Короленко и И. Репин, а секретарем Михаил А. Стахович. Комитет приступил к работе.
Были приглашены 40 делегатов от печати и решено было созвать всероссийский съезд для выработки плана чествования. Московская и Петербургская городские думы предполагали провести ряд постановлений гуманитарного и просветительного характера в честь Толстого. Многие провинциальные города горячо отозвались на призыв Центрального Комитета.
Правительство — Министерство внутренних дел — не дремало, и через губернаторов и жандармские управления приказало обратить «особенно пристальное внимание... к прекращению всяких попыток к использованию со стороны неблагонадежных элементов населения настоящего события в целях противоправительственной агитации, каковые попытки тем более возможны, что проповедуемые гр. Л. Н. Толстым идеи представляют для подобной агитации самый широкий простор»1.
Мысль о праздновании юбилея Толстого нашла отклик и в других странах мира: в Англии, где открылась подписка на специальный Толстовский фонд, во Франции и Германии. Заявления поступали также из Индии, Японии, Канады, Новой Зеландии.
Весь этот шум, статьи в печати, приготовления — были неприятны отцу, они нарушали то сосредоточенно-религиозное настроение, в котором он находился: подготовления к смерти, борьбы со своими грехами и окружавшим его злом. Но последним толчком к решению отца послужило письмо его давнишней знакомой, старой княжны Марии Михайловны Дондуковой-Корсаковой, которая писала моей
матери, что чествование человека, разрушающего веру православную, оскорбит православных людей. Отца тронуло это письмо.
«...Готовящиеся мне юбилейные восхваления мне в высшей степени — не скажу тяжелы — мучительны, — диктовал отец письмо княжне на Эдисоновском диктофоне. — Я настолько стар, настолько близок к смерти, настолько иногда желаю уйти туда, пойти к Тому, от Кого я пришел, что все эти тщеславные, жалкие проявления мне только тяжелы. Но это все для меня лично, я же не подумал о том... какое впечатление произведут эти восхваления человека, нарушавшего то, во что они верят... Постараюсь избавиться от этого дурного дела, от участия моего в нем, от оскорбления тех людей, которые, как вы, гораздо, несравненно ближе мне всех тех неверующих людей, которые, Бог знает для чего, для каких целей, будут восхвалять меня и говорить эти пошлые, никому не нужные слова. Да, милая Мария Михайловна, чем старше я становлюсь, тем больше я убеждаюсь в том, что все мы, верующие в Бога, если мы только искренно веруем, все мы соединены между собой, все мы сыновья одного Отца и братья и сестры между собой... Теперь же прощайте. Благодарю вас за любовь и прошу вас не лишать меня ее». И голос отца задрожал от волнения и сдерживаемых слез.
И не откладывая, обрадовавшись поводу к прекращению всех приготовлений к юбилею, отец продиктовал письмо М. А. Стаховичу, как секретарю Комитета.
«...Вчера получил письмо от княжны Дондуковой-Корсаковой, — говорилось в этом письме, — которая пишет мне, что все православные люди будут оскорблены этим юбилеем. Я никогда не думал про это, но то, что она пишет, совершенно справедливо. Не у одних этих людей, но и у многих других людей он вызовет чувство недоброе ко мне. А это мне самое больное... Так вот, моя к вам великая просьба: сделайте, что можете, чтобы уничтожить этот юбилей и освободить меня. Навеки вам буду очень, очень благодарен. Любящий вас Лев Толстой».
Кроме того, отец написал письмо в газеты, которое напечатано не было, но которое отец просил Н. В. Давыдова огласить на заседании Комитета.
Толстовцы разделяли мнение отца. Бодянский написал Гусеву:
«Написал свое мнение, как надо праздновать юбилей Льва Николаевича. Но газеты не поместили. Написал, что согласно с законами, а потому и принятой правде, Льва Николаевича следовало бы посадить в тюрьму ко дню юбилея, что дало бы ему глубокое нравственное удовлетворение. Эту мысль я несколько развил и подкрепил доказательствами...»2
«Как меня восхитил Бодянский! — сказал за завтраком отец. — Действительно, это было бы мое удовлетворение. Я на днях думал: чего я желаю, и ответил: ничего не желаю, кроме того, чтобы меня посадили. Я ему сказал в фонограф ответ... Действительно, ничего так вполне не удовлетворило бы меня, и не дало бы мне такой радости, как именно то, чтобы меня посадили в тюрьму, ... вонючую, холодную, голодную...»3
Юбилейный Комитет прекратил свою деятельность, о чем было сообщено в газетах. Левые элементы были разочарованы. Они несомненно использовали бы юбилей Толстого как протест против правительства.
Между тем, преследование отказавшихся от воинской повинности, число которых увеличивалось, продолжалось. Арестовывали толстовцев не только за распространение, но даже и за то, что у них находили запрещенные книги Толстого. Каждый такой арест удручающе действовал на отца.
Участились смертные казни. До революции 1905 года смертные казни в России были редким явлением.* Но за последние годы, в связи с террористическими актами и аграрными беспорядками, число смертных приговоров увеличилось. Сообщения о смертных казнях причиняли отцу острую, почти физическую боль. Он одинаково страдал за казненных и казнивших. Он должен был высказаться, он не мог молчать. Друзья — Давыдов, Бирюков — доставляли ему материалы о смертных казнях.
Как-то утром, сидя за кофе и просматривая почту, отец развернул газету «Русь» и прочел, что в Херсоне, «за разбойное нападение на усадьбу землевладельца», 20 крестьян приговорено к смертной казни.
«Нет, это невозможно! Нельзя так жить!.. Нельзя так жить!.. нельзя и нельзя!..» В голосе слышались страдание, слезы, когда он диктовал эти слова в свою машину. Отец начал писать статью «Не могу молчать» 11 мая и закончил ее 31-го.
«О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и говорят теперь, как прежде говорили о погоде. Дети играют в повешение. Почти дети, гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как прежде шли на охоту», — писал он. И дальше: «Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду. — Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу и в России и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье) надели на меня так же, как на тех 20 или 12 крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю...»
«Не могу молчать» было напечатано в нескольких русских газетах в выдержках, и газеты эти были оштрафованы правительством. Статья облетела всю Россию. Ее печатали в тайных типографиях, на мимеографах, переписывали от руки. В один и тот же день «Не могу молчать» была напечатана во всех странах Европы, в одной Германии она появилась в 200 изданиях.
Статья вызвала необычайное волнение в России. Революционеры не преминули, замалчивая христианское мировоззрение Толстого, осуждающее всякое насилие и убийство, использовать статью для своих целей. Целый ряд общественных деятелей, художников, писателей отозвались на статью Толстого. Отцу писали со всех сторон, одни благодарили за статью, другие бранили его, оскорбляли.
Приблизительно в это же время появился рассказ Л. Андреева «О семи повешенных». Отцу он не понравился. «Фальшь на каждом шагу, — сказал он. — О таких вещах надо писать правдиво, искренно и глубоко или никак». Отец тщетно пытался в так называемых «передовых» людях найти какое-то религиозное мировоззрение, но этих «точек соприкосновения», как он выразился, не было.
Отец был разочарован в священнике Григории Петрове, посетившем его в марте. Это был человек, игравший в то время большую общественную роль, но не начавший еще, даже самым примитивным образом, понимать сущность истинной жизни, как выражался отец... Отца особенно поразило утверждение Петрова, что читать Евангелие не нужно. Петров был, по существу, революционером.
* Уголовных преступников не казнили, а заточали в тюрьмы и ссылали на каторгу.
«Революционерам, — писал Толстой в записной книжке от 28 июля 1908 года, — надо сказать; нельзя, друзья, воздвигать храмов неумелыми руками, да еще и нечистыми».
Еще более характерна запись отца в записной книжке от 28 мая:
«Ах, только бы вы, люди запутавшиеся, легкомысленные, потерявшие религию, т. е. смысл жизни, перестали бы одни играть в эту бессмысленную и жестокую игру революции, другие в еще более глупое и жестокое поддержание величия России, третьи в совсем уже до комизма глупую игру конституции: кулуаров, лидеров, формулы перехода и т. п..., как дети рабски и самодовольно подражая старшим; только бы поняли вы все, русские люди нашего времени, что мы особенный (не в смысле лучшего, а в смысле самобытного) народ и живем в особенное наше время, и что нам поэтому не подражать надо другим народам и жившим в другое время, а жить своей жизнью и жизнью своего времени, и что нужна нам в наше время не борьба пролетариата с капиталом, не много или мало и таких или иных броненосцев, и не думские партии и речи; а нужно одно: то, чего жаждет весь народ, освобождения земли от собственности; в международной государственной области: (опять то, чего желает весь народ) прекращение всякой враждебности к чужим народам, и в области внутренней одно нужное всем народам и несовместимое ни с революцией, ни с величием России, ни еще менее с конституцией, нужно одно: свобода, но не та свобода, которую могут давать и отнимать Николаи, Столыпины и большинство Пуришкевичей или Милюковых, а та свобода, которая не может быть отнята никем, потому что она основана на исполнении высшего единого закона для всех людей... А свобода эта приобретается только одним: признанием закона жизни и следованием ему — религией».
Вот эту-то «игру», несерьезность отношения к тому, что должно составлять основу жизни людей, отец не выносил. Как он сказал про Бернарда Шоу, прочтя его «Man and Superman» — «Ужасно остроумно, и дурного вкуса... Он говорит про серьезные вопросы, а одной какой-нибудь шуткой свернет в сторону — и теряешь всякое уважение»4.
«Dear Mr. Shaw, жизнь — большое и серьезное дело, и нам всем вообще в этот короткий промежуток данного нам времени надо стараться найти свое назначение и насколько возможно лучше исполнить его. Это относится ко всем людям и особенно к вам, с Вашим большим дарованием, самобытным мышлением и проникновением в сущность всякого вопроса... И потому, смело надеясь не оскорбить Вас, скажу Вам о показавшихся мне недостатках вашей книги.
«Первый недостаток ее в том, что вы недостаточно серьезны. Нельзя шуточно говорить о таком предмете, как назначение человеческой жизни и о причинах его извращения и того зла, которое наполняет жизнь нашего человечества»... и т. д.
В начале мая отец нас всех перепугал. Он как будто был здоров, но вдруг Гусев, бывший в соседней комнате, увидел, как отец медленно падает на пол. Гусев подбежал, хотел его подхватить, но физически он был очень слабый и не мог удержать отца. Мы все прибежали на его крик — мать, Жули-Мули, Илья Васильевич. Отца подняли, положили на диван. Отец разговаривал, но... все забыл, забыл как его зовут, где он находится.
Утром, окончательно придя в себя, отец со смехом рассказывал Черткову, что он уже думал, что совсем «выжил из ума». Приехавшие врачи, Никитин и Беркенгейм, объяснили это состояние отливом крови от мозга.
Припадки эти, вызванные сильными душевными потрясениями, изредка повторялись, но забывчивость отца продолжалась недолго, через несколько часов память и ясность мышления полностью восстанавливались.
Несмотря на свои 80 лет, отец не менял образа жизни: начинал свой день с прогулки, в Чапыже, в елочках, он отдыхал на березовой скамейке, записывая свои мысли. По утрам работал больше над «Кругом чтения», завтракал и уезжал верхом на своем любимом Дэлире. Мы избегали пускать его одного. Иногда Душан в отдалении трясся за ним на чалой беспородной кобыле Катьке, иногда я ездила с ним на своем гнедом, золотом отливавшем на солнце Карабахе.
Никто не знал лесных дорог, тропинок лучше отца. Иногда мне казалось, что мы заблудились в дремучем казенном лесу. Мы ныряли в глубокие овраги, ветки били по лицу — того и гляди собьют очки — переправлялись через болота, ручьи. «Держи правее, тут поуже», — кричал он мне. Дэлир, наддав задом, легко и грациозно перескакивал ручей, за ним мой Карабах Орел. «Жива?» — спрашивал, обернувшись, отец н, несмотря на узкую тропинку, галопом взлетал на горку. «А вот и выехали!» — кричал он мне, пуская Дэлира крупной рысью по широкой просеке.
Один раз, возвращаясь домой по так называемой «купальной» дороге, ведущей к речке Воронке, и проезжая мимо места, где была зарыта отцом вместе с Николенькой братом, «Зеленая палочка», он чуть приостановил Дэлира и, обернувшись в седле: «Вот тут, в этих дубах у оврага, похороните меня, когда я умру...» — сказал он.
2 июля этого же года отец завел дневник, который не хотел показывать никому, ни Черткову, ни мне, ни тем более Софье Андреевне. То, что его дневник читали, — стесняло его. Я знала, что будь я постарше, отец многим делился бы со мной. Но я и без слов понимала его. Один раз, когда я принесла переписанную
рукопись, он внимательно, глубоко посмотрел на меня: «Я все могу понять, — сказал он, — почему один человек умный, другой глупый, один способный, другой бездарный, один черный, другой рыжий, но почему одним дано понять сущность духовной жизни, другим не дано — я понять не могу». Я ничего не спросила, я знала, о ком он говорил.
Иногда он громко стонал. «Что, папаша?» — «Стражники... Опять баб в лесу арестовали»... и сердце разрывалось от боли, жалости к нему, собственного бессилия. Я пыталась говорить об этом с матерью, просила ее, сердилась, но все бесплодно.
О дневнике отца я знала, охраняла его и от матери и от Черткова. Узнала я его содержание только после его смерти. Вероятно, единственный человек, с которым отец мог говорить о Софье Андреевне, был Чертков. И моя мать с болезненной чуткостью догадывалась об этом, и это еще более выводило ее из себя.
«Если бы я слышал про себя со стороны, — писал отец в этом своем «личном» дневнике, — про человека, живущего в роскоши с стражниками, отбивающего все, что может у крестьян, сажающего их в острог и исповедующего и проповедующего христианство и дающего пятачки, и для всех своих гнусных дел прячущегося за милой женой, — я бы не усумнился назвать его мерзавцем! А это-то самое и нужно мне, чтобы мог освободиться от славы людской и жить для души».
Эти слова отца — крик его обнаженной перед Богом души, — лучший ответ всем тем, которые упрекали его за непоследовательность, фарисейство, даже ложь.
Уход из дома был бы ему легче, вознес бы его на еще более высокий пьедестал, умножил бы его славу... Крест, взятый им на себя, был во много раз тягостнее.
«Помоги мне, Господи. Опять хочется уйти. И не решаюсь. Но и не отказываюсь. Главное: для себя ли я сделаю, если уйду. То, что я не для себя делаю, оставаясь, это я знаю. Надо думать с Богом. Так и буду».
«Мучительно тяжело на душе, — писал он в том же дневнике. — Знаю, что это к добру душе, но тяжело. Когда спрошу себя: что же мне нужно: уйти от всех. Куда? К Богу, умереть. Преступно желаю смерти».
Чертков в это время жил на одной из дач Козловки-Засеки с Галей, сыном Димой и тем же многочисленным окружением. Зная, как важна отцу близость Черткова, я согласилась продать Чертковым половину того небольшого участка, который остался у меня в Телятинках, и Чертков немедленно стал строить там громадный двухэтажный дом и целый ряд надворных построек — мастерские, конюшни, сараи.
Между моей матерью и Чертковым, хотя и не было в то время открытых столкновений, но уже чувствовалась скрытая враждебность. Мою мать раздражало, что Чертков позволял себе вольности по отношению к отцу. Он иногда входил в отцовский кабинет во время занятий, чего никто из нас не делал; вывезенный из Англии вежливый фотограф-профессионал, молчаливый англичанин Тапсель, с густыми, рыжими усами, снимал отца во всех видах, и моя мать, зная как отец не любил позировать, сердилась, а отец не мог отказать Черткову.
«Непонятно грубая, жестокая сцена из-за того, что Чертков снимал фотографии, — записывает там же отец.
Приходит в голову сомнение, хорошо ли я делаю, что молчу, и даже не
лучше ли было бы мне уйти, скрыться, как Буланже. Не делаю этого преимущественно потому, что это для себя, для того, чтобы избавиться от отравленной со всех сторон жизни. А я верю, что это-то перенесение этой жизни и нужно мне.
«Помоги, Господи, помоги, помоги!!!! — Уйти хорошо можно только в смерть».
В этом же дневнике он записывает: «С Сашей говорил хорошо. Как странно передается — мужчинам ум отца, характер матери, и наоборот».
Как горько отцу приходилось расплачиваться за славу, то, за чем тщетно гонятся люди, жертвуя иногда жизнями, честью, совестью. И чем ближе отец подходил к смерти, тем равнодушнее становился он к славе людской.
«Все пишут мою биографию — да и все биографии — о моем отношении к 7-ой заповеди ничего не будет. Не будет вся ужасная грязь... Этого ничего не будет и не бывает в биографиях. А это очень важно, и очень важно как наиболее сознаваемый мной, по крайней мере, порок, более других заставляющий опомниться».
От этой своей знаменитости уйти он не мог. Все окружение отца, даже самые близкие, купаясь в его славе, ни минуты не забывали об этом. Все, даже святой Душан, записывали, снимали, запечатлевали для потомства...
Должна признаться — потомство мало меня беспокоило. Меня мучило только одно: как уберечь, сохранить, как сделать так, чтобы был спокоен, счастлив мой самый любимый на свете, старенький, с седыми локонами на затылке, такой худой, беззащитный, слабеющий отец?!
В июле он снова заболел, сделалась закупорка вены на ноге — тромбофлебит, и приехавшие из Москвы врачи Никитин и Беркенгеим предписали полный покой.
Первое время отца возили в большом кожаном «крымском кресле», но через несколько дней поднялась температура и его положили в постель.
В дневнике от 11 августа: «Хотя и пустяшное, — пишет он, — но хочется сказать кое-что, что бы мне хотелось, чтобы было сделано после моей смерти. Во-первых, хорошо бы, если бы наследники отдали все мои писания в общее пользование; если уже не это, то непременно все народное, как-то: «Азбуки», «Книги для чтения». Второе, хотя это и из пустяков пустяки, то, чтобы никаких не совершали обрядов при закапывании в землю моего тела. Деревянный гроб, и кто хочет снесет или свезет в Заказ против оврага, на место зеленой палочки. По крайней мере, есть повод выбрать то или другое место».
К середине августа здоровье отца улучшилось, температура спала. Его все еще возили в кресле, ходить было запрещено. 28 августа отцу исполнилось 80 лет. Как ни старался сам Толстой, власти и духовенство остановить празднество юбилея — им это не удалось. Синод обращался к верующим с призывом не участвовать в чествовании графа Толстого, как «упорного противника православной веры»5. «Окаянный, презирающий Россию, Иуда, удавивший в своем духе все святое, нравственно чистое, нравственно благородное, повесивший сам себя, как лютый самоубийца, на сухой ветке собственного возгордившегося ума и развращенного таланта», — писал епископ Гермоген Саратовский...6
«Любезный брат Гермоген, — отвечал ему отец. — Прочел твои отзывы обо мне в печати и очень огорчился за тебя и за твоих единоверцев, признающих тебя своим руководителем. Допустим... что я — заблудший, я — вредный человек, но ведь я — человек и брат тебе. Если ты жалеешь тех, кого я погубил своим лживым
учением, то как же не пожалеть того, кто, будучи виновником погибели других, сам наверно погибает. Ведь я — тоже человек и брат тебе. Понятно, что ты, как христианин, обладающий истиной, можешь и должен обратиться ко мне со словом увещания, укоризны, любовного наставления, но единственное чувство, которое тебе, как христианину, свойственно иметь ко мне, это — чувство жалости, но никак уже не то чувство, которое руководило в твоих обличениях... Кто из нас прав в различном понимании учения Христа, это знает только Бог. Но одно несомненно, в чем и ты, любезный брат, в спокойные минуты не можешь не согласиться, это — то, что основной закон Христа и Бога есть закон любви...
Нехорошо поступил ты, любезный брат, отдаваясь недоброму чувству раздражения. Нехорошо это для всякого человека-христианина, но вдвойне нехорошо для руководителя людей, исповедующих христианство. Пишу тебе с тем, чтобы просить тебя потушить в себе недоброе чувство ко мне, не имеющему против тебя никакого другого чувства, кроме любви и сожаления к заблуждающемуся брату...»
Отец не послал этого письма епископу, а послал его своей сестре Марии Николаевне.
Статьей «Не могу молчать» отец невольно вызвал еще больший интерес к своему юбилею. Его буквально засыпали приветствиями. Получено было более 500 телеграмм, бесчисленное множество писем, адресов, подарков.
Съехалась вся семья, за исключением Льва, который был в Швеции, близкие друзья, г. Райт, друг Черткова, который привез адрес из Англии, подписанный многими сотнями английских почитателей Толстого. В числе подписей стояли имена Томаса Гарди, Мередита, Уэльса, поэта Эдуарда Карпентера, Макензи Уоллеса, Бернарда Шоу, философа Фредерика Гаррисона, Кеннана и многих других. Получены были телеграммы от последователей Генри Джорджа из Америки, из Австралии, из народной среды Германии, от еврейских юношей. Целый ряд адресов был получен от: Общества любителей Российской Словесности, Общества деятелей периодической печати, Общества любителей художеств с альбомом рисунков известных русских художников, специально для него нарисованных, и др.
Очень трогательно было подношение отцу мельхиорового самовара от официантов одного клуба, с выгравированными на нем словами: «Царство Божие внутри вас есть», «Не в силе Бог, а в правде», «Не так живи как хочется, а как Бог велит». При самоваре было расшитое русское полотенце и трогательный адрес с подписями.
Какая-то фирма прислала коробки с папиросами с изображением отца на пачках. Мы отослали их обратно с письмом, говоря, что отец не может употреблять папирос, так как он против курения. Кондитерская Борман прислала целые короба конфект, которые я раздала детям на деревне, вместе с копеечным изданием народных сказов отца. Какая-то фирма прислала косы для крестьян Ясной Поляны, другая — вино «Saint Raphel», — «лучший друг желудка», название, вызвавшее много шуток и веселья среди молодежи.
Трудно перечислить те разнообразные слои общества, которые приветствовали отца. Тут были и ученые, и учителя и учительницы, студенты, гимназисты, рабочие, трактирные половые, профессора, лавочники, инженеры, техники, купцы, крестьяне, различные народности России — татары, латыши, финны, всевозможные сектанты, представители высшей аристократии и... православные священники.
«Великий писатель земли русской. Приветствую тебя. Да будет мир с тобою в знаменательный день юбилея твоего. Да простит тебе Господь грехи вольные и невольные и да хранит тебя Господь, дорогой граф, и милует в дни старости твоея». Подпись — «Священник».»7
А вот другое: «Богоискателю шлет привет католический ксендз».
Очень трогательны некоторые приветствия от крестьян:
«Шлю благодарность за ваш труд и любовь к народу. Золота я не имею, а если и найдется лепта для сооружения вашего памятника, то я уверена, что не хватит на всем земном шаре капитала купить те живые камни, что вы ковали для своего памятника, ибо эти камни есть живые слова, которые останутся в сердцах людей. Слово ваше не умрет во веки веков. С почтением остаюсь вас уважающая по убеждению христианка, а по званию крестьянка»8.
«Будь здоров, дорогой дедушка, для счастья народов, — пишет рабочий. — Для меня и для многих других людей вы уже, дорогой дедушка, никогда не умрете»9.
«Не молчи, Богом вдохновляемый старец, и живи много лет», — писал другой крестьянин10.
Были письма и ругательные. Среди них было, от 3 сентября, письмо за подписью «Русская мать».
«Граф. Ответ на ваше письмо. Не утруждая правительство, можете сделать это сами, не трудно. Этим доставите благо нашей родине и нашей молодежи»".
«Русская мать» прислала отцу запакованную в ящике веревку.
День своего юбилея отец провел по обыкновению. Утром работал, за завтраком принял поздравления друзей и часа на два я вывезла его в залу к гостям. Вечером Гольденвейзер играл его любимого Шопена.
Не только ответить, но даже прочитать многочисленные приветствия отец был не в состоянии. Моя мать и наш друг Хирьяков разобрали все поздравления и дали отцу прочитать самые интересные и трогательные.
«В эти последние дни, — писал отец в письме в газеты, — около 28-го августа, я получил такое количество всякого рода выражений сочувствия, которого никак не ожидал и — опять повторяю — совершенно искренно убежден, что не заслуживаю. Выражение этих чувств доставило мне одну из величайших радостей, испытанных мною в жизни. И потому считаю себя нравственно обязанным выразить хоть в малой степени, как сумею, мою благодарность всем тем людям, которые доставили мне эту радость... Письма эти были самые разнообразные, с самых разных концов России, и все, очевидно, имели целью только одно: выражение согласия — не со мною, а с теми истинами, которые мною кое-как были намечены и выражены. Это была для меня большая радость, за которую я выражаю свою благодарность — не ту благодарность, которую из учтивости и приличия выражают в подобных случаях, но ту истинную благодарность, которую я не могу не чувствовать, за ту неожиданную и незаслуженную радость, которую я испытал в эти дни. — Благодарю и всех тех, которые писали мне, и тех милых людей, которые своими подарками, как петербургские официанты, приславшие мне в подарок прекрасный самовар с надписями, и рабочие и некоторые другие, которые меня особенно тронули. Прошу простить меня за то, что я, несмотря на то, что очень желал бы этого, не могу отвечать отдельно многим и многим из обращавшихся ко мне, и прошу их принять мою искреннюю благодарность».
Хотя я и боролась с этим чувством, все же я ревновала отца к Гусеву.
Я знала, что он помогал отцу лучше, чем я. Он знал стенографию — я ее не знала. Он знал учение Ку Хунг Минга и Конфуция, я — нет. Гусев рассуждал об индейской мудрости — я же только знакомилась с ней. Гусев все знал о присоединении Боснии и Герцеговины — я же, хотя и переписывала письмо отца «Сербской женщине», имела очень смутное понятие о политическом положении Сербии. Я любила под аккомпанемент гитары петь с Анночкой цыганские романсы, Гусев же, с трудом подавляя в себе грешные чувства, — ему нравилось наше пенье — * запечатлевал» страстные слова романсов, чтобы показать «потомству», в какой грешной обстановке приходилось жить Толстому.
Я очень любила животных. У меня был большой черный пудель Маркиз с человеческим разумом, и серый попугай с розовым хвостом и человеческим разговором. Обоих я обожала. А попугай за меня мстил Гусеву.
Когда Гусев, со всегдашней улыбкой L'homme qui rit («человек который смеется»), садился мне диктовать, я отворяла клетку и пускала попугая на свободу. Гусев, увлеченный не то статьей о Боснии и Герцеговине, не то борьбой с грешными чувствами, не замечал, как тихо подкрадывался к нему попугай и всползал на его ногу — выше, выше. Гусев боялся его тронуть, боялся двинуться: «Снимите вашу окаянную птицу!» — кричал он мне. А попугай, умостившись у Гусева на коленях, с криком: «ах, ах, ах ха!» — изо всей мочи долбил Гусева в колено. «Больно же! — кричал Гусев. — Больно! Снимите его!»
Но, сделав свое дело, попугай уже спускался на пол. «Дурак! — кричал он Гусеву вслед. — Дурак!» Он уже карабкался на меня и, умостившись на плече, терся головкой о мою щеку. «Дай лапочку, — ласково ворковал он, — дай головоч-ку-поцеловочку». — «Мерзкая птица», — ворчал Гусев, потирая колено.
Все любили моего пуделя Маркиза, даже моя мать, вообще не любившая собак. Одна из любимых моих игр с Маркизом — это игра в прятки. Я прятала футляр от очков на шкапы, в диван, в карман отца. Пудель бегал по комнате, нюхая воздух, вскакивая на столы, стулья и, к всеобщему восторгу, залезал отцу в карман и бережно вытаскивал оттуда футляр... Вероятно, толстовцы презирали меня, сожалели, что у Толстого такая легкомысленная дочь. А отец любил Маркиза и поражался его уму. Но откуда же у меня была эта любовь к спорту, к лошадям, к собакам, жизнерадостность, даже задор? Усматривали ли «темные» эти черты в своем учителе? Чувствовали ли они всю силу его любви и понимания жизни во всей ее безграничной широте? Отец прощал мне мою молодость. Он сам радовался уму, горячности, чуткости своего верного коня Дэлира. Бережно нес Дэлир своего хозяина зимой, ступая верной ногой по снежной или скользкой дороге, летом — осторожно ступая по вязким болотам, через лесные заросли. Отец любил сокращать дороги и пускал коня целиной, по снегу, и когда Дэлир утопал в сугробах по брюхо, отец слезал, закидывал уздечку за стремена и пускал лошадь вперед протаптывать путь, и Дэлир, выбравшись на дорогу, останавливался н, повернув свою породистую арабскую голову, кося умным, выпуклым глазом, ожидал своего хозяина.
Неужели жизнь не может быть радостью, а надо вечно в чем-то каяться, мучиться? Иногда я мечтала: у нас с отцом маленький домик в деревне. Отец работает по утрам, я убираю дом, чищу, мою, готовлю, у нас огород, одна корова, несколько кур, вечером я ему переписываю... Ну, а что же будет с матерью? Она
не согласится так жить. Она поселится рядом с врачами, лакеями, горничными. Поселится с другой стороны Чертков с «помощниками», фотографами... Опять начнут записывать, запечатлевать, снимать... Уйти отец не сможет... Славой своей связал он себя, люди никогда не оставят его в покое, он нужен им, без него — они ничто. В такие минуты пропадала моя жизнерадостность — я знала, что исхода не было.
В конце декабря 1908 года в Ясную Поляну приехал Репин с Нордман-Северовой. Оба они были строгие вегетарианцы. Для Нордман вегетарианство было культом — она ела всякие травы, придумывала замысловатые блюда, крутящийся стол с вегетарианскими кушаньями, чтобы обходиться без прислуги. Отцу все это казалось слишком сложным и искусственным. Неприятно было ему и положение Нордман. «Как мне ее называть? — говорил он. — Жена Репина? Нет, у него была другая жена. Сожительница? Грубо». И вдруг он радостно рассмеялся. «Знаю, знаю, как бы в народе сказали: Репинская хозяйка».
На Рождестве я устроила елку для крестьянских ребят и мы все очень веселились, отец взял за руки ребят, устроили хоровод вокруг елки, пели, плясали, роздали всем подарки. Отец изредка нагибался к ребятам. «Ты чей? — спрашивал он. — Резунов?» — «Резунова Павел», — отвечал мальчик. «Внук Семена?» И получив утвердительный ответ, отец радостно улыбался. «До чего сильно семейное сходство, дед его у меня в школе учился. А вот эта черноглазая с вздернутой губой, наверное, Макарова». И он опять угадывал.
В конце января 1909 года в Ясную Поляну приехал Тульский архиерей, Владыка Парфений, в сопровождении двух священников и полиции. Когда отец вошел в залу, архиерей сам первый протянул отцу руку, не ожидая, что отец подойдет под благословение. Отец решил быть очень любезным с епископом.
«После общих незначительных разговоров, — писал отец, — я пригласил его к себе и сказал ему, что я получаю много писем и посещений от духовных лиц, и что я всегда бываю тронут добрыми пожеланиями, которые они высказывают, и также его посещением, но очень всегда сожалею, что для меня невозможно, как взлететь на воздух, — исполнить их желания.
Потом я сказал ему: одно мне неприятно, что все эти лица упрекают меня в том, что я разрушаю верование людей. Тут большое недоразумение, так как вся моя деятельность в этом отношении направлена только на избавление людей от неестественного и губительного состояния отсутствия всякой, какой бы то ни было, веры. Между прочим, я, в доказательство этого, прочел ему из составленного мною «Круга чтения» 20-е января, тот день, в который случайно состоялось наше свидание. В этом дне были прекрасные места из Чаннинга, Эмерсона, Торо и особенно Канта».
После чтения «Круга чтения» беседа продолжалась.
«Я видел, что это чтение произвело на него хорошее впечатление, что мне было очень приятно. Но, несмотря на то, он все-таки высказал мне упрек в том, что моя деятельность разрушает веру людей. Тогда я рассказал ему давнишний случай, очень ничтожный по внешности и очень важный по внутреннему для меня смыслу.
Я поздно ночью, зимой, пошел пройтись, и идя по деревне, где все огни были уже потушены, проходя мимо одного дома, в котором светился огонь, заглянул в окно и увидал стоящую на коленях и молящуюся старуху Матрену, знакомую мне в ее молодости, одну из самых порочных, развратных баб деревни. Меня поразил
этот внешний вид ее молитвенного состояния. Я посмотрел, пошел дальше, но, вернувшись назад, заглянул в окно и застал Матрену в том же положении. Она молилась и клала земные поклоны н поднимала лицо к иконам.
Вот это — молитва. Дай Бог нам всем молиться так же, т. е. сознавать так же свою зависимость от Бога, — и нарушить ту веру, которая вызывает такую молитву, я бы счел величайшим преступлением... Да это и невозможно. Никакие мудрецы не могли бы сделать этого. Но не то с людьми нашего образованного состояния — у них или нет никакой веры, или, что еще хуже, — притворство веры, веры, которая играет роль только известного приличия.
И потому я считал и считаю необходимым указывать всем, у которых нет веры, что человеку без этого жить нельзя, а тех, у которых вера ложная, внешняя — освобождать от того, что скрывает для них необходимость истинной веры.
Архиерей ничего не возразил на это, но повторил, что нехорошо разрушать веру»1.
В феврале к отцу приехал магометанин из казанских татар, Вайсов, последователь секты Багая. Отец заинтересовался им и долго с ним беседовал. Основная мысль Ваисова — признание необходимости одной религии.
«В сущности, когда опомнишься, — говорил отец, — то всегда удивляешься, как это такое простое рассуждение не приходит в голову: живет православный, католик, буддист, люди верят в это, считают истиной, а перейти известную границу, — считают что это ложь, а то истина. Как это не заставит усумниться, как это не искать эту, общую всем, религию»2.
Если глубоко вдуматься в значение этих слов, становится ясным, почему отец последние годы посвятил на собирание воедино того, что он считал основным руководством жизни человеческой: составление сборников — «Мысли мудрых людей», затем «Круг чтения», «На каждый день» и «Путь жизни». Это, несомненно, была попытка, выбрав основное из всех религий и величайших мыслителей мира, положить начало одной религии.
В начале марта отец снова захворал воспалением вен на левой ноге. Мы с Душаном умоляли его лежать с приподнятой ногой и не двигаться. Временами настроение его было очень тяжелое.
Участились отказы от воинской повинности. Отца мучило преследование правительством его друзей. Он снова просил арестовать его, автора статей, за распространение которых преследовались его единомышленники. Но правительство продолжало свою тактику: Черткову было объявлено постановление о высылке его в трехдневный срок из Тульской губернии «за вредную деятельность». У Бирюкова в Костромской губ. был сделан обыск и ему было предъявлено обвинение за хранение и распространение запрещенной литературы.
Несмотря на то, а может быть именно потому, что моя мать не любила Черткова и ревновала отца к нему, она, как это было во время голодного года с отлучением отца от церкви Синодом, со свойственной ей горячностью и экспансивностью, неожиданно написала статью в газеты с протестом против высылки Черткова. Письмо это было напечатано не только в русских газетах, но и в заграничных, в том числе и в лондонском «Таймсе». Злые языки говорили, что брат Андрей и наша соседка Звегинцева сыграли большую роль в высылке Черткова, прося тульские власти раскассировать вредное гнездо «революционе-
ров», как она называла толстовцев, свивших свое змеиное гнездо по соседству от нее в Телятинках.
В конце мая отца навестил знаменитый ученый И. И. Мечников с женой. Разумеется, не обошлось и без корреспондентов, которые жадно следили за всем происходившим в Ясной Поляне.
«Приехал Мечников и корреспонденты, — записал отец в дневнике от 30 мая. — Мечников приятен и как будто широк. Не успел еще говорить с ним». Отец был в прекрасном настроении и с свойственной ему светской любезностью принял гостя. Мечников сразу почувствовал себя легко и просто. Отец сам повез гостя в двуместном шарабане к Чертковым. Дорогой разговор коснулся отцовских художественных произведений. Мечников был поражен, когда, на выраженный им восторг по поводу «Войны и мира» и «Анны Карениной», отец ответил, что он не только совершенно равнодушен к ним, но и совершенно забыл их содержание. Когда Мечников говорил о вреде алкоголя и курения, отец вполне соглашался с ним, но подход их к этим вопросам так же, как и к вегетарианству, был совершенно разный. Мечников подходил к ним исключительно с точки зрения науки и гигиены, а не нравственности, и утверждение его, что человек может продлить себе жизнь и что он лично намерен прожить больше ста лет, показалось отцу циничным и несерьезным.
В дневнике от 31 мая отец дал такой отзыв о Мечникове:
«Мечников оказался очень легкомысленный человек — арелигиозный. Я нарочно выбрал время, чтобы поговорить с ним один на один о науке и религии. О науке ничего, кроме веры в то состояние науки, оправдания которого я требовал. О религии умолчание. Очевидно, отрицание того, что считается религией, и непонимание и нежелание понять того, что такое религия».
В самом начале июня отец получил телеграмму от Генри Джорджа-сына, который просил разрешения приехать в Ясную Поляну. «Мысль о свидании с сыном одного из самых замечательных людей XIX века», как писал отец, так взволновала и вдохновила его, что он в тот же день написал краткую статью об едином налоге, как единственном средстве разрешения земельного вопроса.
Свидание это было очень трогательное. Генри Джордж-сын поражался, как он говорил корреспондентам, удивительной памятью, бодростью отца, его глубоким знанием книг Джорджа, его обаянием любовью к природе и отсутствием страха перед смертью.
Прощаясь с Джорджем, отец сказал: «Мы с вами не увидимся больше; скажите, какое поручение даете вы мне на тот свет для вашего отца». Скажите ему, — ответил Джордж, — что я продолжаю его дело»3.
Нелегко было отцу в Ясной Поляне, и брат Лев, живший у нас, не облегчал положения. Нервный, суетливый, он вечно метался, увлекаясь то музыкой, то литературой, надумывал свои теории гигиены. Он рассуждал о серьезных вещах с безапелляционной самоуверенностью, не продумав вопроса, часто себе противореча. Нужно было иметь всю кротость и терпение отца, чтобы переносить заявления Льва, вроде того, что крестьянам земля не нужна, что порядок не может быть установлен без смертной казни и т. п. От всего этого отец устал, и решил поехать отдохнуть к Сухотиным. Лёва лепил бюст отца и очень обиделся, что отец уехал, не дав ему закончить. Но отцу хотелось, кроме того, повидаться с Чертковым, которому, несмотря на прошение, поданное на высочайшее имя, был окончательно запрещен въезд в Тульскую губернию.
Имение Сухотиных было как раз на границе Орловской губернии. Таня сняла для Черткова избу в деревне в Орловской губернии, в 4 верстах от имения Сухотиных, куда отец ездил, чтобы повидать Черткова. Он пробыл бы дольше у Тани, если бы моя мать не настаивала на его возвращении.
Стражники продолжали наводить порядок. Один раз, проходя мимо большого пруда, я услышала крики и увидала, что на берегу собрались мужики и бабы. Подойдя ближе, я увидела знакомого крестьянина. Стражник его арестовал за то, что он бреднем ловил в пруду рыбу. Крестьянин весь мокрый, посиневший, с подсученными штанами, силился объяснить, что он на крестьянской, а не на «барской» стороне ловил рыбу. Но стражник вырвал у него бредень и несколько раз ударил его нагайкой.
Кровь бросилась мне в голову. «Мерзавец! — Как вы смеете его бить» — не помня себя от гнева, крикнула я. Стражник что-то нагло ответил. Но я стала между ним и крестьянином и ему пришлось отступиться. Но как только я ушла, он арестовал крестьянина и мокрым продержал его еще два часа под арестом, пока моя мать, узнав о происшедшем, не распорядилась его отпустить.
Вскоре после этого я получила повестку — меня привлекали к ответственности за оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей, и в Ясную Поляну приехал становой. Я не стала с ним разговаривать и просила ему передать, что если полиция считает меня виновной, то пусть меня судят. Составили протокол, а на другой день я уехала к губернатору, не застала его, и меня принял вице-губернатор Лопухин. Дело замяли и вскоре после этого стражников убрали из Ясной Поляны.
Вместо стражников появился объездчик — лихой, затянутый в черкеску, в заломленной на затылок барашковой шапке, черкес с нагайкой...
Чтобы понять то, что случилось в этот последний год жизни отца и
подготовлялось годами, надо вернуться назад к 80-м годам, когда жизнь нашей семьи пошла по двум рельсам.
Вот что писал отец матери в 1885 году по этому поводу:
«...Так как нельзя вырвать из меня того, чем я живу и вернуть меня к прежнему, то как... уничтожить те страдания мои и ваши, происходящие от моего неизлечимого сумасшествия? Для этого, признавая мой взгляд истиной или сумасшествием, есть одно только средство: вникнуть в этот взгляд, рассмотреть, понять его. И это то самое, по несчастной случайности, о которой я говорил, не только никогда не было сделано тобой, а за тобой и детьми, но этого привыкли опасаться. Выработали себе прием забывать, не видать, не понимать, не признавать существования этого взгляда, относиться к этому, как к интересным мыслям, но не как ключу для понимания человека.
Случилось так, что, когда совершался во мне душевный переворот и внутренняя жизнь моя изменилась, ты не приписала этому значения и важности, не вникая в то, что происходило во мне, по несчастной случайности, поддаваясь общему мнению, что писателю-художнику, как Гоголю, надо писать художественные произведения, а не думать о своей жизни и не исправлять ее, что это есть что-то вроде дури или душевной болезни; поддаваясь этому настроению, ты сразу стала в враждебное отношение к тому, что было для меня спасением от отчаяния и возвращением к жизни...
Писание же мое есть весь я. В жизни я не мог выразить своих взглядов вполне, в жизни я делаю уступку необходимости сожития в семье; я живу и отрицаю в душе всю эту жизнь, и эту-то не мою жизнь вы считаете моей жизнью, а мою жизнь, выраженную в писании, вы считаете словами, не имеющими реальности. Весь разлад наш сделала та роковая ошибка, по которой ты 8 лет тому назад признала переворот, который произошел во мне, переворот, который из области мечтаний и призраков привел меня к действительной жизни, признала чем-то неестественным, случайным, временным, фантастическим, односторонним, который не надо исследовать, разобрать, а с которым надо бороться всеми силами. И ты боролась 8 лет, и результат этой борьбы тот, что я страдаю больше, чем прежде, но не только не оставляю принятого взгляда, но все дальше иду по тому же направлению а задыхаюсь в борьбе и своим страданием заставляю страдать вас...
Вы ищите причину, ищите лекарство. Дети перестанут объедаться (вегетарианство). Я счастлив, весел (несмотря на отпор, злобные нападки). Дети станут убирать комнату, не поедут в театр, пожалеют мужика, бабу, возьмут серьезную книгу читать — я счастлив, весел, и все мои болезни проходят мгновенно. Но ведь этого нет, упорно нет, нарочно нет. Между нами идет борьба насмерть — божье или не божье...»
С годами шире делалось расхождение, острее становилась борьба, безнадежнее взаимное понимание. «Все тяжелее и тяжелее становится видеть рабов, работающих на нашу семью». Отца удручала бедность кругом, роскошь нашей жизни, суета, пустота, праздность. «Мне дурно жить, потому что жизнь дурна. Жизнь дурна, потому что люди, мы живем дурно», — писал он. Выхода не было...
Как трудно бывает поверить в душевную болезнь близкого человека, особенно если создалась многолетняя привычка к признанию авторитета и власти этого человека.
Если бы я поняла тогда, что моя мать больна, все отношение мое к ней было бы другим. И было бы легче. Но люди много опытнее и умнее меня не могли этого понять...
С каждым днем моя мать становилась все нервнее. Все раздражало ее, вызывало слезы, истерику, вспышки гнева. Причины были разнообразные и необъяснимые. Интересы ее продолжали скользить по поверхности; то она засушивала цветы, то рисовала, то, неизвестно почему, начинала мыть, заклеивать на зиму оконные рамы, то писала свои воспоминания. Когда она входила в комнату, где разговаривали, все внутренно сжимались, ожидая неприятного замечания. Всё болезненно ее нервировало. Свойство ее, над которым еще в молодости подтрунивала ее сестра Таня — жалость к себе и убеждение, что она несчастная жертва, — обострилось до предела.
В начале июля отец получил приглашение поехать на 18-й конгресс мира в Стокгольм. Он знал, что только он один мог бы сказать голую правду о недопустимости войны и всеобщем разоружении — только его одного выслушали бы, и он считал своим долгом это сделать. Но когда отец объявил о своем намерении, мать решительно заявила, что не пустит его. Способы, которые она употребляла, чтобы удержать его от этой поездки, были недопустимы. Она кричала, плакала, грозила, что убьет себя.
«Я не мог заснуть до двух и дольше, — писал он в дневнике. — Проснулся слабый, меня разбудили. С. А. не спала всю ночь. Я прошел к ней. Это было что-то безумное... Я устал и не могу больше, и чувствую себя совсем больным. Чувствую невозможность относиться разумно и любовно, полную невозможность. Пока хочу только удаляться и не принимать никакого участия. Ничего другого не могу, а то я уже серьезно думал бежать. Ну-т-ка покажи свое христианство, C'est le moment ou jamais (теперь или никогда). А страшно хочется уйти. Едва ли в моем присутствии здесь есть что-нибудь, кому-нибудь нужное. Тяжелая жертва и во вред всем. Помоги, Бог мой, научи. Одного хочу — делать не свою, а Твою волю».
Через несколько дней он снова записал: «После обеда заговорил о поездке в Швецию, поднялась страшная истерическая раздраженность. Хотела отравиться морфием, я вырвал из рук и бросил под лестницу. Я. Боролся. Но когда лег в постель, спокойно обдумал, решил отказаться от поездки. Пошел и сказал ей. Она жалка, истинно жалею ее. Но как поучительно. Ничего не предпринимал, кроме внутренней работы над собой. И как только взялся за себя, все разрешилось».
Возбуждение матери по поводу желания отца ехать в Стокгольм совпало с другим событием. Она намеревалась возбудить судебное дело против издателей, напечатавших произведения отца, но не была уверена, имеет ли она на то право.
В это лето у нас гостила младшая дочь тетеньки Марии Николаевны, Леночка со своим мужем — председателем Судебной палаты в Новочеркасске — и двумя прелестными детьми.
Моя мать просила Денисенко дать ей юридическую справку: имеет ли силу старая доверенность отца на право издания и продажи его сочинений. Когда Денисенко дал ей отрицательный ответ, мать снова вышла из равновесия: «Тебе все равно, что семья пойдет по миру, — кричала она отцу. — Ты все права хочешь отдать Черткову, пусть внуки голодают!»
У Андрея, Ильи были долги, они постоянно просили мать помочь им, это тоже действовало ей на нервы. Андрей отдал свое имение первой жене Ольге, где она и жила со своими детьми, Соничкой и Илюшком, денег у него не было, он
служил, но жалованья ему никогда не хватало. У Ильи была большая семья, он был непрактичен, хозяйство не приносило дохода. И моя мать стала настойчиво требовать, чтобы отец передал ей все права на его сочинения, в чем он решительно ей отказывал. Мать возмущалась, что отец передавал Черткову свои рукописи, копии дневников. Она волновалась, что не получит права на издание неизданных сочинений, написанных после 1881 года. Нервное напряжение в доме дошло до крайних пределов. Отец не знал покоя ни днем, ни ночью. Моя мать перешла все границы нормального. Она плакала, врывалась к нему в комнату среди ночи, кричала, что он убивает ее. В своей болезненной одержимости она не сознавала, что не только порывает последнюю нить, связывающую его с нею, но и систематически сокращает жизнь отца.
Чертков не бывал в Ясной Поляне. Видя как С. А. раздражалась от каждого его приезда, отец просил его не приезжать. Он писал Черткову:
14 июля. «Вы поймете, милый друг, всю тяжесть приносимой мною жертвы лишения личного, надеюсь временного, лишения общения с вами, но знаю, что вы любите не меня, Льва Николаевича, а мою душу. А моя душа — ваша душа, и требования ее одни и те же»...
16 июля. «Нынче с утра мечтал о том, что поеду к вам, если меня пустят, т. е. сама Софья Андреевна скажет об этом. Но она торопилась, уезжая и ничего не сказала, и я нынче не приеду, се qu'est retarde n'est pas perdu*. До другого раза... В том, что меня не пустила нынче к вам Софья Андреевна, было бы что-то унизительное, стыдное, если бы я не знал, что не пускает меня нынче к вам не Софья Андреевна, а Бог...
«Если бы она (жена) знала и поняла, как она одна отравляет мои последние часы, дни, месяцы жизни...» — записал отец в дневнике 12 июля.
Она не хотела, не могла этого понять. Она не представляла себе, что отец так близок к уходу, близок к тому, чего она больше всего боялась — передаче прав на свои книги в общее пользование.
Бедный председатель суда, добрейший Денисенко, оказался между двух огней. Отец обратился к нему с просьбой составить формальное завещание, в котором отец отказывался бы от права собственности на свои сочинения.
Я видела, какая непрестанная борьба шла в душе отца. Он ждал того же от меня, терпимости, любви, того, к чему я совсем не была готова. «Кому больше дано, с того больше и спрашивается», — постоянно говорил он мне. «Не дано, папаша, — говорила я ему, — не могу...» «А ты постарайся через не могу...» Но даже и он не всегда мог.
«Жил дурно, все это время — был недобр, — снова писал он Черткову 2 августа, — А как только нет любви — нет радости, нет жизни, нет Бога. Одна дырочка в ведре, и вся вода вытечет... Да, Бог — любовь, это для меня такая ясная, несомненная истина, но в последнее время я все яснее и яснее не то что вижу, но чувствую всем существом, что проявлять любовь в жизни, нам, дрянным людям, да еще с еще более дрянным, гадким прошедшим, нелегко, а что тут на каждом шагу дилеммы, и во имя любви: исполнишь одно требование любви, нарушишь другое. Одно спасение: жить только в настоящем, нести крест на каждый день, час, минуту. А я плох, и все больше и больше хочется умереть. Прежде хотелось по вечерам, а теперь и по утрам. И это мне приятно. Не думайте, что я жалуюсь вам. Не имею ни права, ни желания, большей частью только благодарен, особенно когда один».
* Что отложено — не потеряно (фр.).
Хотя отец, уступив матери, решил не ехать в Стокгольм, он все же торопился закончить свой доклад для всемирного Конгресса. Но Конгресс был отложен из-за забастовки рабочих в Швеции. А когда Конгресс состоялся, доклад Толстого даже не огласили. Отец был разочарован. «Везде ложь, — говорил он. — Люди боятся правды, отвыкли от нее. С одной стороны, собрались для того, чтобы установить мир... а рассуждают об усилении вооружения».
Когда в Ясную Поляну приехала тетенька Мария Николаевна, стало много легче. Тетенька не вмешивалась в семейные дела, но одно присутствие ее сдерживало мою мать. Мы все вздохнули.
Как-то вечером приехал Гольденвейзер и отец сел с ним играть в шахматы. Вдруг сердито залаял мой пудель Маркиз, у подъезда затарахтели колеса. К дому подъехали исправник, становой, стражники. Все в доме заволновались. Оказалось, что приехали арестовать Гусева. В бумаге, которую отец потребовал от станового, было объявлено, что Гусева ссылают на два года в Чердынь, Пермской губернии, за «революционную» деятельность. Сбежались все домашние, служащие, отец прошел с Гусевым в кабинет. Ему дали полчаса на сборы. Гусев наскоро сдавал бумаги, укладывал вещи. Отец молчал, только лицо его было бледнее обыкновенного. Я сунула Гусеву в чемодан «Войну и мир», которой он никогда не читал, как произведение художественное, не имевшее, с его точки зрения, религиозно-философского значения. «Это скрасит вам дорогу», — шепнула я ему. Отец обнял, поцеловал Гусева и молча, глотая слезы, пошел наверх. Дрожки отъехали.
«Тьфу! — плевалась тетенька-монахиня вслед отъезжавшей полиции, — За что они арестовывают такого доброго человека! Тьфу! тьфу!».
В дневнике отец писал:
«Вчера вечером приехали разбойники за Гусевым и увезли его. Очень хорошие были проводы: отношения всех к нему и его к нам. Было очень хорошо. Об этом нынче написал заявление».
«Вчера, в 10 часов вечера, подъехали к нашему дому несколько человек в мундирах и потребовали к себе помощника в моих занятиях, Николая Николаевича Гусева, — говорилось в этом.заявлении. — ...Один из них, исправник, в ответ на мой вопрос, вынул из кармана небольшую бумагу и с торжественным благоговением прочел мне заключающееся в бумаге решение министра внутренних дел о том, что для блага вверенного его попечению русского народа, по 384-й или еще какой-то статье (хотя казалось бы, что для того, чтобы делать то, что они делали, не нужно было ссылаться ни на какие статьи), Н. Н. Гусев должен быть за распространение революционных изданий взят под стражу и сослан по каким-то известным и понятным министру внутренних дел соображениям, именно в Чердынский уезд Пермской губернии, и по тем же соображениям именно на два года...
Один только виновник этого возбуждения, сам Н. Н., был радостен и спокоен и со свойственной ему добротой и заботой о других, а не о себе, спешил приводил в порядок мои дела, так как сроку приготовиться к отъезду ему дано было не более получаса...
Надо было видеть, как провожали Гусева и все наши домашние, и все случайно собравшиеся в этот вечер в нашем доме знакомые, знавшие Гусева. Одно у всех, от старых до малых, до детей и прислуги, было одно чувство уважения и любви к этому человеку и более или менее сдерживаемое чувство негодования против виновников того, что совершалось над ним...
И этого-то человека — доброго, мягкого, правдивого, врага всякого насилия, желающего служить всем и ничего не требующего себе, — этого человека хватают ночью, запирают в тифозную тюрьму и ссылают в какое-то, только тем известное ссылающим его людям место, что оно считается ими самым неприятным для жизни...»
Заявление это было напечатано почти во всех русских газетах.
Отец был слаб физически, но люди этого не сознавали и шли к нему непрекращающейся вереницей, и с каждым из них он находил точки соприкосновения. С художником Пархоменко, писавшим его портрет, он говорил об искусстве. С членами Думы, Василием Маклаковым и др., приезжавшими к нему, отец развивал мысль о земельной реформе, о внесении в Государственную Думу проекта единого налога Генри Джорджа.
Отец устал, устал от неприятностей, от людей, ему хотелось видеть Черткова. Он был рад уехать из Ясной Поляны в подмосковное имение Крекшино, где жили Чертковы и где он надеялся отдохнуть в спокойной обстановке, отдохнуть от постоянных упреков, истерик...
С отцом поехали Душан, Илья Васильевич и я. Но не тут-то было... Покоя не было.
Несмотря на отрицательную телеграмму, которая была послана кинематографической фирме на их запрос — могут ли они приехать заснять отъезд Толстого, «Патэ-журнал» все же прислал фотографов и они снимали, спрятавшись в кусты, гнались за нами по дороге на станцию... В поезде к нам присоединился Гольденвейзер. В Москве, в Хамовниках, мы думали застать брата Сергея с женой, но их там не оказалось. Обед принесли из вегетарианской столовой, надеялись, что отец отдохнет. Но явился Спиро, корреспондент «Русского Слова», которое издавалось Сытиным. Не успел еще корреспондент раскрыть рот, для того чтобы задать вопросы, как отец, с неожиданной суровостью, напустился на его патрона.
«Скажите своему ужасному Сытину, — сказал он, — что я глубоко возмущен. Почему он задерживает печатанье «На каждый день», «Посредник» давно напечатал бы...»
Вероятно, Спиро ничего не знал о последнем сборнике «На каждый день», составленном отцом. Почему-то Чертков, против желания отца, отдал его не «Посреднику», а Сытину, затягивавшему невыгодное для него, с коммерческой точки зрения, издание.
Гольденвейзер рассказал отцу об изумительном изобретении пианино «Миньон», точно воспроизводящем игру пианистов, и утром мы всей гурьбой — Чертков, который к нам присоединился, отец, Гольденвейзер и я — поехали в музыкальный магазин Циммермана, где отцу устроили торжественную встречу.
Управляющий магазина был настолько любезен, что прислал инструмент к Чертковым в деревню, где отец наслаждался музыкой Шопена, Штрауса и др., в исполнении лучших пианистов мира. Кроме того, в Крекшино приезжали скрипачи Сибор и Могилевский, а под конец приехал квартрет, который играл отцу его любимые произведения Гайдна, Моцарта, Бетховена.
Все это были милые люди, доставлявшие большое удовольствие отцу, он был окружен близкими ему по духу людьми, но настоящего отдыха не было. Из соседних школ пришла группа учителей, которые беседовали с отцом о его взглядах на школьное воспитание, приходили крестьяне из соседних деревень, приезжали люди из Москвы...
А через несколько дней приехала моя мать. У Чертковых ей все не нравилось: «темные», окружавшие отца, общий стол, где Илья Васильевич сидел вместе с ней. Нервы ее были в ужасном состоянии.
Трудно себе представить, что было бы, если бы она узнала, что здесь, в Крекшине, отец решил написать завещание. В этом завещании отец отказывался от прав на сочинения, написанные им после 1881 года, в пользу всех, кто только желал бы их напечатать, и право редактирования предоставлял Черткову. Я переписала это завещание, отец и три свидетеля подписали его. Я дала копию Черткову, оставила у себя оригинал, и Чертков просил меня зайти в Москве к присяжному поверенному Муравьеву, чтобы узнать, имеет ли такое завещание юридическую силу.
От Чертковых отец хотел ехать прямо в Ясную Поляну, не заезжая в Москву. Но и это его желание вызвало протест, слезы и упреки со стороны матери. Почему-то она настаивала, чтобы отец на один день остановился в Москве.
Я боялась этой остановки. Весть, что Толстой в подмосковном имении у Черткова, молниеносно разнеслась по Москве. Корреспонденты, фотографы буквально не давали ему прохода. Опять на станциях щелкали фотографические и киноаппараты. На Брянском вокзале нас встречала толпа, по пятам отца следовала группа корреспондентов, ловя налету каждое его слово, усиленный наряд полиции, городовые почтительно отдавали отцу честь.
В Хамовническом доме нас встретил брат Сергей с женой. Пришли друзья — Маклаков, Дунаев, Гольденвейзер; Сережа с женой кормили нас обедом, угощали чаем. Когда заговорили о кинематографе, отец спросил: «А почему бы нам не пойти в кино?». Мы, особенно я, очень обрадовались. Но, как на грех, показывали глупейшую картину. Помню, выходя из кино, отец сказал: «Какое это могло бы быть могучее средство для школ, изучения географии, жизни народов, но... его опошлят, как и все остальное».
На другой день я побежала к присяжному поверенному Муравьеву с подписанным отцом завещанием. Муравьев внимательно его прочел, сказал, что оно не имеет никакого веса — нельзя оставлять права на сочинения всем... Он обещал подумать и приготовить завещание, которое имело бы юридическую силу.
Между тем надвигалось то, чего я так боялась — отцу готовили манифестацию. Безостановочно звонил телефон с одним и тем же вопросом: с каким поездом едет в Ясную Поляну Толстой? И когда я не давала определенного ответа, моя мать сердилась и отвечала сама, указывая точно время отхода поезда. Она не разделяла моего беспокойства. Я же вспоминала манифестацию в Харькове и становилось страшно.
На другое утро мы выехали со двора Хамовнического дома в ландо, запряженном парой лошадей — отец, мать и я.
У наших ворот уже стояла небольшая группа людей. Увидав отца, старый военный снял фуражку и низко, в пояс, поклонился отцу.
Подъехать к самому Курскому вокзалу нам не удалось. Площадь была заполнена народом, тысячи, может быть, десятки тысяч людей ждали отца. Коляска остановилась, заколыхалось море голов, все обнажили головы. Отца встретил Маклаков, и мы направились к дверям вокзала, но идти нельзя было... Студенты сделали цепь, но толпа прорвала ее. В дверях вокзала нас сжали, нечем было дышать. Я старалась заслонить отца, но чувствовала, что даже мои широкие плечи не в силах сдержать натиск толпы. Маклаков и громадного роста жандарм с трудом осаживали толпу. При выходе на платформу тот же ужас, нас втиснули в двери, сжали, был момент, что казалось нас раздавят, сплющат, но толпа вытеснила, вынесла нас на платформу. Здесь люди висели на столбах, взгромоздились на крыши вагонов...
Мы с трудом провели отца в вагон, он был бледен, как полотно, тряслась нижняя челюсть. Поезд тронулся, толпа бросилась за ним, кричали, махали платками. Он стоял у окна и кланялся.1
Чертков провожал нас до Серпухова. Отец лег отдохнуть, но вскоре мы заметили, что сон перешел в обморочное состояние. Он был бледен, пульс едва прощупывался. Мы думали, что он умирает.
На станции нас ждали лошади. Под руки провели отца, усадили его в пролетку... Но и дома он не приходил в себя, сидел в кресле, говорил какие-то непонятные слова. Мы с Душаном уговаривали его лечь, но он просил оставить его в покое.
— Лёвочка, — тормошила его мама, — Левочка, где ключи?
— Не понимаю... зачем?
— Ключи, ключи от ящика, где рукописи!
— Мама, оставь пожалуйста, не заставляй его напрягать память... Пожалуйста!
— Но ведь мне нужны ключи, — говорила она в волнении, — он умрет, а рукописи растащат...
— Никто не растащит, оставь, умоляю тебя!
Мы с Душаном продолжали раздевать его и почти на руках отнесли на кровать. Опустили голову, клали горячие мешки, Душан Петрович делал подкожное вспрыскивание.
Только глубокой ночью он пришел в себя.
1 ноября 1909 года отец подписал новое завещание, составленное адвокатом Муравьевым.
Вначале отец думал оставить права на все свои сочинения нам троим, более близким ему, Сереже, Тане и мне, чтобы мы в свою очередь передали эти права на общее пользование. Но один раз, когда я утром пришла к нему в кабинет, он вдруг сказал: «Саша, я решил сделать завещание на тебя одну» — и вопросительно поглядел на меня.
Я молчала. Мне представилась громадная ответственность, ложившаяся на меня, нападки семьи, обида старших брата и сестры, и вместе с тем в душе росло чувство гордости, счастья, что он доверяет мне такое громадное дело.
— Что же ты молчишь? — сказал он.
Я высказала ему свои сомнения.
— Нет, я так решил, — сказал он твердо, — ты единственная сейчас осталась жить со мной, и вполне естественно, что я поручаю тебе это дело. В случае же твоей смерти, — и он ласково засмеялся, — права перейдут к Тане.
22 июля, в лесу, в нескольких верстах от дома, было подписано завещание. Сидя на пенышке, отец с начала до конца переписал его своей рукой. Свидетели — Радьшский, Сергеенко — сын Алеша и Гольденвейзер, засвидетельствовали отцовскую подпись.
Нелегко было отцу решиться на этот шаг, нелегко было скрывать от семьи свое решение. Но он твердо решил исправить грех, как он говорил, продажи его сочинений хоть после своей смерти.
Один раз, когда он ложился спать, а я была рядом в кабинете, он через затворенную дверь окликнул меня.
— Саша!
— Да, папа.
— Я хотел сказать по поводу завещания... Если останутся какие-нибудь деньги от первого издания сочинений, хорошо было бы выкупить Ясную Поляну у мама и братьев и отдать мужикам...
— Хорошо, папа.
Больше он никогда не заговаривал со мной об этом.*
Таня и маленькая Таничка жили в Ясной Поляне. Моя мать успокоилась. Она обожала свою внучку — забавную, умненькую, курносенькую девочку, и целыми днями возилась с нею. Вместо Гусева, Чертков прислал к концу января нового секретаря, студента В. Ф. Булгакова — веселого, жизнерадостного, немного влюбленного в себя юношу, с которым отец ранее переписывался по вопросу образования.
Общение с людьми по интересующим его вопросам — не прекращалось. Еще в конце сентября 1909 года отец получил письмо из Лондона от молодого индуса, Махатмы Ганди. Ганди писал отцу о «черном законе», практиковавшемся в Южной Африке по отношению к индусам, обращавшем их в рабов.
«Как я, так и некоторые мои друзья еще раньше твердо верили в учение непротивления злу насилием, — писал Ганди, — и таковыми мы остались и теперь. Кроме того, мне выпало счастье изучать ваши писания, произведшие глубокое
* Эта воля отца была мною выполнена. Четыре общества крестьян Ясная Поляна, Грумонт, Грецовка и Телятинки, связанные с семьей Толстых, получили около 1000 десятин земли.
впечатление на мое мировоззрение. Британские индусы, которым мы объяснили положение вещей, согласились не подчиняться этому закону и предпочесть заключение в тюрьму или другие наказания, которые могут быть по закону наложены за его нарушение. Следствием этого получилось то, что почти половина всего индусского населения, не бывшая в силах выдержать напряжение борьбы и перенести страдания при заключении в тюрьму, предпочла выселиться из Трансвааля, нежели подчиниться унизительному, по ее мнению, закону. Из другой половины почти 2.500 человек, ради следования своей совести, предпочли тюремное заключение — некоторые из них до пяти раз. Тюремное заключение колебалось между четырьмя днями и шестью месяцами, в большинстве случаев с каторжными работами. Многие из индусов были материально совершенно разорены. В настоящее время в трансваальских тюрьмах находится около 100 таких пассивных противленцев...».1
В конце письма Ганди просил отца прислать ему его «Письмо к индусу» о непротивлении злу насилием. Друзья Ганди решили распространить его в Индии в количестве 20.000 экземпляров.
«Помогай Бог нашим дорогим братьям и сотрудникам в Трансваале, — писал отец Ганди. — Та же борьба мягкого против жесткого, смирения и любви против гордости и насилия с каждым годом все более и более проявляется у нас, в особенности в одном из самых резких столкновений закона религиозного с законом мирским — в отказах от военной службы. Отказы становятся все чаще и чаще...»
Позднее Ганди прислал отцу свою книгу Indian Home Rule. В письме от 22 апреля отец писал Черткову:
«Сейчас и вчера вечером читал присланную мне с письмом книгу одного индусского мыслителя и борца против английского владычества Gandhi, борющегося посредством Passive Resistance (Пассивного сопротивления). Очень он близкий нам, мне человек. Он читал мои писания, перевел на индусский язык мое письмо индусу, его же книга Indian Home Rule по-индусски была запрещена британским правительством. Он просит моего мнения об его книге. Мне хочется подробно написать ему».
Д. П. Маковицкий в своих записках приводит отзыв отца о Ганди: «Ганди-автор книжки «The Indian Home Pule». Он начальник партии, борющейся против Англии. Он сидел в тюрьме. Прежде я получил книгу о нем. Эта книга в высшей степени интересна. Это глубокое осуждение с точки зрения религиозного индуса всей европейской цивилизации. Как он приехал в Лондон, как он начал есть мясо, как он учился танцевать и подчинился цивилизации. Началась война в Южной Африке. Его презрение к отношению белых к цветным людям. Кроме того, он проповедует, что самое действительное противодействие — это пассивное» .
Самые разнообразные посетители приезжали к отцу. Кого только не было!
Японцы, европейские и американские журналисты, крестьяне, черносотенный полковник, какой-то сумасшедший, шпион, наивно считавший, что получит одобрение Толстого за то, что стрелял в революционеров и многие другие.
В эту зиму отца снова посетил проф. Масарик, с которым отец много беседовал о религии. «Масарик все-таки профессор, — отметил отец в своем дневнике, — и верит в личного Бога и бессмертие личности».
Приезжал Леонид Андреев. Вероятно люди, встречавшиеся в Москве с избалованным и популярным писателем в литературных и артистических кружках,
среди деятелей Художественного Театра, где шли его пьесы, удивились бы, увидав его в Ясной Поляне. Не было и тени его обычной самоуверенности, апломба, когда он говорил с отцом. Это был робкий, застенчивый человек, в больших, красивых глазах которого было напряженное, благоговейное внимание. Не интересуясь по существу теми вопросами, которыми жил Толстой, он сразу подпал под обаяние отца, искал тем для разговора, смущался, робел. Этим он подкупил отца. Андреев был ему приятен, но отец сразу почувствовал, что у него «нет серьезного отношения к жизни», что он «поверхностно касается этих вопросов», т. е. вопросов духовной жизни человека, религии.
В январе Дорик Сухотин, Танин пасынок, заболел корью, от него заразилась маленькая Таничка, а потом и я. Дети легко переносили болезнь, у меня же корь осложнилась тяжелой формой воспаления легких.
Физически было тяжко — нечем дышать, кололо в груди и боках, был сильный жар. Температура не спадала, и я уже не имела сил ни кашлять, ни ворочаться с боку на бок. Варя день и ночь ходила за мной.
Иногда отец оставался со мной вдвоем, подавал мне воду, поправлял подушки. Сквозь проблески сознания я видела в полумраке его сгорбленную старческую фигуру. «Папенька!» он подходил. «Пить!» Старческая рука дрожала, вода расплескивалась. Я целовала его руку. «Спасибо». Он всхлипывал, брал мою руку, прижимал ее к губам. Рука моя мокрая. «О чем ты плачешь? Папа, мне так хорошо». Но он уже не мог сдерживать рыдания и отходил, громко сморкаясь, в темноту комнаты... а я не могла понять, что с ним.
«17 февраля. Саше не лучше, креплюсь», — записал он в дневнике.
«15 февраля. Саша и трогает и тревожит. И рад, что люблю ее, и браню себя за то, что слишком исключительно. Пишу и самому страшно. Да, да будет Его воля».
В начале марта я встала. На месте Гусева сидел веселый Булгаков, менее серьезный, более самоуверенный. Теперь он отвечал на умные письма, помогал отцу составлять книжечки «Путь жизни», которые, по настоянию отца, уже печатал не «ужасный» Сытин, как говорил отец, а «милый» Иван Иванович Горбунов. «Книжечки», в которых были собраны все сокровища духовной мысли человечества: «Понятие Бога, духовного начала всего, есть такое великое и необходимое понятие, до которого мы одни никогда не додумались бы, если бы оно не было открьшаемо людям постепенно усилиями мысли величайших мудрецов мира, — писал отец в дневнике. — Это огромный шаг человечества, а мы воображаем, что, имея радий, аэропланы, электричество, может обойтись без него. Да, можем, но только как животные, а не как люди, как мы и живем теперь в наших Нью-Йорках, Лондонах, Парижах с 30-ти этажными домами».
В подтверждение этой мысли любопытна запись отца от 10 мая, где отец говорит о развращении народов — индусов, китайцев, негров — цивилизацией. «Машины, чтобы делать что? — задает он вопрос. — Телеграфы, телефоны, чтобы передавать что? Школы, университеты, академии, чтобы обучать чему? Собрания, чтобы обсуждать что? Книги, газеты, чтобы распространять сведения о чем? Железные дороги, чтобы ездить кому и куда? Собранные вместе и подчиненные одной власти миллионы людей для того, чтобы делать что? Больницы, врачи, аптеки для того, чтобы продолжать жизнь, а продолжать жизнь зачем?
Миллионы страдают духовно и телесно для того, чтобы только захватившие власть могли беспрепятственно развращаться. Для этого ложь религии, ложь науки, одурение спаиванием и воспитанием, и где этого мало — грубое насилие, тюрьмы, казни».
Кроме «Пути жизни», отец пытался писать небольшую пьесу для молодежи, жившей в Чертковском доме в Телятинках, «От ней все качества». И я, вставши с постели, взялась за свою обычную работу. Но сил у меня не было, мучил кашель, ослабляли ночные поты. Я старалась превозмочь эту непривычную для меня слабость, но ничего не выходило...
21 марта отец записал в дневнике: «Сейчас 10-й час, мне немного луппе. Саша опять хворает, но хороша. У меня на душе очень хорошо. Хороша ясность мысли. Хочется выразить ее; а и не выражу — и то хорошо. Таня очень мила и приятна мне».
Насколько мне было приятно болеть, когда я была близка к отцу, настолько страшно показалось, когда в мокроте найдены были Коховские бациллы, врачи определили туберкулез обоих верхушек легких и предписали немедленно уехать от сырой яснополянской весны — в Крым. Разлука с отцом. Надолго ли? А если он заболеет без меня? Сколько оставалось ему жить? Может быть месяцы... а я должна потерять это время вдали от него. А если не ехать, не исполнить предписаний врачей? Продолжать жить расслабленной, полукалекой, не быть в силах помогать ему?
Тяжко было расставание нам обоим.
«Тяжело, — записал он в дневнике, — а не знаю, что делать. Саша уехала. И люблю ее, недостает она мне — не для дела, а по душе. Приезжали провожать ее Гольденвейзеры. Он играл. Я по слабости кис» (плакал). «Вечером поправлял Мысли о жизни. Теперь 12 часов. Ложусь. Все дурное расположение духа. Смотри, держись, Лев Николаевич».
Мы договорились, что будем писать друг другу ежедневно и отец в конце дня всегда писал мне. Привожу выдержки из его писем.
15 апреля 1910 г.
«Хочется написать тебе, милый друг Саша, и не знаю что писать. Знаю, что тебе желательнее всего знать обо мне, а о себе писать неприятно. О том, как ты мне дорога, составляя мой грех исключительной любви, тоже писать не надо бы, но все-таки пишу, потому что это думаю сейчас.
Внутреннее мое состояние в последние дни, особенно в тот день, когда ты уезжала, была борьба с физическим желчным состоянием. Состояние это полезно, потому что дает большой материал для работы, но плохо тем, что мешает ясно мыслить и выражать свои мысли, а я привык к этому. Нынче первый день мне лучше, но ничего кроме писем: Шоу, еще об обществе мира и еще кое-кому не писал. Г.(орбунов) занят книжечками, которые уже в сверстанном виде и меня радуют. Нынче был и еще здесь Саламахин, тоже меня радующий своей серьезной религиозностью. Зачем родятся и детьми умирают, зачем одни век в нужде и образованы, другие в роскоши и безграмотны и всякие кажущиеся неравенства — все это могу объяснить. Но отчего одни люди, как Саламахин, весь горит, т. е. вся жизнь его руководима религией, а другой, другая, как ложка, не может понять вкуса той пищи, в которой купается?
Вчера ездил с Булгаковым, нынче с Душаном, Дэлир покоен. Погода чудная, фиалки Леньки душат меня, стоя теперь передо мною. Как-то у вас? Что-то пишут, что там холодно. Пиши ты или Варя каждый день.
Страшно хочется, как давно не хотелось кое-что, да ты знаешь что, — безумие нашей жизни в образах высказать под заглавием: «Нет в мире виноватых». И на эту мысль. Страшно хочется, но не начинал еще. Боюсь, что это ложный аппетит. Правда, очень развлекают по утрам. Хочу попробовать. Ну, да это не важно, Прощай, сейчас только кончили обедать. И меня ждет, у Душана в комнате, проезжий, поговорить. Иду к нему. Целую тебя и для краткости милую Варю.
Лев».
21 апреля 1910 г.
«Нынче от Вари письмо о тебе нехорошее. Не унывай, милая голубушка. Все хорошо, если сама хороша, а ты можешь и знаешь, и хочешь, и умеешь быть хорошей. Пиши мне почаще. Докторам не верь. А постарайся гигиенически лучше устроиться...
Иногда мне тяжело от того, что ты знаешь, но стараюсь не быть совсем плохим. Мимо твоей комнаты ходить больно. Сейчас 12-й час ночи, вторник, ложусь спать. Жду завтра твоего письма. Варе привет. Тебя люблю так, как не следует любить.
Л. Т.
Душан, как всегда, радует».
22 апреля 1910 г.
«Нынче получил твое письмо, милая дочь и друг. И немного прослезился не от страха, не от жалости к тебе или к себе, а от умиления, что хорошо думаешь. Что бы ни было, хотя все вероятия за хорошее, все на благо. Пожалуйста,почаще пиши и не думай обо мне, а пиши, как дневник, о впечатлениях и мыслях, главное — мыслях и чувствах, которые приходят, а то просто о людях, о кушаньях, о чем попало и как попало. Я к твоей литературе самый снисходительный судья. Когда плохо на душе, думай о том, чтобы сейчас пользоваться жизнью
вовсю, т. е. быть в любви на деле, на словах, в мыслях, в любви со всеми, а что будет, то будет и будет все хорошее.
У нас не переводятся гости. Нынче приехали Гольденвейзеры, завтра приедет Сибор. Я здоров. Многое хочется писать, но совсем растерялся от многих дел. И слава Богу, благодарен. Варю люблю саму по себе, а еще больше за то, что она тебя любит. Прощай душенька.
Л. Т.»
23 апреля 1910 г.
«Получили нынче, милая Саша, твое письмо мама. Пожалуйста, каждый день ты или Варя самые нетрудные письма о состоянии твоего здоровья, температура, кашель и пр. А если скучно, то не надо. Оля, верно, тебе пишет о нас, о музыке. У нас хорошо. Я верхом не езжу, и Дэлира пустил в табун, а хожу гулять с твоими собаками и мне хорошо. Сделай так, чтобы тебе было хорошо, ты можешь, милая моя, дружок. Варю благодарю.
Л. Т.»
24 апреля 1910 г.
«Так близка ты моему сердцу, милая Саша, что не могу не писать тебе каждый день. У нас нового ничего особенного; вчера прекрасная музыка, которую я всегда сильно чувствую и всегда упрекаю себя за эту роскошь. Нынче я себя физически дурно чувствую, как это временно обыкновенно бывает у меня: сонливость, изжога и отсутствие аппетита. Сейчас 12-й час ночи, подписал письма и ложусь спать. Пишу сейчас телеграмму «Посреднику». Ему 25 лет».
25 апреля 1910 г.
«От тебя нынче нет письма, а я все-таки пишу тебе, милый друг Саша. Вчера я был слаб, но нынче справился, главное на душе очень хорошо. Как бы я желал, хотя этого нельзя тебе в 25 лет — чтобы тебе было так же хорошо, как мне в 82 года — хорошо совершенно независимо от моего тела и от того, что окружает меня. Два дня эти почти не могу работать, ни мыслей хороших нет, а на душе радостно, спокойно, свободно. Как ни неловко говорить одному, — не получаю от тебя известий, — говорю, что умею. Я уже привык, вечером, перед тем как ложиться спать, записать в дневник и тебе письмецо. Нынче письмецо от Ч[ерткова] который надеется, что ему разрешат ездить к Сухотиным и это мне очень улыбается. До свиданья нескорого, но все-таки до свиданья. Целую тебя.
Варе поклонись.
Л. Т.»
«Смотри же, как можно чаще давай о себе знать. И как можно правдивее и подробнее. Я ожидаю всего хорошего, как ни странно это может казаться, главное, в духовном отношении, в том, что в нашей, в твоей власти. А телесное не может быть ни хорошо, ни дурно. Целую тебя. Варе благодарность за тебя.
Л. Т.»
26 — 27 апреля 1910 г.
«Пишу тебе хоть два слова, милый дружок Саша.
Сейчас 12-й час ночи, пятница. Собираюсь спать. Расположение духа нехорошее, но кроме твоей болезни и твоего отсутствия так много хорошего, что самый желчный человек не мог бы не радоваться. Булгаков очень хорошо помогает мне и так сердечно, что мне легко с ним и каждый день и посетители и письма таких близких, хотя и неизвестных людей, что нельзя не радоваться. Как твоя жизнь?
Хотелось бы думать, что у тебя есть и там внутренняя духовная работа. Это важнее всего. Хотя ты и молода, а все-таки можно и должно.
Сейчас был милый Димочка.* Старый Дима** нанял дачу за Серпуховым. Я надеюсь побывать у него. Таня, как всегда, мила и хороша. Целую тебя. Варе привет.
Л. Т.»
2 мая 1910 г.
«Пишу тебе, голубушка Саша, из Кочетов вечером 2-го. Приехал я с Душаном и Булгаковым. Чудная погода, милые Сухотины и все радостно. Даже и про тебя вспоминаю без боли, но... жутко. Пишу весело и вдруг от тебя дурные вести. Мама немножко была недовольна, что я не отложил отъезд на день, но все-таки отпустила меня без раздражения. Она приедет сюда 4-го послезавтра, если что-нибудь ее не задержит. Каюсь, что мне от многого и многого хотелось уехать из Ясной. Очень много суеты и посетителей и других причин. А нынче как раз был посетитель, которого мне жаль было покинуть так скоро. Я едва успел с ним поговорить 1/4 часа. Это Шнякин, отказавшийся и отбывший 4 года арестантских рот — добролюбец*** — такой спокойный, твердый и радостный. Сильно сдержанный рабочий человек, не говорящий лишнего, но все что скажет важно, нужно и добро и такая сияющая улыбка. Дорогой неприятно было смотрение на меня, но здесь чудесно... Жду Черткова. Таня и большая и маленькая так милы и так приятен Михаил Сергеевич, что лучше ничего желать нельзя. Плохо то, что письма твои ко мне и мои к тебе теперь будут еще дольше идти. Raison de plus (Тем больше причин) чаще писать, что я и делаю...»
7 мая 1910 г.
«Вчера был нездоров, слаб и потому не писал тебе, милая Саша. Вчера же получил, наконец, твои два письма и нынче одно. Спасибо. Нынче я себя лучше чувствую и получил большую, большую радость: приехал Чертков и пробудет неделю. Мама же, намеревавшаяся приехать в пятницу, отложила свой приезд от дурной погоды. — Известия от тебя хороши, но боюсь, что ты поддаешься внушениям докторов и милой Вари. Берегись этого, голубушка. Жалко тоже, что вынуждена есть мясо. С Ч[ертковым] так хорошо. Такой друг. Единственный недостаток — тот же, как у тебя, что и ты и он меня слишком любите. Упрекать вас в этом не могу, потому что сам тем же грешен.
Л. Т.»
Я была счастлива, что отец гостил у Тани, где ему было так хорошо. Но 20 мая отец, вместе с Таней и Чертковым, вернулся в Ясную Поляну, и снова начались неприятности. Жаловались бабы, что черкес не дает им прохода, множество просителей, которым отцу было трудно отказывать, по вечерам люди, смотрящие отцу в рот, ожидающие от него пророчества.
«Пророчество тяжело, — пометил у себя отец в дневнике. — Мучительно говорить, говорить... по обязанности».
Между тем, мое пребывание в Крыму подходило к концу. Я умоляла нашего друга доктора Альтшуллера, лечившего отца в Крыму и теперь лечившего
* В. В. Чертков — сын.
** В. Г. Чертков — отец.
*** Сектант-добролюбец, последователь А. М. Добролюбова, основавшего непротивленческую секту «Добролюбове». (Примеч. ред.)
меня — отпустить меня домой. Температуры не было, силы восстанавливались. остался только небольшой кашель.
Когда я наконец вбежала к отцу в кабинет, мы оба смеялись и плакали от радости.
Я привезла отцу подарок: за время моего пребывания в санатории, Варя научила меня стенографии. Я писала уже 85 слов в минуту.
Единственное, что смущало меня, было то, что мне пришлось остричь волосы, так как они вылезали клочьями после кори, а отец не любил стриженных женщин. Он провел рукой по моим курчавым как у барана, потемневшим волосам. «Стриженная, бритая — мне все равно. Я так, так рад», — сказал он.
«Когда мы придем в Порционколо, — говорит Франциск, — грязные, оборванные, окоченелые от холода и голодные, и попросимся пустить нас, а привратник скажет нам: «Что вы, бродяги, шатаетесь по свету, соблазняете народ, крадете милостыню бедных людей, убирайтесь отсюда!» и не отворит нам. И если мы тогда не обидимся и со смирением и любовию подумаем, что привратник прав, что сам Бог внушил ему так поступить с нами, и мокрые, холодные и голодные пробудем в снегу и воде до утра без ропота на привратника, тогда, брат Лев, только тогда будет радость совершенная.»
«Жизнь Франциска Ассизского».
Дома было все так же тяжело.
Черкес ловил баб, мужиков, проходивших через «графские» владения, дрался, поймал бывшего ученика отца, старика Прокофия, несшего слегу из «графского» леса, и притащил, привязав его к нагайке, на усадьбу. Отец наткнулся на эту сцену.
Хозяйство шло кое-как, в убыток, приказчики воровали. А на отца все это действовало удручающе. Он слабел, еще раз повторился обморок.
«К чему заботы о внешних условиях — еде, блузах и пр., — писала матери сестра Таня, — если нет заботы о внутренней жизни отца». Таня советовала матери бросить хозяйство, не приносящее никакого дохода.
Маша, жена Сергея, советовала, чтобы мать предоставила полные права на управление Ясной Поляной братьям, а сама устранилась бы от всяких дел и чтобы отец, мать и я переселились в Крым.
Как-то, когда я выходила из кабинета с рукописями, отец остановил меня.
— Саша!
— Да, папа.
— Я хочу тебе сказать, только ты не обижайся... — он тяжело вздохнул. — Я умирать собрался...
— ...О, Господи!
Я была довольна, когда отец собрался ехать в Москву к Чертковым, в имение Мещерское, Московской губернии, где они теперь жили. Душан, Илья Васильевич и я поехали с ним.
Как всегда, попав в другую обстановку, отец сразу ожил, повеселел, начал писать. Набросал небольшой художественный рассказ «Нечаянно».
Сочинитель сочинял,
А в углу сундук стоял,
Сочинитель не видал,
Спотыкнулся и упал.
Весело махая в воздухе рукописью, декламировал отец, отдавая мне рассказ для переписки.
Он всем интересовался. Его поразило благоустройство земских школ, больниц в Московской губернии вокруг Мещерского, великолепно оборудованные дома для душевнобольных. Он неоднократно посещал госпитали, разговаривал с больными, врачами. Видно было, что вопрос о сумасшествии беспокоил его. В дневнике, в статье «О безумии» он пытался найти определение сумасшествия.
«Сумасшествие всегда следствие неразумной и потому безнравственной жизни, — записал он в дневнике. — Кажется верно, но надо проверить, обдумать». И дальше: «Сумасшедшие всегда лучше, чем здоровые, достигают своих целей. Происходит это от того, что для них нет никаких нравственных преград: ни стыда, ни правдивости, ни совести, ни даже страха».
Мирное житье наше было скоро нарушено. Я получила телеграмму от Вари: «Сильное нервное расстройство, бессонница, плачет, пульс сто, просит телеграфировать. Варя». После второй телеграммы отец решил вернуться в Ясную Поляну.
Трудно описать, в каком ужасном состоянии нервного расстройства мы застали мою мать. Это был бред душевнобольной женщины. Упреки, крики, рыданья, недостойные намеки, угрозы убить себя. Никто не спал. Я хотела войти к отцу в спальню, чтобы как-то оградить его. «Уйди», — тихо сказал он мне.
Сцены эти не прекращались ни днем, ни ночью... Состояние С. А. ухудшилось еще в связи с тем, что Черткову разрешили жить в Телятинках, пока его мать, Елизавета Ивановна, будет гостить у него.
На второй день после нашего приезда нервное возбуждение матери продолжалось. С криком: «кто там? кто там?» она бросилась из залы вниз, как будто кто-то гнался за ней. Я продолжала бы работать, если бы не отец. «Куда она, куда?» — закричал он с отчаянием в голосе. Мы с Душаном побежали за ней, и нашли ее лежащей на каменном полу в кладовой. Она водила по губам склянку с опиумом: «Один глоточек, только один глоток», — приговаривала она...
Мать требовала, чтобы отец отдал ей все дневники, чтобы он перестал видеться с Чертковым. Запись отца, прочитанная ею в дневнике: «Соня опять возбуждена и истерика, решил бороться с нею любовью», — вызвала с ее стороны новые упреки...
Я изнемогала от собственного бессилия, от возмущения и раздражения на мать, разъедающих душу, от бесконечной жалости к отцу.
Мать решила увезти отца к брату Сергею в Никольское — подальше от Черткова. Отец неохотно согласился. Приехала туда и Таня. Опять начались семейные совещания, советы... но, по существу, ничего не было решено. На мою мольбу, чтобы или разделили на время родителей, или чтобы кто-нибудь из старших поселился в Ясной Поляне — не обратили внимания.
Как только мы вернулись домой, возобновилось истерическое состояние матери и я с ужасом наблюдала, как с каждым днем отец слабел... Даже святой Душан возмущался: «С. А. не думает о том, что Л. Н. едва держится, сердце слабеет...».
Только старушка Шмидт считала мать больной, несчастной и искренно, без всякого усилия, жалела ее. Старушка морально поддерживала отца, она считала, что ему послано испытание, что он несет его с христианским смирением и что так и нужно.
Один раз, когда старушка Шмидт была в Ясной Поляне, приехали из Овсянникова и сообщили, что сгорела ее избушка и дом, где летом жили Горбуновы. Погибло все: за многие, многие годы переписанные ею рукописи отца, его портреты, собственноручные письма отца к ней, сгорела и криволапая собачка Шавочка, которую когда-то, в лютый мороз, с отмороженными ногами, подобрала старушка Шмидт.
Марья Александровна горько плакала, но несчастье свое несла, как испытание Богом ей посланное, и ни разу не позволила себе упрекнуть полусумасшедшего молодого человека, заподозренного в поджоге. Таня немедленно распорядилась, чтобы старушке Шмидт была выстроена новая избушка, купили ей, как она выражалась, «новое приданое». Но заменить ее потерю никто не мог. «Боже мой, Боже мой! — шептала она. — Шавочка моя... Письма дорогого Льва Николаевича... Рукописи...».
Иногда отец заходил ко мне. Ложился на диван, я продолжала печатать и мы оба молчали. «Мы без слов все понимаем, — говорил он, — если будешь говорить, лишнее скажешь».
Приехал брат Лев, но, к сожалению, мира не внес.
11 июля отец записал в дневнике:
«Жив еле-еле. Ужасная ночь. До 4 часов. И ужаснее всего был Лев Львович. Он меня ругал, как мальчишку, и приказывал идти в сад за Софьей Андреевной... Не могу спокойно видеть Льва. Еще плох я. Соня, бедная, успокоилась. Жестокая и тяжелая болезнь. Помоги, Господи, с любовью нести...».
А вечером, после того как брат Лев кричал на отца за то, что он не жалеет матери, отец сказал мне: «Мне кажется даже, что он назвал меня дрянью», и глаза его затуманились слезами. Он дал мне списать из записной книжки в дневник следующую мысль: «Я не ожидал того, что, когда тебя ударят по одной, и ты подставишь другую — что бьющий опомнится, перестанет бить, и поймет значение твоего поступка. Нет, он напротив того, и подумает, и скажет: вот как хорошо, что я побил его; теперь уж по его терпению ясно, что он чувствует свою вину и все мое превосходство перед ним. — Но знаю, что несмотря на это, все-таки лучшее для себя и для всех, что ты можешь сделать, когда тебя бьют по одной щеке — это то, чтобы подставить другую. В этом «радость совершенная». Только исполни. И тогда за то, что кажется горем, можно только благодарить».
Отцу было легче, когда приезжали старшие, и я снова вызвала Таню. Мы много говорили с ней.
«То, что отец делает теперь, это подвиг любви, лучше всех 30 томов его сочинений, — сказала она, — Если бы даже он умер, терпя то, что терпит, и делая то, что делает, я бы сказала, что он не мог поступить иначе». Когда я повторила отцу слова Тани — «Умница, Таничка», — сказал он и разрыдался.
Как-то вечером отец сидел в большом вольтеровском кресле. Когда я проходила мимо, он улыбнулся и тихо сказал что-то. Я не расслышала. — «Что ты, папа?» — «Девки мои хороши», — прошептал он1.
Но и Танино присутствие перестало помогать. Мать предъявила решительные требования: или отец возьмет у Черткова дневники, или же она не перестанет мучить других и себя, «болеть».
С этими требованиями она снова приходила к нему ночью... Вид у него был измученный, изможденный, ввалились щеки, в глубоко сидящих глазах — страдание, казалось, он едва стоял на ногах. Он не спал всю ночь и к утру написал матери письмо:
«1) Теперешний дневник никому не отдам, буду держать у себя.
2) Старые дневники возьму у Черткова и буду хранить сам, вероятно, в банке.
3) Если тебя тревожит мысль о том, что моими дневниками, теми местами, в которых я пишу под впечатлением минуты о наших разногласиях и столкновениях, что этими местами могут воспользоваться недоброжелательные тебе будущие биографы, то, не говоря о том, что такие выражения временных чувств как в моих, так и в твоих дневниках никак не могут дать верного понятия о наших настоящих отношениях, — если ты боишься этого, то я рад случаю выразить в дневнике, или просто как бы в письме, мое отношение к тебе и мою оценку твоей жизни. Мое отношение к тебе и моя оценка тебя такие: как я смолоду любил тебя, так я, не переставая, несмотря на разные причины охлаждения, любил и люблю тебя. Причины охлаждения эти были — (не говорю о прекращении брачных отношений, такое прекращение могло только устранить обманчивые выражения не настоящей любви) причины эти были во-первых, все большее и большее удаление мое от интересов мирской жизни и мое отвращение к ним, тогда как ты не хотела и не могла расстаться, не имея в душе тех основ, которые привели меня к моим убеждениям, что очень естественно и в чем я не упрекаю тебя.
(...Прости меня, если то, что я скажу, будет неприятно тебе, но то, что теперь между нами происходит, так важно, что надо не бояться высказывать и выслушивать всю правду). Во-вторых, характер твой в последние годы все больше
и больше становился раздражительным, деспотичным и несдержанным. Проявления этих черт характера не могли не охлаждать не самое чувство, а выражение его. Это во-вторых.
В-третьих. Главная причина была роковая та, в которой одинаково не виноваты ни я, ни ты, — это наше совершенно противоположное понимание смысла и цели жизни. Все в наших пониманиях жизни было прямо противуположно: и образ жизни, и отношение к людям, и средства к жизни — собственность, которую я считаю грехом, а ты — необходимым условием жизни. Я в образе жизни, чтобы не расставаться с тобой, подчинялся тяжелым для меня условиям жизни, ты же принимала это за уступки твоим взглядам, и недоразумение между нами росло все больше и больше. Были и еще другие причины охлаждения, виною которых были мы оба, но я не стану говорить про них, потому что они не идут к делу. Дело в том, что я, несмотря на все бывшие недоразумения, не переставал любить и ценить тебя. Оценка же моя твоей жизни со мною такая:
я, развратный, глубоко порочный в половом отношении человек, уже не первой молодости, женился на тебе, чистой, хорошей, умной 18-летней девушке, и, несмотря на это мое грязное, порочное прошедшее, ты почти 50 лет жила со мною, любя меня, трудовой, тяжелой жизнью, рожая, кормя, воспитывая, ухаживая за детьми и за мною, не поддаваясь тем искушениям, которые могли так легко захватить всякую женщину в твоем положении: сильную, здоровую, красивую. Но ты прожила так, что я ни в чем не имею упрекнуть тебя. За то же, что ты не пошла за мной в моем исключительном духовном движении, я не могу упрекать тебя, и не упрекаю, потому что духовная жизнь каждого человека есть тайна этого человека с Богом, и требовать от него другим людям ничего нельзя. И если я требовал от тебя, то я ошибался и виноват в этом.
Так вот верное описание моего отношения к тебе и моя оценка тебя. А то, что может попасться в дневниках (я знаю только, ничего резкого и такого, что бы было противно тому, что сейчас пишу, там не найдется). Так это третье о том, что может и не должно тревожить тебя о дневниках.
4) Это то, что если в данную минуту тебе тяжелы мои отношения с Чертковым, то я готов не видеться с ним, хотя скажу, что это мне не столько для меня неприятно, сколько для него, зная, как это будет тяжело для него. Но если ты хочешь, я сделаю.
Теперь 5) то, что если ты не примешь этих моих условий доброй, мирной жизни, то я беру назад свое обещание не уезжать от тебя. Я уеду. Уеду, наверное, не к Ч.[ерткову]. Даже поставлю непременным условием то, чтобы он не приезжал жить около меня, но уеду непременно, потому что дальше так жить, как мы живем, невозможно. Я бы мог продолжать жить так, если бы я мог спокойно переносить твои страдания, но я не могу.
Вчера ты ушла взволнованная, страдающая. Я хотел спать лечь, но стал не то что думать, а чувствовать тебя, и не спал...
Подумай спокойно, милый друг, послушай своего сердца, почувствуй, и ты решишь все, как должно. Про себя же скажу, что я со своей стороны решил все так, что иначе не могу, не могу. Перестань, голубушка, мучить не других, а себя, себя потому что ты страдаешь во сто раз больше всех. Вот и все.
14 июля утром. Лев Толстой».
Таня и ее муж содействовали тому, чтобы дневники были взяты от Черткова и перемещены в банк. Но успокоения не было. Мы решили посоветоваться с
крачами и вызвали знаменитого психиатра Россолимо, вместе с нашим другом, д-ром Никитиным.
«Лечить надо не мать, — сказал на это брат Лев, — а отца, который выжил из ума». 20 июля отец писал в дневнике:
«Идет в душе неперестающая борьба о Льве: простить или отплатить жестким, ядовитым словом. Начинаю яснее слышать голос добра. Нужно, как Франциск, испытать радость совершенную, признав упреки дворника заслуженными. Да, надо».
Но и врачи не помогли нам. Определение Россолимо: «Дегенеративная двойная конституция: паранойяльная и истерическая, с преобладанием первой» — были для нас ученые слова. А вот, что дальше делать? Врачи предписывали: разлучить родителей, ванны, прогулки, успокоительные средства для матери... Но как этого добиться. С. А. решительно заявила, что здорова и никаких преписаний выполнять не будет.
Милый Никитин все понимал и глубоко страдал за всех нас. Выслушав сердце отца, он нашел, что оно сильно расширено и ослаблено.
«Скажу вам по секрету, Александра Львовна, — предупредил он меня, — еще вам предстоит много тяжелого».
Что было делать? К кому кинуться за советом? Таня, Сережа... Но они все-таки были оторваны от нашей жизни, у них были свои семьи, свои интересы. Душан? Но при всей его святости, его нравственных качествах, он был мало авторитетен. Марья Александровна? Она молилась на отца... все, что решал сам отец, было для нее законом, она не помогла бы ему принять решение. Чертков? Я советовалась с ним... Но он был так же, как и я, несвободен от недоброго чувства к С. А.
Сидя на березовой скамеечке в «елочках» и вырывая листочки из своей записной книжки, отец писал Черткову:
«Не переставая думаю о вас, милый друг. Благодарен вам за то, что вы помогали и помогаете мне нести получше мое заслуженное мною и нужное моей душе испытание, несмотря на то, что это испытание не менее тяжело для вас. И помогайте, пожалуйста, вам обоим не слабеть и не сделать чего-нибудь такого, в чем раскаемся. Я рад, что понимаю ваше положение, которое едва ли не труднее моего. Меня ненавидят за то, что есть, смело скажу, во мне хорошего, обличающего их, но ко мне и по моим годам, и моему положению они все — а имя им легион — чувствуют необходимость иметь некоторые egards и сдерживаются. Вас же за то высокое, святое, что есть в вас — опять смело скажу — им нечего опасаться, и они не скрывают свою ненависть к добру, или скрывают ее под разными выдуманными обвинениями вас. Я это понимаю и больно чувствую за вас. Но будем держаться. Пожалуйста помогайте мне, а я вам. Собой не похвалюсь. Не могу удержать недоброго чувства. Надеюсь, пройдет».
21 июля отец записал в дневнике: «Все так же слаб и то же недоброе чувство к Льву... Опять припадок у С. А. Тяжело. Но не жалуюсь и не жалею себя... От Тани милое письмо о Франциске».
24 июля: «Опять то же и в смысле здоровья и в отношении С. А. Здоровье немного лучше. Но зато с С. А. хуже. Вчера вечером она не отходила от меня и Черткова, чтобы не дать нам возможности говорить только вдвоем... Я ничего не могу- Мне самому невыносимо тяжело...».
Приезжали младшие братья — Андрей, Миша с женой и детьми. Лина — жена
Миши — прекрасная, чуткая женщина. Мы много с ней говорили и она уверяла меня, что Миша все понимает и любит отца, но что он находится под влиянием С. А. С Андреем я несколько раз сталкивалась, упрекая его за отца. Но понять они не могли.
27 июля отец писал: «Опять все то же. Но только как будто затишье перед грозой. Андрей приходил спрашивать: есть ли бумага? Я сказал, что не желаю отвечать. Очень тяжело. Я не верю тому, чтобы они желали только денег. Это ужасно. Но для меня только хорошо. Ложусь спать. Приехал Сережа. Письмо от Тани — зовет, и Михаил Сергеевич. Завтра посмотрю».
Не добившись от отца ответа, сначала Андрей, потом мать стали мучить меня, допрашивая, есть ли у отца завещание. Я отказалась отвечать.
В это время в Ясную Поляну приехал Бирюков. Отец рассказал ему про завещание. Мнение Бирюкова было таково: надо было позвать всю семью, объявить им свою волю и затем сделать завещание.
В дневнике для одного себя отец писал 2 августа 1910 г.: «Е. б. ж. Очень, очень понял свою ошибку. Надо было собрать всех наследников и объявить свое намерение, а не тайно. Я написал это Черткову. Он очень огорчился».
Чертков написал отцу длинное письмо с напоминанием всего, что предшествовало решению отца сделать завещание.
«Павел Иванович (Бирюков) был неправ., — писал отец, отвечая на письмо Черткова, — и я, согласившись с ним... я вполне одобряю вашу деятельность, но своей деятельностью все-таки недоволен: чувствую, что можно было поступить лучше, хотя я и не знаю как. Теперь же я не раскаиваюсь в том, что сделал, т. е. в том, что написал то завещание, которое написано, и могу быть только благодарен вам за то участие, которое вы приняли в этом деле. Нынче скажу обо всем Тане и это будет мне очень приятно».
Настроение несколько разрядилось с приездом Короленко. Собрались все в залу и Короленко весь вечер рассказывал нам о своих путешествиях по России, о своей поездке в Америку. Все заслушались. Он оказался превосходным рассказчиком. Узнав, что я ездила днем с Ольгиными детьми на «провалы», он спросил меня про них. Я объяснила ему, что в семи верстах от Ясной Поляны есть озера, что отец помнит старика-крестьянина, при котором образовались эти провалы. Утром крестьянин этот пришел — видит лес провалился, деревья повыворочены корнями кверху и на месте леса — озера круглые. Таких провалов несколько, и некоторые такие глубокие, что дна в них не нашли. Короленко стал рассказывать о таком же провале в Нижегородской губернии, где в народе существует предание, что здесь раньше стоял город. Раз в году, в ночь с 21 на 22 июня, сюда сходятся люди всевозможных верований, молятся и зажигают свечи и ходят на коленях кругом озера. Все эти люди, разделившись на группы, молятся, у некоторых на лицах сияет радость, на глазах слезы, они как будто видят этот погибший город, слышат звон колоколов.
Рассказывал Короленко о вотяках, их быте, жизни. Заговорили о Столыпинском законе 9 ноября, который Короленко так же, как и отец, не одобрял, так как это разрушало основной принцип «общины» крестьянства. Разговор коснулся Генри Джорджа. Оказалось, что Короленко, когда ездил в Америку, присутствовал на конференции, где выступал Джордж.
Утром я возила Короленко к Черткову. Дорогой я поняла из намеков Короленки, что моя мать говорила с ним о своих горестях, осуждая отца и
Черткова, и хотя мне было очень тяжело говорить с чужим мне человеком, но я должна была осветить ему истинное положение. Кое-что рассказал ему Чертков. «Ну, теперь я еще больше убедился, что Л. Н. дуб, который выдерживает все и не сломается. А я-то воображал, что он живет в такой счастливой обстановке, что малейшим противоречием его боятся потревожить. Я всегда слышал, что Л. Н. не терпит возражений и боялся высказывать свои взгляды, — теперь я вижу его терпимость».
7 августа отец записал в интимном дневнике:
«Беседа с Короленко. Умный и хороший человек, но весь под суеверием науки».
Оглядываясь назад, я знаю, что во многом недостойно, несмотря на пример кротости и терпения, который наблюдала ежечасно в отце, несла ту тяжесть, которая выпала на мою долю.
Когда снова приехала Таня за отцом, чтобы, как это было предписано врачами, разлучить его с матерью, мать заявила, что поедет с нами. Я возмутилась. «Мама больная, — сказал мне отец, — ее надо жалеть, я чувствую себя готовым сделать все, что она хочет, не ехать к Тане, и до конца ее жизни быть ей сестрой милосердия». Я не стала слушать, сказала, что не чувствую возможности быть сестрой милосердия, и вышла. «К чему предписания врачей, семейные советы, поездки к Тане, — думала я, — ничего не изменится, отец погибнет»... Но я мучилась, что своей нетерпимостью огорчила его, и вечером пошла к нему в кабинет. Он лежал на диване с книжкой и не видал, кто вошел. Я подошла, поцеловала его в голову — «Прости меня»... Мы оба заплакали и он несколько раз повторил: «Как я рад, как я рад, мне было тяжело».
8 августа отец писал в интимном дневнике: «Встал рано. Много, много мыслей, но все разбросанные, Ну и не надо. Молюсь, молюсь: Помоги мне. И не могу, не могу не желать, не ждать с радостью смерти. Разделение с Чертковым все более и более постыдно. Я явно виноват... Опять то же с С. А. Желает, чтобы Чертков ездил. Опять не спала до 7 утра».
Кончилось тем, что мы все уехали в Кочеты к Сухотиным.
Я любила Кочеты. Одноэтажный, растянутый дом, старинная мебель, фамильные портреты по стенам. Вокруг дома старый, тенистый парк — 100 десятин, в котором не раз плутал отец, в парке пруды, фруктовые деревья, а за парком прекрасно, машинами разработанные черноземные поля, перелески, луга, симментальский породистый скот и табуны рысистых маток. Сухотин считался хорошим хозяином.
В Кочетах было много легче. После обеда все играли в мнения и еще какие-то игры. Смеялись и дедушка и бабушка, Таничка и ее ровесник, маленький сын Льва Сухотина, пресмешно плясали и пели. Настроение у всех было радостное, спокойное. Мать радовалась на детей и тихо, беззвучно, как бывало прежде, тряслась от смеха... Так легко было любить и жалеть ее.
Но... получено было известие, что правительство разрешило Черткову жить в Тульской губернии, и снова спокойствие было нарушено.
Опять слезы, угрозы. «Я отравлю, убью Черткова», кричала С. А. И никто — ни Сухотин, ни Таня не могли успокоить ее. И Таня и муж ее делали все возможное, чтобы облегчить положение отца — отцу так нужна была Танина любовь и ласка. Но ему было тяжело, что он что-то скрывал от Тани, и он решил
сказать ей про свое завещание. Я была рада, особенно после разговора с Таней, из которого я поняла, что Таня сочувствовала решению отца.
Но и Танино присутствие скоро перестало помогать матери.
16 августа отец писал в Дневнике для одного себя:
«Нынче утром опять не спала. Принесла мне записку о том, что Саша выписывает из дневника для Черткова мои обвинения ее. Перед обедом я старался успокоить, сказав правду, что выписывает Саша только отдельные мысли, а не мои впечатления жизни. Хочет успокоиться и очень жалка. Теперь 4-й час. что-то будет. Я не могу работать. Кажется, что и не надо. На душе не дурно».
«21 августа. — Встал поздно. Чувствую себя свежее. С. А. все та же. Тане рассказывала, как она не спала ночь от того, что видела портрет Черткова. Положение угрожающее. Хочется, хочется сказать, т. е. писать».
«24 августа. — Понемногу оживаю. С. А., бедная, не переставая страдает, и я чувствую невозможность помочь ей. Чувствую грех своей исключительной привязанности к дочерям».
«28 августа. — Все тяжелее и тяжелее с С. А. Не любовь, а требование любви, близкое к ненависти и переходящее в ненависть. — Да, эгоизм это сумасшествие. Ее спасали дети — любовь животная, но все-таки самоотверженная. А когда кончилось это, то остался один ужасный эгоизм. А эгоизм самое ненормальное состояние — сумасшествие. — Сейчас говорил с Сашей и Мих. Сергеевичем, и Душан, и Саша не признают болезни. И они не правы».
«29 августа. — Опять пустой день. Прогулки, письма. Думать думаю и хорошо, но не могу сосредоточиться. С. А. была очень возбуждена, ходила в сад и не возвращалась. Пришла в 1-м часу. И хотела опять объяснения. Мне было очень тяжело, но я сдержался, и она затихла. Она решила ехать нынче. Спасибо Саша решила ехать с ней. Прощалась очень трогательно, у всех прося прощение. Очень, очень мне ее любовно жалко. Хорошие письма. Ложусь спать. Написал ей письмецо».
1 сентября Лёва телеграфировал, что он должен ехать в Петербург 3-го, по каким-то судебным делам, и мать собиралась ехать в Ясную Поляну. Отец боялся отпускать мать одну в том возбужденном состоянии, в котором она находилась, и я поехала с ней.
День, два отдыха, и сейчас же у отца являлась потребность писать. 3 сентября: «Начал писать с таким увлечением, какого давно не испытывал», — писал он. (Возможно, что эта запись относится к наброску Толстого в Записной Книжке «Сказка о молодом царе, ушедшем в работники»).
Проводив мать и сдав ее на попечение Варе, я вернулась в Кочеты. Несколько дней спустя приехала мать. Она приводила ряд причин, почему нам нельзя оставаться у Тани, и настаивала на отъезде в Ясную Поляну. Она говорила, что мне надо уже, по предписанию врачей, осенью ехать в Крым, опять плакала, угрожала. Отец писал в дневнике: «Тяжелый разговор о моем отъезде. Я отстоял свою свободу. Поеду, когда захочу. Очень грустно, разумеется, потому что я плох».
«9 сентября. — Жив, но плох. С утра началось раздражение, болезненное. Я же не совсем здоров и слаб. Говорил от всей души, но, очевидно, ничего не было принято. Очень тяжело».
«С. А. второй день ничего не ест, — записал отец 10 сентября, — Сейчас обедают. Иду просить ее пойти обедать. Страшные сцены целый вечер».
«11 сентября. — К вечеру начались сцены беганья в сад, слезы, крики. Даже
до того, что, когда я вьпиел за ней в сад, она закричала: это зверь, убийца, не могу видеть его и убежала нанимать телегу и сейчас уезжать. И так целый вечер. Когда же я вышел из себя и сказал ей son fait она вдруг сделалась здорова, и так и нынче 11-го. Говорить с ней невозможно, потому что, во-первых, для нее не обязательна ни логика, ни правда, ни правдивая передача слов, которые ей говорят или которые она говорит. Очень становлюсь близок к тому, чтобы убежать. Здоровье нехорошо стало».
12 сентября в дневнике коротенькая запись:
«С. А. уехала со слезами. Вызывала на разговоры, я уклонился. Никого не взяла с собой. Я очень, очень устал. Вечером читал. Беспокоюсь о ней».
11 сентября моя мать написала письмо отцу:
«Мне хотелось, милый Лёвочка, перед прощанием нашим сказать тебе несколько слов. Но ты при разговорах со мной так раздражаешься, что мне грустно бы было расстроить тебя.
Я тебя прошу понять, что все мои не требования, как ты говоришь, а желания имели один источник: мою любовь к тебе, мое желанье как можно меньше расставаться с тобой, и мое огорчение от вторжения постороннего, не доброго по отношению ко мне влияния на нашу долгую, несомненно любовную, интимную супружескую жизнь.
Раз это устранено, хотя ты, к сожалению, и раскаиваешься в этом, а я бесконечно благодарна за ту большую жертву, которая вернет мне счастье и жизнь, то я тебе клянусь, что сделаю все от меня зависящее, чтобы мирно, заботливо и радостно окружить твою духовную и всякую жизнь.
Ведь есть сотни жен, которые требуют от мужей действительно многого: «Поедем в Париж за нарядами, или на рулетку, принимай моих любовников, не смей ездить в клуб, купи мне бриллианты, узаконь прижитого Бог знает от кого ребенка», и проч. и проч.
Господь спас меня от всяких соблазнов и требований. Я была так счастлива, что ничего мне и не нужно было, и я благодарила только Бога.
Я в первый раз в жизни — не требовала, а страдала ужасно от твоего охлаждения и от вмешательства Черткова в нашу жизнь, и в первый раз пожелала всей своей страдающей душой, может быть, уж невозможного — возврата прежнего.
Средства достижения этого, конечно, были самые дурные, неловкие, не добрые, мучительные для тебя, тем более для меня, и я очень скорблю об этом. Не знаю, была ли я вольна над собою, думаю, что нет; все у меня ослабело: и воля, и душа, и сердце, и даже тело. Редкие проблески твоей прежней любви делали меня безумно счастливой за все это время, а моя любовь к тебе, на которой основаны все мои поступки, даже ревнивые и безумные, никогда не ослабевала, и с ней я и кончу свою жизнь. Прощай, милый, и не сердись за это письмо.
Твоя жена для тебя всегда только Соня»2.
24 сентября отец записал:
«Она больная, и мне жалко ее от души».
Горе мое было в том, что я не жалела, я сердилась... А насколько было бы легче отцу, если бы мы, его близкие, жалея мать, могли «со смирением и любовью» отнестись к ней.
«Только тогда, брат Лев, только тогда будет радость совершенная».
Я была слишком молода, чтобы это понять.
23 сентября — свадебный день родителей. Мать хотела сделать снимки с нее и отца. Было холодно, дул северный ветер. Отец, заткнув руки за пояс, стоял с непокрытой головой, мрачно глядя перед собой... Я была в нехорошем, злом настроении. Вернувшись из Кочетов, я заметила, что ни Чертковской, ни моей фотографии в кабинете на стене не было. Мать сняла их. И... я не выдержала. Я резко, недобро говорила с отцом.
«Ведь я не сама себя повесила над твоим рабочим креслом, ты повесил этот портрет, и теперь что мать перевесила, ты не решаешься повесить его обратно».
Отец закачал головой, повернулся и ушел.
«Ты уподобляешься ей», — сказал он мне, уходя.
Как я могла...
За обедом все молчали. После обеда я, по обыкновению, сидела и писала в канцелярии. Звонок. Я не пошла и послала Булгакова. Через минуту опять звонок. Опять я не пошла. В этот раз Булгаков, вернувшись, передал желание отца, чтобы я пришла.
— Саша, я хочу тебе продиктовать письмо.
— Хорошо.
— Взяла карандаш, бумагу, собралась писать, а в душе было желание броситься целовать ему руки и просить прощения. В горле стояли слезы и я не могла произнести ни слова.
— Не нужно мне твоей стенографии, не нужно, — вдруг со слезами в голосе как-то глухо сказал отец и, упав на ручку кресла, зарыдал.
— Прости меня, прости, — я бросилась целовать его руки, лоб, плечи — прости.
Долго мы оба плакали. Он стал мне диктовать, а я не вижу своих крючков, глаза застилает слезами... Когда кончили, я опять стала просить прощения.
— Я уже все забыл, — сказал он.
На другой день портрет Черткова и мой висели на прежних местах.
Старушка Шмидт была в Ясной Поляне, Варя и я уехали к Ольге в имение, буря разразилась без нас.
Увидав портреты Черткова и мой на прежних местах, мать бросилась к себе в комнату, схватила пугач, начала стрелять в портрет Черткова, сорвала его со стены и разорвала на мелкие кусочки.
Когда мы с Варей, после чудесно проведенного дня с детьми и Ольгой в Таптыкове, собрались идти спать, приехал вдруг кучер из Ясной Поляны с письмом от старушки Шмидт, в котором она просила нас немедленно вернуться. Я велела запрягать. Ночь — тьма кромешная. Дороги ужасные, грязища, кучер боится ехать. Часа три ехали. С замиранием сердца я вошла в дом. Страшная буря материнского гнева обрушилась на нас. Варе мать велела убираться на все четыре стороны, меня — почти что выгнала.
Отец не спал. Я сказала ему, что мне кажется, что мне лучше уехать. Я надеялась, что он уедет со мной или позднее присоединится ко мне.
«Я вообще не одобряю того, что ты не выдержала и уйдешь и, как ты знаешь, я в письмах всегда отвечаю на подобные вопросы, что, по моему мнению, внешних условий жизни менять не нужно, это с одной стороны, а с другой стороны, я по слабости своей рад, если ты уедешь. Ближе к развязке, так больше продолжаться не может. Черткова С. А. удалила, на Марью Александровну
накричала, Варю выгнала, тебя почти что выгнала. Не унывай, держись, все к лучшему*'.
От Телятинок до Ясной Поляны 20 минут езды. А если я уеду, Таня или Сережа должны будут поселиться с родителями. «Ближе к развязке». — думала я.
И действительно, после моего отъезда наступил мир, мать как будто поняла, что переступила все границы.
Из Телятинок я ездила в Ясную каждый день, переписывала отцу по обыкновению, но ночью покоя не было; а что если он заболел... А может быть, я ему нужна вот сейчас, сию минуту, а меня нет...
Через несколько дней я осознала, что мой отъезд не побудит отца уехать, как я надеялась, он решил терпеть до конца. В дневнике он писал: «Только бы перед Богом быть чистым. И сейчас сознаешь радость жизни... Молился хорошо: Господи, Владыко живота моего и Царю Небесный».
Матери был очень неприятен мой отъезд, ей хотелось примириться со мной, взять Варю обратно.
«Со мной была трогательна тем, — записал отец 29 сентября, — что благодарила меня за ласковость с ней. Страшно, а хочется думать, что и ее (С. А.) можно победить добром».
В дневнике для одного себя отец писал 2 октября:
«С утра первое слово о своем здоровье, потом осуждение и разговоры без конца, и вмешательство в разговор. И я плох. Не могу победить чувства нехорошего, недоброго. Нынче живо почувствовал потребность художественной работы и вижу невозможность отдаться ей от нее (С. А.), от неотвязного чувства о ней, от борьбы внутренней. Разумеется, борьба эта и возможность победы в этой борьбе важнее всех возможных художественных произведений».
В маленьком моем домике, где было, в сущности, очень уютно, я не находила себе места. Все мои мысли и чувства были в Ясной Поляне.
— Что ты пригорюнилась, ходишь точно сама не своя? — говорила мне моя кума Аннушка, широкоскулая, курносая, веселая яснополянская баба, которая помогала по дому. — Я никогда не грущу. Напьется ли мой Никита, али кто из ребят захворает, я сажусь Марк Аврелия читать... — Что? Марка Аврелия? — спросила я ее с удивлением, — Ну да, Марк Аврелия, книжечка такая есть, граф мне дал. Как затоскую, сейчас старшего Петьку кличу: «Петька! Читай мне Марк Аврелия!» Сразу на душе полегчает... А вот еще, — продолжала она свою философию, — много я думала, как лучше жить. И так прикину, и эдак, ничего не помогает. Одно только мне помогает: о смерти думать. Как начнешь о смерти думать, что вот ты нынче жив, а завтра тебе три аршина земли только нужно, и все заботы отойдут, не нужно тебе ничего. Только о том и думаешь, как бы мне сейчас не согрешить.
Я рассказала отцу про свою куму.
«Вот мудрость-то где настоящая, — сказал он смеясь, стараясь скрыть слезы умиления, — вот у кого учиться надо».
В Ясную Поляну приехали Сережа и Таня. Мой отъезд подействовал на них и они твердо заявили матери, что если она не перестанет мучить отца, они возьмут ее под опеку и отправят в санаторию. «Давно пора», — думала я.
Вечером 3 октября приехал кучер из Ясной Поляны с запиской от Булгакова: «Льву Николаевичу очень плохо, приезжайте скорей». У отца был глубокий обморок, все тело сотрясалось от судорог в ногах. Все бегали, суетились, мать на
коленях ломала себе руки, причитала: «Господи, только бы не на этот раз... Господи, помоги»...
Чертков, изгнанный моей матерью из дома, сидел внизу, в комнате Душана. К одиннадцати часам отцу стало лучше. Тихо, на цыпочках, я подошла к нему, поцеловала его руку. К ночи он заснул и на утро все прошло, вернулось полное сознание, но он сильно ослабел.
Приехали Таня и Сережа, говорили с матерью. И в первый раз, я, присоединившись к разговору, прямо, при старших, сказала матери, все, что отец пережил. Я говорила резко, без прикрас, я предупреждала, что если мать не уедет или не переменится — отец не выдержит, умрет... И тогда. — Кто будет виноват?..
Сережа пробовал остановить меня, но это было невозможно. Я должна была излить свои страдания за последние месяцы. «Вы и трех дней не выдерживаете этого, вам тяжело... а я». Кончилось тем, что я расплакалась и убежала.
Я уехала домой завтракать и к вечеру снова вернулась к отцу. Когда поздно вечером я собралась уезжать, Илья Васильевич мне сказал, что «графиня меня желает видеть».
— Где она?
— На крыльце.
Моя мать стояла у двери в одном платье. Голова ее беспомощно тряслась. Мне вдруг стало ее ужасно жалко, хотелось броситься к ней на шею, но я сдержалась.
— Ты хотела говорить со мной? — спросила я.
— Да, я хотела сделать еще один шаг к примирению. Прости меня. — Она стала целовать меня, повторяя; «прости, прости». Я тоже стала ее целовать, прося успокоиться,
— Прости меня, прости, я тебе даю честное слово, что больше никогда не буду оскорблять тебя, — повторяла она крестясь и целуя меня. — Скажи Варе, что я извиняюсь перед ней, что мы с ней жили четыре года и Бог даст еще столько же проживем, я не знаю, что со мной, с нами сделалось.
— Меня не оскорбляй, но и отца тоже, — сказала я, сама заливаясь слезами. — Не надо его обижать, я не могу видеть, как он измучился.
— Не буду, не буду, я тебе даю честное слово, — все повторяла она крестясь, — его не буду мучить. Ты не поверишь, как я измучилась этой ночью, я ведь знаю, что он болен был от меня, и я никогда не простила бы себе, если бы он умер... Ты не поверишь, как я ревную, — говорила она, — я никогда в жизни, в молодости даже не чувствовала такой сильной ревности, как теперь к Черткову.
Жалость к ней сжимала мое сердце...
Снова затеплилась надежда. Мы с Варей немедленно вернулись в Ясную Поляну. Несколько дней было тише. Я изо всех сил старалась сохранить то доброе, размягченное чувство, которое проснулось во мне после этого разговора.
«Вчера 6 октября, — писал отец, — был слаб и мрачен. Все было тяжело и неприятно. От Черткова письмо... Она старается и просила его приехать. Сегодня Таня ездила к Чертковым. Галя очень раздражена. Чертков решил приехать в 8, теперь без 10 минут. С. А. просила, чтобы я не целовался с ним. Как противно. Был истерический припадок. — Нынче 8-ое. Я высказал ей все то, что считал нужным. Она возражала, и я раздражился. И это было дурно. Но, может быть, все-таки что-нибудь останется. Правда, что все дело в том, чтобы самому не
поступить дурно, но и ее, не всегда, но большею частью искренно жалко. Ложусь спать, проведя день лучше».
Числа 12 октября снова возобновились разговоры о завещании. То, что мать рассказывала всем окружающим в связи с обмороком отца, было так ужасно, что не хотелось бы подробно на этом останавливаться. Она говорила, что если отец написал завещание, его можно будет опротестовать, доказав, что у отца слабоумие. Она то и дело вбегала в его комнату, становилась на колени, укоряла его, угрожала, умоляла его уничтожить завещание, целовала его руки.
13 октября отец записал;
«Оказывается она нашла и унесла мой дневник маленький. Она знает про какое-то, кому-то, о чем-то завещание — очевидно, касающееся моих сочинений... Какая мука из-за денежной стоимости их — и боится, что я помешаю ее изданию. И всего боится, несчастная».
14-го октября мать написала отцу письмо:
«Ты каждый день меня как будто участливо спрашиваешь о здоровье, о том, как я спала, а с каждым днем новые удары, которыми сжигается мое сердце, которые сокращают мою жизнь и невыносимо мучают меня, и не могут прекратить моих страданий. Этот новый удар, злой поступок относительно лишения авторских прав твоего многочисленного потомства, судьбе угодно было мне открыть, хотя сообщник в этом деле и не велел тебе его сообщать мне и семье. Он грозил мне напакостить, мне и семье, и блестяще это исполнил, выманив бумагу от тебя с отказом. Правительство, которое во всех брошюрах вы с ним всячески бранили и отрицали будет по закону отнимать у наследников последний кусок хлеба и передавать его Сытиным и разным богатым типографиям и аферистам, в то время, как внуки Толстого, по его злой и тщеславной воле, будут умирать с голода. Правительство же, Государственный банк хранит от жены Толстого его дневники. Христианская любовь последовательно убивает разными поступками самого близкого (не в твоем, а в моем смысле) человека — жену, со стороны которой во все время поступков злых не было никогда и теперь, кроме самых острых страданий, тоже нет. Надо мною же висят и теперь разные-угрозы. И вот, Лёвочка, ты ходишь молиться на прогулке, помолясь, подумай хорошенько о том, что ты делаешь под давлением этого злодея, потуши зло, открой свое сердце, пробуди любовь и добро, а не злобу и дурные поступки, и тщеславную гордость (по поводу своих авторских прав), ненависть ко мне, к человеку, который любя отдал тебе всю жизнь и любовь. — Если тебе внушено, что мною руководит корысть, то я лично официально готова, как дочь Таня, отказаться от прав наследства мужа. На что мне? Я очевидно скоро так или иначе уйду из этой жизни. Меня берет ужас, если я переживу тебя, какое может возникнуть зло на твоей могиле и в памяти детей и внуков.
Потуши его, Лёвочка, при жизни! Разбуди и смягчи свое сердце, разбуди в нем Бога и любовь, о которых так громко гласишь людям.
С. Т.»2
«Нынче разрешилось, — записал отец 16 октября, — Хотел уехать к Тане, но колеблюсь. Истерический припадок, злой. — Все дело в том, что она предлагала мне ехать к Чертковым, просила об этом, а нынче, когда я сказал, что поеду, начала бесноваться. Очень, очень трудно. Помоги Бог. Я сказал, что никаких обещаний не дам и не даю, но сделаю все, что могу, чтобы не огорчить ее. Отъезд
завтрашний едва ли приведу в исполнение. А надобно. Да, это испытание, и мое дело в том, чтобы не сделать недоброго, Помоги Бог».
Покоряясь желанию матери, отец не ездил в Телятинки и попросил Черткова не ездить к нам. Но С. А. не верила ему, пешком ходила по дороге в Телятинки, следя за ним.
11 октября отец записал в дневнике:
«Летят дни без дела. Поздно встал. Гулял. Дома С. А. опять взволнована воображаемыми моими тайными свиданиями с Чертковым. Очень жаль ее, она больна».
«Не совсем здоров, вял, — писал он 16 октября. — Ходил, ничего не думалось. Письма, поправлял «О социализме», но скоро почувствовал слабость и оставил. Сказал за завтраком, что поеду к Чертковым. Началась бурная сцена, убежала из дома, бегала в Телятинки. Я поехал верхом, послал Душана сказать,что не поеду к Чертковым, но он не нашел ее. Я вернулся, ее все не было. Наконец, нашли в 7-м часу. Она пришла и неподвижно сидела одетая, ничего не ела. И сейчас вечером объяснялась нехорошо. Совсем ночью трогательно прощалась, признавала, что мучает меня и обещала не мучить. Что то будет?»
17 октября отец писал Черткову:
«Хочется, милый друг, по душе поговорить с вами. Никому так, как вам, не могу так легко высказать, — знаю, что никто так не поймет, как бы неясно, недосказанно ни было то, что хочу сказать. Вчера был серьезный день. Подробности фактические вам расскажут, но мне хочется рассказать свое — внутреннее. Жалею и жалею ее и радуюсь, что временами без усилия люблю ее. Так было вчера ночью, когда она пришла покаянная и начала заботиться о том, чтобы согреть мою комнату и, несмотря на измученность и слабость, толкала ставеньки, заставляла окна, возилась, хлопотала о моем... телесном покое. Что ж делать, если есть люди, для которых (и то я думаю до времени) недоступна реальность духовной жизни. Я вчера с вечера почти собрался уехать в Кочеты, но теперь рад, что не уехал. Я нынче телесно чувствую себя слабым, но на душе очень хорошо. И от этого-то мне и хочется высказать вам, что я думаю, а главное — чувствую.
Я мало думал до вчерашнего дня о своих припадках, даже совсем не думал, но вчера я ясно живо представил себе, как я умру в один из таких припадков. И понял то, что, несмотря на то, что такая смерть в телесном смысле, совершенно без страданий телесных, очень хороша, она в духовном смысле лишает меня тех дорогих минут умирания, которые могут быть так прекрасны. И это привело меня к мысли о том, что если я лишен по времени этих последних сознательных минут, то ведь в моей власти распространить их на все часы, дни, может быть, месяцы, годы (едва ли), которые предшествуют моей смерти, могу относиться к этим дням, месяцам, так же серьезно, торжественно (не по внешности, а по внутреннему сознанию), как бы я относился к последним минутам сознательно наступившей смерти. И вот эта-то мысль, даже чувство, которое я испытал вчера и испытываю нынче, и буду стараться удержать до смерти, меня особенно радует, и вам-то мне и хочется передать ее. — В сущности, это все очень старо, но мне открылось с новой стороны...».
Все это время отец ничего не мог писать. Отвечал на письма, немного писал о социализме. «Не могу работать, писать, но слава Богу, могу работать над собой. Все подвигаюсь». А на следующий день, 18 октября, он объясняет свои слова
следующей записью: «Слава Богу, без сожаления чувствую хорошую готовность смерти».
19 октября. «Ночью пришла С. А.: «Опять против меня заговор». — «Что такое, какой заговор?» — «Дневник отдан Черткову. Его нет». — «Он у Саши». Очень было тяжело, долго не мог заснуть, потому что не мог подавить недоброе чувство».
В тот же день отец записал: «Опять ничего не делал, кроме писем. Здоровье худо. Близка перемена. Хорошо бы прожить последок получше. С. А. говорила, что жалеет вчерашнее. Я кое-что высказал, особенно про то, что, если есть ненависть хоть к одному человеку, то не может быть истинной любви».
Отец видимо ослабел. Куда девалась его жизнерадостность, бодрость.
21 октября к отцу пришли трое крестьян: Михаил Новиков, с которым отец и раньше видался и переписывался — умный, развитой человек, разделявший взгляды отца — и двое местных крестьян. Уже давно я не видела отца в таком веселом настроении. Когда я пришла к отцу за письмами, он, встретив меня в столовой, увел меня в кабинет, из кабинета повел в спальню. — «Пойдем, пойдем, — говорил он лукаво улыбаясь, — я тебе большой секрет скажу, большой секрет». Я шла за ним и мне, глядя на него, тоже было весело. В кабинете отец остановился и сказал: «А знаешь ли ты, что я придумал. Я немножко рассказал Новикову о нашем положении и о том, как мне тяжело здесь. Я уеду к нему. Там меня уж не найдут. А Новиков мне рассказал, как у его брата была жена алкоголичка, так вот, если уж очень начнет безобразничать, брат походит ее по спине, она и лучше. Помогает». — И отец добродушно засмеялся. — «Вот поди, какие на свете бывают противоречия».
Я рассказала отцу, как один раз Иван-кучер вез Ольгу, она спросила его, что делается в Ясной. Он ответил, что плохо, А потом обернулся к ней и сказал: — «А что, ваше сиятельство, у нас по-деревенски если баба задурит, муж ее вожжами, — шелковая сделается».
Отец стал еще больше смеяться. «Да, да, вот поди ты, какие бывают...». — «Да это по-моему и не противоречие, — перебила я его, — а только у них вожжи настоящие, веревочные, а у нас должны быть вожжи нравственные». — «Да, да. А я, должно быть, все-таки уеду», — повторил он.
В дневнике для одного себя от 21 октября он записал: «Очень тяжело несу свое испытание. Слова Новикова: «походил кнутом. Много лучше стала», и Ивана: «в нашем быту вожжами», все вспоминаются, и недоволен собой. Ночью думал об отъезде. Саша много говорила с ней, а я с трудом удерживаю недоброе чувство».
24 октября отец продиктовал мне письмо Михаилу Новикову.
24 октября 1910 г.
«Ясная Поляна.
Михаил Петрович,
В связи с тем, что я говорил вам перед вашим уходом, обращаюсь к вам еще с следующей просьбой: если бы действительно случилось то, чтобы я приехал к вам, то не могли бы вы найти мне у вас в деревне хотя бы самую маленькую, но отдельную и теплую хату, так что вас с семьей я бы стеснял самое короткое время. Еще сообщаю вам то, что если бы мне пришлось телеграфировать вам, то я телеграфировал бы вам не от своего имени, а от Т. Николаева.
Буду ждать вашего ответа, дружески жму руку.
Имейте в виду, что все это должно быть известно только вам одним».
Отец не мог работать, не мог сосредоточиться, мысли перебивались, покой нарушался постоянными разговорами, ночью, днем, во время занятий.
25 октября 1910 г. — Вошла к отцу. Он сидел на кресле у стола, ничего не делая. Как-то странно-непривычно было видеть его без книги, без пера, или даже пасьянса, который он любил раскладывать, когда думал. — «Я сижу и мечтаю, — сказал он мне, — мечтаю о том, как уйду. Ты ведь захочешь идти непременно со мной?» — спросил отец. — «Да я не хотела бы тебя стеснять, может быть, первое время, чтобы тебе легче было уйти, не пошла бы с тобой, а вообще жить врозь с тобой я не могу». — «Да, да, но ты знаешь что я все думаю, что ты для этого недостаточно здорова, насморки, кашель начнется»... — «Нет, нет, это ничего. Мне будет лучше в простой обстановке». — «Ежели так, то мне самое естественное, самое приятное иметь тебя около себя, как помощницу. Я думаю сделать так. Взять билет до Москвы, кого-нибудь, Черткова, послать с вещами в Лаптево и самому там слезть. А если там откроют, еще куда-нибудь поеду. Ну, да это наверное все мечты, я буду мучиться, если брошу ее, меня будет мучить ее состояние... А с другой стороны, так делается тяжела эта обстановка, с каждым днем все тяжелее. Я, признаюсь тебе, жду только какого-нибудь повода, чтобы уйти»3.
25 октября приехал Сережа.
Вот что пишет брат Сергей об этом посещении:
«25 октября вечером я приехал в Ясную из Тулы. Никого посторонних не было; были только моя мать, сестра Саша, Душан Петрович и Варвара Михайловна. Я пошел в кабинет к отцу, думая, что он хочет со мною поговорить о матери, а может быть и о моих делах. Но мать все время была тут же и все время говорила без умолку. Он начнет говорить, а она его перебивает, говоря совсем о другом. Он умолкал, ждал, когда она даст ему возможность вставить слово, и
тогда продолжал говорить о том, о чем начал. Точно его перебивал посторонний шум».
В этот вечер Сережа разговаривал с отцом о литературе, играл с ним в шахматы и по его просьбе играл на фортепиано.
«Когда я сыграл "Ich liebe dich" Грига, — пишет С. Л. Толстой, — он всхлипнул. Уходя спать, я пошел в кабинет прощаться с ним. Кроме нас, никого в комнате не было. Он спросил меня: «Почему ты скоро уезжаешь?» Я собирался уезжать рано утром на следующий день. Я сказал, что мне надо устроить свои дела. Я очень хотел пожить в Ясной некоторое время, несколько разобраться в том, что там происходило и, может быть, помочь. Но мне сперва хотелось уладить свои личные дела... Как мне теперь кажутся ничтожными эти дела. — Отец на это сказал: «А ты бы не уезжал». Я ответил, что скоро опять приеду. Впоследствии я вспомнил, что он сказал эти слова с особенным выражением; он, очевидно, думал о своем отъезде и хотел, чтобы я после его отъезда оставался при матери. Он всегда думал, что я могу несколько влиять на нее. Прощаясь, он торопливо и необычно нежно притянул меня к себе с тем, чтобы со мной поцеловаться. В другое время он просто подал бы мне руку»4.
И 26-го же отец писал Черткову:
«Нынче в первый раз почувствовал с особенной ясностью — до грусти — как мне недостает вас... Есть целая область мыслей, чувств, которыми я ни с кем иным не могу так естественно делиться, — зная, что я вполне понят, — как с вами. Нынче было таких несколько мыслей-чувств. Одна из них о том, нынче во сне испытал толчок сердца, который разбудил меня и, проснувшись, вспомнил длинный сон, как я шел под гору, держался за ветки и все-таки поскользнулся и упал, — т. е. проснулся. Все сновидение, казавшееся прошедшим, возникло мгновенно, так одна мысль о том, что в минуту смерти будет этот, подобный толчку сердца в сонном состоянии, момент вневременный, и вся жизнь будет этим ретроспективным сновидением. Теперь же ты в самом разгаре этого ретроспективного сновидения. — Иногда мне это кажется верным, а иногда кажется чепухой. Вторая мысль — чувство это, опять-таки нынче виденное мною, уже третье в эти последние два месяца художественное, прелестное, нынешнее, художественное сновидение. Постараюсь записать его и предшествующие хотя бы в виде конспектов. Третье, это уже не столько мысль, сколько чувство, и дурное чувство-желание перемены своего положения. Я чувствую что-то не должное, постыдное в своем положении, и иногда смотрю на него — как и должно — как на благо, а иногда противлюсь, возмущаюсь. Саша сказала вам про мой план, который иногда в слабые минуты обдумываю. Сделайте, чтобы слова Саши об этом и мое теперь о них упоминание, были бы comme non avenu (как не бывшие). Очень вы мне недостаете. На бумаге всего не расскажешь. Ну хоть что-нибудь. Я пишу вам о себе. Пишите и вы о себе и как попало. Как вы поймете меня с намека, так и я вас. Ну, до свиданья. Если что-нибудь предприму, то, разумеется, извещу вас. Даже, может быть, потребую от вас помощи. Л.Т.».
26 октября отец ездил к старушке Шмидт. Может быть, он ездил к ней прощаться.
«Я уеду к Тане, напишу ей, что уеду к Тане, а оттуда уеду в Оптину Пустынь, приду к какому-нибудь старцу и попрошу позволения жить там. Они верно меня примут, будут надеяться обратить меня», — сказал он Душану5.
26 октября он записал:
«Ничего особенного не было. Только росло чувство стыда и потребности предпринять».
«Жизнь Сон —
Смерть — Пробуждение».
Лев Толстой.
Круг чтения, 7 ноября.
Спросонья я ничего не понимала. Кто-то настойчиво и, как мне показалось, резко стучал в дверь. Я вскочила. «Кто здесь?» Отец стоял в дверях со свечой в руке, совсем одетый, в блузе, сапогах: «Я сейчас уезжаю... совсем... Помоги мне укладываться...».
Мы — Душан, Варя и я, двигались тихо в полутьме, стараясь не шуметь, разговаривая шопотом, стараясь собрать все необходимое. Я собирала рукописи, Душан лекарства, Варя белье и одежду, отец укладывал вещи в коробочки, аккуратно перевязывая их. Часть рукописей были уже им перевязаны: «Сохрани эти рукописи», — сказал он мне. «А дневник?» — спросила я. «Я взял его с собой». Движения отца были спокойные и уверенные, только прерывающийся голос выдавал его волнение. Дверь, ведущая через коридор в спальню матери, которую а последнее время она оставляла открытой — была прикрыта.
«Ты останешься здесь, Саша, — сказал мне отец. — Я выпишу тебя через несколько дней, когда я решу окончательно, куда я поеду, а поеду я вероятнее всего к Машеньке, в Шамордино».
Мы спешили. С каждой минутой отец становился все нервнее, неспокойнее и торопил нас. Руки у нас дрожали, ремни не затягивались, чемоданы не закрывались...
«Я пойду на конюшню, — сказал он, — скажу, чтобы запрягали лошадей». Минут через пять он вернулся обратно. Тьма, отец сбился с дороги, наткнулся на куст акации, упал, потерял шапку и вернулся обратно за электрическим фонариком.
Наконец, все было улажено. Душан, Варя и я с трудом тащили вещи на конюшню по липкой грязи. Дойдя до флигеля, мы увидели огонек. Отец шел нам навстречу. Он взял у меня один чемодан и пошел вперед, освещая дорогу. Кучер Адриан уже накидывал постромки на вторую лошадь.
Наконец, все уже было готово, Филечка-конюх вскочил на лошадь с ярко горящим факелом в руке.
«Трогай!» — я почти на ходу вскочила на подножку пролетки, поцеловала отца.
«Прощай, голубушка, — сказал он, — мы скоро увидимся».
Пролетка, минуя дом, поехала через яблоневый сад, мимо пруда. Между обнаженными деревьями мелькал огонь факела... дальше, дальше... пока, наконец, не скрылся за поворотом на деревню.
Чувство жуткой пустоты охватило меня, когда я вошла в дом. Шестой час. Поезд уходил со станции в восемь. Я села в кресло, закуталась в одеяло. Меня трясло как в лихорадке. Я отсчитывала минуты, часы. В восемь я пошла бродить по комнатам. Илья Васильевич уже знал. «Лев Николаевич мне говорил, что собирается уехать, — сказал он, — а нынче я догадался по платью, что его нет»...
Постепенно весть облетела весь дом. Служащие шушукались, делая свои
заключения. Моя мать, не спавшая почти всю ночь, проснулась поздно, около 11 часов, и быстрыми шагами вбежала в столовую.
— Где папа? — спросила она меня.
— Уехал.
— Куда?
— Я не знаю, — и я подала ей письмо отца.
Она быстро пробежала его глазами, голова ее тряслась, руки дрожали, лицо покрылось красными пятнами.
«Отъезд мой огорчит тебя, — писал отец, — сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится, стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста — уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни.
Пожалуйста пойми это и не езди за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения.
Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, так же, как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мною. Советую тебе примириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства. Если захочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет знать, где я, и перешлет мне, что нужно. Сказать же о том, где я, она не может, потому что я взял с нее обещание не говорить этого никому.
Лев Толстой.
Собрать вещи и рукописи мои и переслать мне я поручил Саше».
Но С. А. не дочитала письма. Она бросила его на пол и с криком: «Ушел, ушел совсем, прощай Саша, я утоплюсь», — бросилась бежать.
Я крикнула Булгакову, чтобы он следил за матерью, которая в одном платье выскочила на двор и по парку побежала вниз, по направлению к среднему пруду. Видя, что Булгаков отстает, я, что есть духу, помчалась матери наперерез, но догнать ее не могла. Я подбежала к мосткам, где обычно полоскали белье в тот момент, когда моя мать поскользнулась на скользких досках, упала, и скатилась в воду в сторону, где, к счастью, было неглубоко. В следующую секунду я была уже в воде и держала мать за платье. За мной бросился Булгаков и мы вдвоем подняли ее над водой и передали толстому запыхавшемуся Семену повару и лакею Ване, которые бежали за нами.
В продолжение всего этого дня мы не оставляли матери. Она несколько раз порывалась снова выбегать из дома, угрожала, что выбросится в окно, утопится в колодце на дворе.
Сестре Тане и всем братьям я послала телеграммы, извещая их о случившемся и прося немедленно приехать, вызвала врача-психиатра из Тулы. Весь день и всю ночь я не переставая следила за матерью.
Но в то время, как я меняла свою мокрую одежду, она успела послать Ваню лакея на станцию, чтобы узнать, с каким поездом уехал отец и послала ему телеграмму: «Вернись немедленно — Саша». Вдогонку этой телеграмме я послала вторую: «Не беспокойся, действительны телеграммы только подписанные Александрой». Эти телеграммы, к счастью, не были получены отцом — он успел пересесть на другой поезд.
Трудно описать состояние нервного напряжения, в котором я находилась весь день до приезда родных. Тульский доктор мало меня утешил. Он не исключал возможности, что С. А. в припадке нервного возбуждения могла бы покончить с собой.
Я почувствовала громадное облегчение, когда сначала приехал брат Андрей, а потом и все остальные.
Все родные, даже Таня, считавшая, что отец, как христианин, должен был нести до конца свой крест, не одобряли поступка отца и говорили, что он должен вернуться к матери. Один только Сергей понял отца и написал ему об этом. «Милый папа, — писал он, — я пишу потому, что Саша говорит, что тебе приятно было бы знать наше мнение (детей). Я думаю, что мама нервно больна и во многом невменяема, что вам надо было расстаться (может быть, уже давно), как это ни тяжело обоим. Думаю также, что если даже с мама что-нибудь случится, чего я не ожидаю, то ты себя ни в чем упрекать не должен. Положение было безвыходное, и я думаю, что ты избрал настоящий выход. Прости, что я так откровенно пишу. Сережа».
Все, кроме Миши, написали отцу письма и все уговаривали отца вернуться.
«Лёвочка, голубчик, — писала моя мать, — вернись домой, милый, спаси меня от вторичного самоубийства. Лёвочка, друг всей моей жизни, все, все сделаю, что хочешь, всякую роскошь брошу совсем; с друзьями твоими будем вместе дружны, буду лечиться, буду кротка...
...Тут все мои дети, но они не помогут мне своим самоуверенным деспотизмом; а мне одно нужно, нужна твоя любовь, необходимо повидаться с тобой. Друг мой, допусти меня хоть проститься с тобой, сказать в последний раз, как я люблю
тебя. Позови меня или приезжай сам. Прощай, Левочка, я все ищу тебя и зову. Какое истязание моей душе»'.
Семья догадывалась, что отец уехал к тетеньке Марии Николаевне и моя мать просила Андрея поехать в Шамордино, чтобы уговорить отца вернуться.
Уже в Оптиной Пустьше отец описал свой уход в дневнике от 28 октября:
«Лег в половине двенадцатого. Спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услыхал отворяние дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это С. А. что-то разыскивает, вероятно читает. Накануне она просила, требовала, чтобы я не запирал дверей. Ее обе двери отворены, так что малейшее мое движение слышно ей. И днем и ночью все мои движения, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги, осторожное отпирание двери и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяет дверь н входит С. А., спрашивая «о здоровье» и удивляясь на свет у меня... Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс — 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать. Пишу ей письмо, начинаю укладывать самое нужное, только бы уехать. Бужу Душана, потом Сашу. Они помогают мне укладываться. Я дрожу при мысли, что она услышит, выйдет сцена, истерика, и уж впредь без сцены не уехать...»
Дальше отец описывает сборы...
«Я дрожу, ожидая погони. Но вот уезжаем. В Щекине ждем час, и я всякую минуту жду ее появления. Но вот сидим в вагоне, трогаемся и страх проходит, и поднимается жалость к ней, но не сомнение, сделал ли то, что должно. Может быть, ошибаюсь, оправдывая себя, кажется, что я спасал себя, не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть есть во мне. Доехали до Оптиной. Я здоров, хотя и не спал и почти не ел. Путешествие от Горбачева в 3-м, набитом рабочим народом, вагоне, очень поучительно и хорошо, хотя и слабо воспринимал. Теперь восемь часов, мы в Оптиной».
Никто из окружающих не понимал в то время сложности внутренних переживаний отца, не понимал, что он спасал не Льва Николаевича, а то духовное, что было в нем. Он чувствовал приближение смерти, он должен был иметь тот внутренний и внешний покой, который дал бы ему возможность сосредоточения на том главном, что составляло теперь смысл всей его жизни — на подготовлении к смерти.
29 октября, по поручению Черткова, к отцу приехал Алеша Сергеенко с письмом от Черткова, который писал отцу:
«Не могу высказать вам словами, какою для меня радостью было известие о том, что вы ушли. Всем существом сознаю, что вам надо было так поступить и что продолжение вашей жизни в Ясной, при сложившихся условиях, было бы с вашей стороны нехорошо. И я верю тому, что вы достаточно долго откладывали, боясь сделать это «для себя», для того, чтобы на этот раз в вашем основном побуждении не было личного эгоизма. А то, что вы по временам неизбежно будете сознавать, что вам в вашей новой обстановке и лично гораздо покойнее, приятнее и легче — это не должно вас смущать. Без душевной передышки жить невозможно. Уверен, что от вашего поступка всем будет лучше, и прежде всего бедной Софье Андреевне, как бы он внешним образом на ней не отразился...».
Оставив мать на попечение семьи, я уехала к отцу в Шамордино. Варя поехала со мной.
Письма детей огорчили его. Он понял, что не мог рассчитывать на их поддержку. Только Сережино письмо обрадовало и тронуло его: «Письмо от Сергея хорошее, деловитое, короткое и доброе», — записал он в дневнике.
Прочитав все письма, он сказал:
«Да, да, но как мне ни страшно, я не могу вернуться, не вернусь».
«Ты не получила моих писем?» — спросил он меня. Я сказала, что они вероятно разошлись со мной.
«Я хотел, чтобы ты передала Тане и Сереже, что мне совершенно немыслимо вернуться к ней».
Вот что отец писал мне (28 октября 1910 г.):
«Доехали, голубчик Саша, благополучно. Ах, если бы только у вас не было не очень неблагополучно. Теперь половина восьмого. Переночуем и завтра поедем, если будем живы, в Шамордино.
Стараюсь быть спокойным и должен признаться, что испытываю то же беспокойство, какое и всегда, ожидая всего тяжелого; но не испытываю того стыда, той неловкости, той несвободы, которую испытывал всегда дома... В. Г. (Черткову) скажи, что очень рад и очень боюсь того, что сделал. Постараюсь написать сюжеты снов и просящиеся художественные писания. От свидания с ним до времени считаю лучшим воздержаться. Он, как всегда, поймет меня. Прощай,
голубчик, целую тебя.
Л. Т.»
Во втором письме (от 29 октября) отец писал:
«Сергеенко тебе все про меня расскажет, милый друг Саша. Трудно. Не могу не чувствовать большой тяжести. Главное, не согрешить, в этом и труд. Разумеется, согрешил и согрешу, но хоть бы поменьше. Этого, главное, прежде всего желаю тебе, тем более что знаю, что тебе выпала страшная, не по силам, по твоей молодости, задача.
Я ничего не решил и не хочу решать. Стараюсь делать только то, чего не могу не делать, и не делать того, чего мог бы не делать. Из письма к Черткову ты увидишь, как я не то, что смотрю, а чувствую... Тебя еще не выписываю, но выпишу, как только будет можно, и очень скоро. Пиши, как здоровье. Целую тебя.
Л. Толстой».
На мой вопрос, жалеет ли отец о том, что он сделал, он вопросом ответил мне: «Разве может человек жалеть, если он не мог поступить иначе?»
Из моих рассказов отец понял, что семья догадывается о его местопребывании и что не нынче-завтра С. А. приедет к нему.
Тетенька и дочь ее Лиза Оболенская, гостившая у матери, всячески утешали отца. В них он не чувствовал и тени осуждения и критики его поступка. Отцу было хорошо с ними. Не случайно было то, что именно в такую, может быть, в самую тяжелую минуту своей жизни, он поехал к родному ему человеку.
«Самое утешительное, радостное впечатление от Машеньки... — писал он в дневнике от 29 октября, — и милой Лизаньки. Обе понимают мое положение и сочувствуют ему. Дорогой ехал и все думал о выходе из моего и ее положения и не мог придумать никакого, а ведь он будет, хочешь не хочешь, а будет и не тот, который предвидишь. Да, думать только о том, чтобы не согрешить. А будет, что
будет. Это не мое дело. Достал у Машеньки «Круг Чтения» и как раз, читая 28, был поражен прямо ответом на мое положение: «Испытание нужно мне, благотворное мне». Сейчас ложусь. Помоги, Господи. Хорошее письмо от Черткова».
Тишина, благообразие монастырей всегда привлекали отца. Он разговаривал с монахинями, с монахами Оптиной Пустыни. Несколько раз он подходил к святым воротам в ските, видимо ему хотелось поговорить со старцами. Сам не пойду, — сказал он Душану, — Если бы позвали, пошел бы».
Отец остался бы в Шамордине. Он уже на деревне присмотрел себе квартиру — избу за три рубля в месяц. Но привезенные мной известия и письма встревожили его.
Мы сидели в теплой, уютной келье тети Маши и разговаривали. Отец молча слушал. И вдруг, упершись руками на ручки кресла, быстрым движением встал и ушел в соседнюю комнату. Видно было, что он принял какое-то твердое решение. Через некоторое время он меня позвал. «Перешли это письмо матери», — сказал он мне. Он писал ей:
«Свидание наше и тем более возвращение мое теперь совершенно невозможно. Для тебя это было бы, как все говорят, в высшей степени вредно, для меня же это было бы ужасно, так как теперь мое положение, вследствие твоей возбужденности, раздражения, болезненного состояния, стало бы, если это только возможно, еще хуже. Советую тебе примириться с тем, что случилось, устроиться в своем новом,на время,положении, а главное — лечиться.
Если ты не то, что любишь меня, а только не ненавидишь, то ты должна хоть немного войти в мое положение. И если ты сделаешь это, ты не только не будешь осуждать меня, но постараешься помочь мне найти тот покой, возможность какой-нибудь человеческой жизни, помочь мне усилием над собой, и сама не будешь желать теперь моего возвращения. Твое же настроение теперь, твое желание и попытка самоубийства, более всего другого показывая твою потерю власти над собой, делают для меня теперь немыслимым возвращение. Избавить от испытываемых страданий всех близких тебе людей, меня и, главное, самое себя, никто не может, кроме тебя самой. Постарайся направить всю свою энергию не на то, чтобы было все то, чего ты желаешь, — теперь мое возвращение — а на то, чтобы умиротворить себя, свою душу, — и ты получишь, чего желаешь.
Я провел два дня в Шамордине и Оптиной и уезжаю. Письмо пошлю с пути. Не говорю, куда я еду, потому что считаю и для тебя и для себя необходимым разлуку. Не думай, что я уехал, потому что не люблю тебя. Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю...
Прощай, милая Соня. Помогай тебе Бог. Жизнь не шутка, и бросать ее по своей воле мы не имеем права. И мерять ее по длине времени тоже неразумно. Может быть, те месяцы, какие нам осталось жить, важнее всех прожитых годов, и надо прожить их хорошо.
Л.Т.»
А на другое утро мы снова ехали... Отец не простился с тетей Машей, он даже не дождался, пока мы достали второго извозчика, чтобы везти нас в г. Козельск на станцию. Он торопился так же, как при отъезде из Ясной Поляны. Мы с Варей подоспели к станции, вместе с подходившим к платформе поездом. Едва успели взять билеты, погрузить вещи.
Куда же мы ехали. Душан мне сказал: «В Новочеркасск, к Денисенкам,
оттуда, если достанем паспорта, в толстовскую колонию в Болгарию, если нет — на Кавказ».
Вероятно, отец опять не спал всю ночь, думал, волновался, решил ехать дальше, и в четыре часа утра написал тетеньке Марии Николаевне письмо:
«Шамардинский монастырь, 31 октября, 1910 г. 4 часа утра.
Милые друзья, Машенька и Лизанька. Не удивитесь и не осудите меня, за то, что мы уезжаем, не простившись хорошенько с вами. Не могу выразить вам обеим, особенно тебе, голубушка Машенька, моей благодарности за твою любовь и участие в моем испытании. Я не помню, чтобы, всегда любя тебя, испытывал к тебе такую нежность, какую я чувствовал эти дни и с которой я уезжаю. Уезжаем мы непредвиденно, потому что боюсь, что меня застанет здесь С. А. А поезд только один, в 8-м часу...
Целую вас, милые друзья, и так радостно люблю вас.
Л.Т.»
Тетенька еще застала меня, когда приехала в гостиницу, чтобы проститься с братом. Она очень расстроилась, узнав, что Лёвочка ее не дождался, но не было ни осуждения, ни попрека в ее словах.
«Боже мой, Боже мой, — она тяжело вздохнула, — мы даже не простились, увидимся ли еще. Ну, что делать, только бы ему было хорошо».
Мы волновались, ожидая лошадей, так как до поезда оставалось мало времени. Наконец ямщик подъехал. «Если мама приедет, я встречу ее, — крикнула она мне вдогонку. — Береги отца!»
В вагоне люди узнавали Толстого и не успели мы оглянуться, как известие о том, что Толстой едет в этом вагоне, облетело весь поезд. Стали появляться любопытные. Кондуктора были очень любезны, устроили отца в отдельное купе, помогли мне в своем отделении сварить отцу овсянку, отгоняли любопытных.
В четвертом часу отец позвал меня, его знобило. Я укрыла его потеплее, поставила градусник — жар.
И вдруг я почувствовала такую слабость, что мне надо было сесть. Я была близка к полному отчаянию.
Душное купе второго класса накуренного вагона, кругом совсем чужие, любопытные люди, равномерно стучит, унося нас все дальше и дальше в неизвестность, холодный, равнодушный поезд, а под грудой одежды, уткнувшись в подушку, тихо стонет обессиленный больной старик. Его надо раздеть, уложить, напоить горячим... А поезд несется все дальше, дальше... Куда? Где пристанище, где наш дом?
Отец понял, протянул мне руку, крепко пожал ее.
«Не унывай, Саша, все хорошо, очень, очень хорошо...»
На ближайшей станции я побежала за кипятком, Душан сказал, что надо отца напоить чаем с вином, может быть, это поможет. Но... озноб продолжался, температура поднималась.
На станции я заметила двух людей, они следили за нами, при отходе поезда вскочили в наш вагон. Как оказалось потом, я была права. Из г. Белева жандармское управление приказало жандармскому унтер-офицеру «немедленно справиться, едет ли с этим поездом писатель Лев Толстой» .
Посоветовавшись с Душаном, мы решили, что ехать дальше невозможно. Часам к восьми вечера поезд подошел к большой, ярко освещенной станции. Это было Астапово. Решили здесь остановиться, Душан пошел к начальнику, чтобы
подыскать нам пристанище. Гостиниц в этом местечке не было. Начальник станции предложил приютить нас у себя в доме.
Когда мы под руки вели отца через станционный зал, собралась толпа любопытных. Они снимали шапки и кланялись отцу. Отец едва шел, но отвечал на поклоны, с трудом поднимая руку к шляпе.
Едва успели мы раздеть и уложить его в постель, как с ним сделался глубокий обморок, судороги сводили левую половину лица, руку и ногу. Мы с Душаном думали, что конец. Вызвали станционного врача, впрыскивали какие-то средства для поддержания сердца. Наконец, отец заснул. Проспав два часа, он проснулся и подозвал меня к себе. Он был в полном сознании.
— Что, Саша? — спросил он меня.
— Да что ж? Нехорошо.
Слезы были у меня в глазах и в голосе.
— Не унывай, чего же лучше: ведь мы вместе.
К ночи стало легче на душе. Температура упала и отец хорошо спал.
Несмотря на слабость, отец хотел ехать дальше, но мы с Душаном сказали ему, что это невозможно. Он очень огорчился. «Если мне будет лучше, поедем завтра», — сказал он и послал Черткову телеграмму: «Вчера захворал, пассажиры видели, ослабевши шел с поезда. Боюсь огласки, нынче лучше, едем дальше, примите меры, известите».
Отец не подозревал, что уже все знали, где он находится, что 31 октября жандармский унтер-офицер телеграфировал жандармскому ротмистру, что «Писатель граф Толстой проездом поездом 12 заболел. Начальник станции г. Озолин принял его в свою квартиру», что газета «Русское Слово» начала бомбардировать начальника станции Озолина, запрашивая о здоровье Толстого, что телеграммы летели губернаторам, в сыскное и жандармское отделения, простые, шифрованные...
Утром отец продиктовал мне для Записной книжечки:
«Бог есть неограниченное Всё; человек есть только ограниченное проявление Его.» «Бог есть то неограниченное Всё, чего человек сознает себя ограниченной частью. — Истинно существует только Бог. Человек есть проявление Его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление Бога в человеке (жизнь) соединяется с проявлением (жизнями) других существ, тем больше он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью.
Бог не есть любовь, но тем больше любви, чем больше человек проявляет Бога, тем больше истинно существует...
Бога мы познаем только через сознание Его проявления в нас. Все выводы из этого сознания и руководство жизни, основанное на нем, всегда вполне удовлетворяет человека и в познании самого Бога и в руководстве своей жизни, основанной на этом сознании».
Через некоторое время отец снова позвал меня:
— Я хочу написать Тане и Сереже, — сказал он.
Я починила карандаш и снова подсела к нему.
«1 ноября, 1910 г. Астапово.
Милые мои дети, Сережа и Таня, надеюсь и уверен, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас. Призвание вас одних без мама было бы великим огорчением для нее, а также и для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков,
которого я призвал (в этот день отец просил меня послать телеграмму Черткову, чтобы он приехал), находится в исключительном по отношению ко мне положении. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому и я служил в последние 40 лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю — ошибаюсь или нет — его важность для всех людей, и для вас в том числе.
Благодарю вас за ваше хорошее отношение ко мне. Не знаю, прощаюсь ли или нет, но почувствовал необходимость высказать то, что высказал...
Прощайте, старайтесь успокоить мать, к которой я испытываю самое искреннее чувство сострадания и любви.
Любящий вас отец Лев Толстой».
— Ты передай им это письмо после моей смерти, — сказал он и заплакал.
2 ноября уже с утра температура полезла кверху, появился кашель, кровь в мокроте. Воспаление в легких. Я послала телеграмму брату Сергею: «Положение серьезное. Привози немедленно Никитина. Желал известить тебя и сестру, боится приезда остальных».
Приехал Чертков, отец подробно расспрашивал о С. А., о том, знает ли она, где он находится, с ней ли старшие дети?
2 ноября Душан получил следующую телеграмму:
«Из Тулы 2 ноября 5.10 дня. Срочная Астапово, Уральской. Толстому для Маковицкого. Час назад графиня заказала здесь экстренный поезд, поехала Астапово вместе Андреем, Михаилом, Татьяной, Владимиром Философовым, при них врач, фельдшерица».3
Стало страшно... Как уберечь отца? Неужели семья и на этот раз не поймет? Но Сережа приехал раньше. Он понял, что всякое волнение отца, при слабости сердечной деятельности, было бы равносильно смерти.
Сережа долго колебался, войти ли ему к отцу, не слишком ли взволнует отца его приезд. Он стоял в соседней комнате и издали смотрел на отца. «Нет, я войду к нему, — вдруг решительно сказал он. — Я ему скажу, что случайно узнал, что он здесь и приехал».
И действительно, отец очень взволновался, обстоятельно расспрашивал Сережу, как он узнал о его местопребывании, болезни, и что он знает о матери, где она и с кем? Сережа ответил, что он из Москвы, что мать в Ясной и что с ней доктор, сестра милосердия и младшие братья.
«Мама нельзя допускать к отцу, — сказал он, выйдя из его комнаты. — Это слишком взволнует его».
Когда Сережа ушел, отец подозвал меня.
— Сережа-то каков!
— А что, папа?
— Как он меня нашел! Я очень ему рад, он мне приятен... Он мне руку поцеловал...
Врачи решили, что можно к отцу допустить только Сережу и Таню. Отец узнал случайно о том, что Таня в Астапове. Душан подложил отцу маленькую, мягкую подушечку, которую привезла Таня.
— Откуда это? — спросил отец.
Душан растерялся.
— Татьяна Львовна привезла.
Когда Таня пришла к нему, отец опять стал расспрашивать ее, как она
узнала, где он, что с матерью и с кем она осталась. Таня смутилась, не знала, что ответить, и поспешно вышла из комнаты.
Третьего приехал д-р Никитин. Приехали Горбунов и Гольденвейзер, и отец пожелал видеть их. С Горбуновым он долго обсуждал издание своих книжек «Путь жизни». Прощаясь с отцом, Горбунов сказал: «Что, еще повоюем, Лев Николаевич?»
Отец строго посмотрел на него. «Вы повоюете, а я уже нет», — сказал он.
В этот вечер Сергей продиктовал телеграмму братьям, приблизительно следующего содержания: «Состояние лучше, но сердце так слабо, что свидание с мама будет для него губительно».
Отец был далек от мысли, что весть о его болезни облетела не только всю Россию, но и весь мир, и что вся семья в Астапове. Целая армия фотографов жила на ст. Астапово, ловя каждое слово, вылетавшее из домика начальника станции. Врачи ежедневно выпускали короткие бюллетени о ходе болезни. Телеграф работал безостановочно. Станция Астапово, затерянная в глуши Рязанской губернии, превратилась в центр, на котором сосредоточилось внимание всего цивилизованного мира.
Но тогда это все проходило мимо нас, людей, которые день и ночь следили за биением сердца, дыханием, температурой, за каждым словом отца.
«Ночь была тяжелая, — в последний раз записывал отец в дневнике, — лежал в жару два дня. 2-го приехал Чертков... 3-го Таня. В ночь приехал Сережа, очень тронул меня. Нынче, 3-го, Никитин, потом Гольденвейзер и Иван Иванович. Вот и план мой... Fais се que doit advienne que pourra*.
И все на благо и другим, а главное, мне».
Отчаяние сменялось надеждой. Мы радовались низкой температуре, приходили в отчаяние, когда она повышалась. С одного легкого воспаление перекинулось на другое. Сердце работало плохо, и низкая температура только указывала на слабую сопротивляемость организма, дыхание учащалось, пульс неровный, с перебоями.
Выписали кислород, Сергей послал телеграмму в Москву, чтобы выслали удобную кровать, было установлено постоянное дежурство одного из нас и врача у постели больного.
«А мужики-то, мужики как умирают», — со вздохом сказал отец, когда ему поправляли подушки.
4 ноября отец был почти без сознания. Он то бредил, пытаясь что-то объяснить нам, то лежал тихо, без движения. Строгие, точно внутрь глядящие глаза его, казались мне ушедшими, точно видели что-то недоступное нам, недосягаемое... исхудавшие руки, пальцы, не переставая шевелились, перебирая простыню с одного края до другого...
«Конец», — думала я.
В бреду, когда трудно было понять, что он хотел сказать:
«Искать, все время искать», — вдруг твердо проговорил он.
В этот вечер, когда в комнату вошла Варя, отец вдруг приподнялся на подушке, протянул руки и громким, радостным голосом крикнул:
— Маша! Маша!
Из Москвы приехали врачи: Беркенгейм, Усов, знаменитый Щуровский. Но надежда угасала.
* Делай, что должно и пусть будет, что будет (фр.).
6 ноября отец был особенно ласков со всеми. Когда Душан что-то для него сделал: «Милый Душан, милый Душан!» — сказал он.
Мы меняли простыни, я поддерживала его за спину и вдруг я почувствовала, что рука его ищет мою руку. Я подумала, что он хочет опереться на меня, но он крепко пожал мою руку один раз, потом другой. Я припала к ней губами, стараясь сдержать подступившие рыдания.
В этот же день мы с Таней сидели около него. Кровать стояла посредине. Вдруг отец сильным движением привстал и сел на кровати. Я подошла.
— Поправить подушки?
— Нет, — сказал он, твердо и ясно выговаривая слова. — Нет, только одно советую вам помнить, что на свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва.
Это были последние его слова, обращенные к Тане и ко мне.
К вечеру стало много хуже. Дали кислород, впрыснули камфору. Отец успокоился, позвал Сергея: «Сережа! Истина... Я люблю много... Как они...» Он тихо задремал, дыхание стало ровнее... Казалось, непосредственная опасность миновала. Все разошлись спать, кроме дежурных. Около полуночи стало плохо. Всех разбудили.
Отец тихо, спокойно умирал...
Позвали С: А., всех братьев...
В то же утро я уехала в Ясную Поляну.
Я сидела одна в его кабинете... Казалось, жизнь моя кончена. Не для чего, не для кого жить... Пустота, отчаяние... Тихо, неслышными шагами вошла старушка Шмидт. «Не плачь, — сказала она мне. — Не надо... Почитаем Круг Чтения на 7 ноября, день его смерти».
Старушка Шмидт взяла книгу с его стола, нашла число и стала читать: «Жизнь сон — смерть — пробуждение».
9 ноября. Рано утром прибьш траурный поезд на станцию Засеку. Поезда из Москвы были переполнены. Собралась громадная толпа, тысячи, может быть, десятки тысяч. Процессия растянулась на версты. Гроб несли сыновья и Яснополянские крестьяне. Впереди процессии плакат: «Лев Николаевич, память о твоем добре не умрет среди нас, осиротевших крестьян Ясной Поляны». Гулко разносилось в тишине раннего морозного утра несмолкавшее пенье тысячами голосов «Вечной памяти».
Гроб поставили в библиотеку — первый кабинет отца. Люди проходили бесконечной вереницей в дверь из передней и выходили на каменный балкон, чтобы в последний раз поклониться Толстому.
В Заказе, между дубами у оврага — место Зеленой Палочки — вырыта могила. Ее вырыл бывший ученик отца Михайло Зорин.
В лесу, в отдалении — конные жандармы.
Медленно опускали гроб — толпа, на коленях, пела «Вечную память».
Резким диссонансом прозвучал чей-то сердитый голос; «Полиция на колени!»
Жандармы покорно исполнили приказание.
Засыпали могилу... «Вечная память», речи... Мы вернулись домой, Толпа людей... зияющая пустота...
«На свете много людей»... эти слова не доходили тогда до моего сознания. Но жить надо было.
1911-1913 годы. — Выполнение завещания отца: издание его неизданных сочинений, покупка земли у братьев и наделение ею крестьян, передача прав на сочинения отца в общее пользование.
1914 год. — Я уезжала на Турецкий фронт сестрой милосердия и приехала в Ясную проститься с матерью.
Горе состарило ее. Она мало говорила, все больше дремала, сидя в вольтеровском кресле, где так любил сидеть отец. Казалось, ничего не интересовало ее. Голова ее тряслась больше прежнего, она как-то вся согнулась, сделалась меньше, большие черные, прежде такие блестящие, живые глаза ее потухли, она уже плохо видела.
«Зачем на войну едешь, — сказала она. — Отец не одобрил бы».
1917 год. — В Ясной Поляне мать, Таня — муж ее скончался — с Таничкой.
Кругом громили, жгли помещиков. Зловещие слухи ползли, наводя ужас на обитателей Ясной Поляны. Говорили, что мужики из соседних деревень иду'1* громить Ясную Поляну. Слухи оказались действительностью. Толпы шли ближе, ближе. Запрягали лошадей, мать, Таня с дочкой сидели на уложенных сундуках, собираясь бежать...
Но вдруг разнеслась весть — яснополянские крестьяне встретили бунтовщиков с топорами, рогачами, вилами, и погнали их обратно. Яснополянская усадьба сохранилась — одна из немногих в округе.
1918 год. — Я приехала в Ясную Поляну. Голод. Всё тот же Илья Васильевич в белых, хотя и заплатанных перчатках, беззвучно подает обед, стол накрыт
белоснежной скатертью, серебро, но на блюде... вареная кормовая свекла, масла нет, кусочки, очень маленькие, черного хлеба с мякиной.
1920 год. — Я на несколько дней приехала в Ясную Поляну повидаться с матерью, тетенькой Татьяной Андреевной и Таней с дочкой. Но в тот день, когда я собиралась уезжать, моя мать заболела воспалением легких и я осталась ухаживать за ней. Она кротко, необычайно терпеливо переносила страдания.
«Саша, милая, прости меня. Я не знаю, что со мной было... Я любила его всегда. Мы оба, всю жизнь были верны друг другу.--»
«Прости и ты меня, — я очень виновата перед тобой», — сквозь слезы говорила я ей...
У нее сделался отек легких, она задыхалась. Умерла она спокойно, исповедывалась, причастилась. Я закрыла ей глаза.
Война, революция, смерть близких, тюрьма, голод... потеря Родины.
Жизнь уже на закате, но одиночества нет, потому что я знаю теперь, что «на свете много людей, кроме Льва Толстого...»
Начавши читать книгу младшей дочери великого писателя Александры Львовны Толстой (1884 — 1979) многие, возможно будут разочарованы: никаких «я помню», «отец говорил мне», почти полное отсутствие семейных преданий, историй, анекдотов. На все два тома — лишь три-четыре эпизода с пометой «из личных воспоминаний». О себе автор пишет так же, как о других детях Толстого, в третьем лице: «К Мише ходил учитель скрипки, к Саше — учитель музыки. Оба были музыкальны, но не учили уроков». «Я» впервые появляется в книге, когда Саше 17 лет: «С этого дня в Саше — во мне — произошел перелом. Саша — я — уже больше не была ребенком». Это был день первого значительного разговора дочери с отцом.
Но и после этого ее собственные впечатления включаются весьма скупо. А, Л. Толстая сознательно ограничивает себя, не использовав почти ничего из тех воспоминаний о жизни толстовской семьи, которые составляют содержание ее мемуаров, опубликованных в парижских «Современных записках» в 1931 г. и книге «Дочь» (1979)1. Эпизоды с ее участием в книге «Отец» наперечет. Только в последних разделах — ухода и смерти Толстого, где младшая дочь была одним из главных действующих лиц, повествование приобретает более «мемуарный» характер: приводятся устные высказывания Толстого, диалоги — без этого было уже никак нельзя. Но и тут автор ухитряется гораздо чаще цитировать документы, чем излагать собственные впечатления — это хорошо видно из сопоставления текста самой последней главы книги и написанных в 1912 г. воспоминаний об этом2.
Документы составляют основной корпус книги. Это — отрывки из писем и дневников Толстого и членов его семьи, выдержки из воспоминаний современников, отсыпки к работам исследователей. Т. е. все то, что можно найти во всякой добросовестной биографии Толстого.
Но, быть может, эти письменные источники особенно изобильны, редки, извлечены из архивов, малодоступных зарубежных изданий?
Нет и этого. Книга написана вдали от толстовских архивов; некоторые недостачи для затронутых в книге тем ощутимы: записок Д. П. Маковицкого (тогда еще полностью не изданных), неопубликованных дневников В. М. Феокри-товой и П. И. Бирюкова, материалов архива Л. Л. Толстого, рукописи С. А. Толстой «Моя жизнь», переписки третьих лиц.
Не поразит книга и обилием иностранных источников: использованы лишь некоторые известные работы; Д. Бинштока, Э. Кросби, Д. Кенворти, книга Е. Симмонса (в 1-м издании).
1 Частично перепечатано в «Новом мире» 1988, № 11 — 12, публ. С. А. Розановой.
2 Толстая А. Об уходе и смерти Л. Н. Толстого. — В кн.: Толстой. Памятники творчества и
жизни. Вып. 4. М., «Кооп. т-во изучения и распространения творений Л. Н. Толстого», 1923. С. 131 — 184.
Из нечасто цитируемого можно назвать разве что работу Е. И. Владимирова «Т. М. Бондарев и Лев Толстой» (Красноярск, 1938), да еще две-три книжки.
Выходные данные остальных, собранные в конце книги, привычны глазу любого неспециалиста: «Биография» П. И. Бирюкова, «Жизнь Л. Н. Толстого» и «Летопись» Н. Н. Гусева, воспоминания сыновей Толстого, А. А. Фета, дневники жены, переписка Толстого с Н. Н. Страховым, дневники В. Ф. Булгакова, «Вблизи Толстого» А. Б. Гольденвейзера.
Иные главы — почти монтаж. Некоторые события, даже периоды жизни, характеризуются исключительно подбором цитат с минимальным авторским текстом.
В чем же интерес книги?
Прежде всего — в ее объективности. И особенно — при раскрытии одной из в первую очередь ожидаемых и главных ее тем — семейной драмы Толстого. А. Л. Толстая не принадлежит ни к чертковской, ни к материнской «партиям», на которые разделились дети и многочисленные потомки Толстого (да и его исследователи). Позицию эту младшая дочь занимала не всегда. В своей известной книге «Трагедия Толстого», вышедшей на английском языке в 1933 г., она безоговорочно встала на сторону отца. В книге «Отец» она свою прежнюю позицию осудила: «Я надеюсь, что теперь, дожив до старости и поняв многое, что раньше, по молодости лет, было мне недоступно, я смогу подойти к этому сложному вопросу более беспристрастно, попытаться, насколько возможно, проникнуть в тайны психологических тонкостей этих двух сложных, сильных и цельных характеров».
Александра Толстая мучительно вдумывается в причины все большего расхождения людей некогда столь близких. Как случилось, что С. А. Толстая от первого сочувственного отношения к толстовским религиозно-философским исканиям и более поздним ожиданьям и надеждам, «чтоб прошло это, как болезнь» (из письма 1879 г.)1 пришла к раздраженному их неприятию, к тем враждебным и чудовищным действиям, которые превратили в мучение последние годы жизни великого писателя и заставляли обращаться ее близких к помощи врачей-психиатров? В молодости, размышляет дочь, жена Толстого не думала, что так далеко он уйдет в своем отрицании общепринятого. Многое в этом отрицании ей казалось просто неразумным. Она не могла, пишет дочь, смириться с тем, «что такие умственные силы пропадают в колке дров, ставлении самоваров и шитье сапог». Когда Толстой написал, что завидует своему последователю Фейнерману, нанявшемуся к крестьянину пасти скотину, Софья Андреевна отвечала: «Фейнерману нечего завидовать. То, что ты на свете делаешь, никакие Фейнерманы не сделают». Можно вспомнить еще одно письмо С. А. Толстой — к брату, С. А. Берсу — в связи со школой, которой столь много времени отдавал Толстой: «Мне жаль его сил, которые тратятся на эти занятия, а не на писанье романа, и я не понимаю, до какой степени полезно это, т. к. вся эта деятельность распространится на малый уголок России — Крапивенский уезд»2. Максимализм подвижников и пророков не знает границ; понять и принять их трудно, видеть ежедневно не всякому под силу. Душа Толстого всегда была в искании и непрерывном движении; неизменность в его представлении — главный источник дурного и погибельного. В черновике
1 Цит. ло: Муратов М. В., Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков по их переписке, М., 1934. С. 11.
2 Цит. по: Жданов В. А. Любовь в жизни Льва Толстого. М., 1928.
письма жене (13 мая 1909 г.), которое, как он сначала думал, ей должны были отдать после его смерти, Толстой писал: «Ты была, какою тебя мать родила, верною, доброю женой и хорошей матерью. Но именно потому, что ты была такою, какою тебя мать родила, н оставалась такою и не хотела изменяться [...], ты много сделала дурного другим людям и сама все больше и больше опускалась и дошла до того жалкого положения, в котором ты теперь». В автобиографии (1913) Софья Андреевна объясняла: «Разноголосие между моим мужем и мной произошло не потому, что я ушла душой от него. Я и моя жизнь остались прежними. Ушел он, и не в обыденной жизни, а в своих писаниях, своей проповеди людям, как надо жить»1. В книге показано очень хорошо, что значило быть женой Льва Толстого, хотя дочери Толстого показать это было непросто.
С той же беспристрастностью рисуется портрет В. Г. Черткова — главной фигуры противоположной «партии» — одного из самых последовательных толстовцев («Он удивительно одноцентренен со мной», — напишет Толстой 6 апреля 1884 г. в дневнике) и неутомимого («жертвенного» — скажет А. Толстая) пропагандиста толстовства: «Светскость и юмор, упрямство и деспотизм, смелость взглядов и узость, нетерпимость сектанта, — все это сочеталось в этом человеке». Этот «очень драгоценный сотрудник», как говорил о нем Толстой, проделывал огромную работу по редактированию и печатанию произведений Толстого заграницей, осуществлял его связи с духоборами, деятельно вел «Посредник». Но он же очень заботился о чистоте учения — до мелочей: «Толстой ездит на велосипеде! Уместно ли это? Не противоречит ли взглядам христианина? Чертков был обеспокоен...» Описывая всю разнообразную деятельность Черткова, А. Толстая может привести и такой эпизод. «В разгар рабочей поры, когда вся деревня и некоторые из членов семьи Толстых с самим Львом Николаевичем во главе, потные и усталые, возили сено, они встретили Черткова, шедшего куда-то в ярко красной рубашке ниже колен. Братья спросили его, куда он идет. «Я иду, на сэло бэсэдовать с крестьянами», — ответил Чертков».
Одно из главных расхождений между толстовцами и остальным миром было в том, что они гораздо выше ценили статьи и трактаты Толстого, чем его художественные сочинения. В письмах Черткова Толстому, которые можно было бы издать в нескольких томах, «Война и мир» и «Анна Каренина» не упоминаются ни разу. Чертков находил возможным при издании рассказов Толстого в «Посреднике» выбрасывать из них целые куски, не соответствующие, с его точки зрения, духу учения. Александра Львовна вспоминает, что когда секретарь Толстого Н. Н. Гусев отправлялся в ссылку, она сунула ему в чемодан роман «Война и мир», который он до того не читал.
Живо и метко изображены в книге такие известные толстовцы, как П. И. Бирюков, И. И. Горбунов-Посадов, Д. П. Маковицкий и другие, не столь или вообще малоизвестные: Л. Ф. Анненкова, П. А. Буланже, Г. А. Русанов, И. М. Трегубое, М. А. Шмидт.
Книга написана в ныне выведшейся старой манере, незатейливой и непритязательной, когда можно заметить, что «Фет был большим умницей» (с чем трудно не согласиться), или сказать о творческом процессе: «Кто знает, смог бы ли Толстой описать войну, если бы сам не участвовал в сражениях? Описать переживания картежника, если бы сам не проигрывал целые состояния <...> Мог ли бы
1 «Начала», Пг., № 1. С. 153.
Толстой описать Наташу Ростову, проникнуть в психологию влюбленной девушки, если бы день за днем не наблюдал романтических переживаний своей привлекательной свояченицы Тани?» И с этим нельзя не согласиться тоже.
В этой простоте есть издержки. Пожалуй, наибольшие возражения у современного исследователя, да и читателя вызовет «старинное» отношение к художественному тексту как документу, адекватно отражающему эпизоды жизни, чувства и мысли его создателя. Глава об оставлении университета начинается с прямой цитаты из «Утра помещика», где Толстой «несомненно описывает самого себя». Глава «Смерть отца» открывается текстом «Отрочества» уже без всяких оговорок. Немец Карл Иваныч из «Детства» для автора книги одно лицо с толстовским гувернером Федором Ивановичем Ресселем, Дмитрий Нехлюдов из «Отрочества» — с Дмитрием Дьяковым, рядом с именем Сен-Жерома в текст той же повести в скобках подставляется имя реального Сен-Тома. Находясь внутри этой системы представлений, вполне можно написать через дефис и «Левин-Толстой» (глава «Художник или моралист?»).
Так же подходит автор и к публицистике Толстого и, разумеется, к дневникам, которые рассматриваются как зеркальное отражение состояния писавшего. Но одна небольшая оговорка показывает, как внимательно вдумывалась Александра Львовна в толстовские тексты. В свое время Б. М. Эйхенбаум блестяще показал, что дневники молодого Толстого не столько документ его внутренней жизни, сколько школа художественного творчества, первые попытки психологического анализа. Александра Толстая чрезвычайно далека от любых филологических построений (в книге не цитируется ни одна небиографическая, литературоведческая работа). Но вчитываясь в юношеские дневники будущего великого писателя, она приходит к очень близкому выводу: работая в них «над формой изображения» он «сам того не ведая, учился писать».
У старой манеры сочинений о писателях есть одно неоспоримое достоинство, утерянное в нынешней раздробленной специализации. Прежний автор ощущал себя не — отдельно — историком общественной мысли или литературоведом, биографом или историком книги, не писал особо для специалистов, для «среднего возраста» или «широкого читателя» — он обращался к читателю, человеку вообще и задачею своей полагал представить ему облик другого человека, своего героя, в его целостности, в большом и малом, его писаниях и бытовых привычках, дать картину его философских исканий и денежных дел.
В нынешней отечественной книге о великих быт занимает место крошечное (и то: чтоб быт писать, надо его знать), читателю, отходящему во времени все дальше, их живую жизнь вообразить трудно. Когда В. Шкловский в книге о Толстом написал, что в Ясной Поляне в 60-х годах не было простыней, это звучало не менее необычно, чем его утверждение в одной из ранних книг, что в «Войне и мире» использовано не так уж много исторических источников.
Ко всем подробностям этого рода А. Толстая бережно внимательна. Мы узнаем, что ни в Ясной Поляне, ни в Хамовниках водопровода не было, ванну брали редко, а по субботам топили баню; что делали по вечерам и днем, в будни и праздники, как развлекалась молодежь, как одевались, что ели, какие были семейные застолья, и как этот уклад изменился потом, когда постоянным стало присутствие в доме чужих: «Ни за едой, ни вечерами за круглым столом в зале, под широким абажуром лампы, нельзя было посидеть одним, потолковать о том, что кто читает, кто в кого влюбился, как кто провел день, какие у кого обновки,
одним словом, Толстые были лишены того, чем так дорожит всякая семья — личной жизни. Они жили на виду у всех, под стеклянным колпаком. Люди, окружившие Толстого, записывали все, что он делал, говорил».
Для автора книги «Отец» 50-е — 60-е годы в жизни Толстого не только взаимоотношения с кругом «Современника», с Тургеневым, яснополянская школа, журнал, писанье «Войны и мира», но в такой же степени и охота, и сенокос, и лесопосадки, и пристройка к дому. Описывается, как он катался на коньках, учась «вырезывать на льду фигуры тройки и восьмерки», какой он был «великолепный, лихой ездок, всю жизнь знавший это непередаваемое словами ощущение слитности с лошадью». Описания верховых прогулок, поведения коня Дэлира занимают в общей сложности место, сопоставимое с описанием, например, издательских дел — и, видимо, это реальное соотношение в жизни Толстого. И когда мы читаем, что игре в городки, карты он предавался с такой же страстью, как и писанью, что у него до старости сохранилось «искреннее, почти страстное увлечение спортом, играми, разными забавами», — не подводит ли автор нас к пониманию одной из важнейших сторон многосложной толстовской личности?
Понять и описать жизнь Толстого последних тридцати лет (после перелома) особенно сложно. Всех о нем писавших, как и вообще русскую интеллигенцию рубежа веков, сильно занимал вопрос «соответствия» учения Толстого и его реальной жизни. Одни считали, что барский быт Ясной Поляны и вообще жизнь Толстого противоречит его проповеди. Например, очень резко говорил и писал об этом философ Н. Ф. Федоров (назвавший философию Толстого лицемерной)1. Другие, напротив, полагали, что живя в последние годы в семье в тяжелых условиях непонимания и даже враждебности, Толстой показывал высший пример самоотверженности и христианского терпения. «С точки зрения мнения людского, публики, — замечает Александра Львовна, — даже некоторых последователей его — жизнь Толстого была сплошным компромиссом, и только он один, стоя обнаженным перед Богом, мог судить, поступает ли он по велениям совести или по своим личным, эгоистическим побуждениям. <...> Он шел своим путем, делал то, чего не мог не делать, принимая решения один, по своей совести». А. Л. Толстая не берется здесь, как и в других случаях, быть судьею своего великого отца. Она лишь стремится показать эту великую и многосложную жизнь в возможной полноте и целостности.
Труднее всего в кратком и неспециальном сочинении писать о философии Толстого. Душа Толстого представляла собою художественную субстанцию в наиболее мощном виде, который когда-либо являл мир. И все попытки носителя этой субстанции перебороть ее и превратить в нечто другое не просто оказались тщетны — они только обнажили ее мощь: вся его философия изначально была под подавляющим влиянием этой художнической сути. Под ее всепоглощающим воздействием и по ее пршщипам построены все отделы толстовской философии.
Эта философия направлена прежде всего на собственную личность и анализ собственной души. Художническое всматриванье в себя, художественный анализ — единственное, что занимало его по-настоящему и целиком с младых ногтей. Для себя он сам был центральное событие мира и призма его видения. Обвинявшие его в эгоцентризме (Н. Ф. Федоров, И. А. Ильин), были со своих —
1 См.: Георгиевский Г. П. Л. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров. Из личных воспоминаний. Вступ. статьи и примеч. Г. И. Довгалло и А. П. Чудакова. В кн.: Четвертые тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига. 1988. С. 27 — 66.
философских — позиций правы. Но эгоцентризм этот имеет полное оправдание — художественное. Всякий художественный мир самодовлеющ: он не хочет знать других миров. Так же самодостаточна система Толстого: она не принимает других точек зрения, она даже не спорит с ними по-настоящему, она просто отвергает их.
Как бы ни назывались его сочинения — дневник, философский трактат, предисловие, письмо, обращение, статья — это всегда было по своей сути художественное произведение, подчиненное законам искусства, а не науки или публицистики (именно поэтому все это так уязвимо со строго логической и философской точек зрения). И дневники и «Исповедь» — это изображение художником постоянно ищущего человека. Все это было — та же художественная деятельность, работа художника слова, как ни пытался он от нее отойти и ее осудить.
И внутренним стержнем его жизни до самого ее конца тоже было художество. Именно поэтому он не мог заковать ее в рамки толстовства. Мир интересовал его во всех проявлениях, ему страстно любопытны были все люди — и разделяющие его учение и нет, люди духа и люди физической мощи1, праведные и грешники, мужики и аристократы, трезвые и пьяные. Собственно толстовское учение не предполагает волевой активности; Толстой-писатель был сгустком жизненной и творческой воли.
Не анализируя подробно всех сторон толстовской философии, Александра Львовна показывает, как ему было душно в кругу его последователей, как он, несмотря на упорные и мучительные религиозные искания, во многом продолжал свою прежнюю жизнь с ее увлечением картами, лошадьми и даже делами по имению: «Внешне жизнь Толстого катилась по привычным рельсам. Он продолжал интересоваться доходами Самарского имения, лошадьми: «Хлеба хорошие, — писал он жене 20 июля, — хотя и не везде. У нас очень хорошие»... «Лошади-жеребцы, около 10 штук, очень хороши. Я не ждал таких. Должно быть, я приведу осенью для продажи и для себя. Лошади замечательно удались, несмотря на голодные годы, в которые они голодали, и много истратилось. Есть лошади, по моему, по дешевой цене, в 300 рублей и больше... Виды на доходы, более 10 тысяч, мне кажутся верными; но я уже столько раз ошибался, что боюсь верить».
Образ жизни в Ясной Поляне почти не менялся: «За длинный стол садилось 10 — 14 человек. Те же пикники, верховая езда молодежи, многочисленные соседи, пение четы Фигнеров — соседей по имению, артистов императорской оперы, те же няни, поносы детей, их ссоры, капризы, приезды художников, скульпторов, профессора Грота, иностранцев... по вечерам пение с гитарами... чтение вслух, разговоры...» Осуждая все это, Толстой был ко всему этому небезразличен, отъединиться от этого он не мог.
От. главе к главе нарастает одинокость Толстого. «Отца осуждали правые,
1 В воспоминаниях Горького: «Сулер рассказывал: он шел со Львом Николаевичем по Тверской, Толстой издали заметил двух кирасир. Сияя на солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись оба, лица их тоже сияли самодовольством силы и молодости.
Толстой начал порицать их:
— Какая величественная глупость! Совершенно животные, которых дрессировали палкой...
Но когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал:
— До чего красивы! Римляне древние, а, Левушка? Силища, красота, — ах, Боже мой. Как это хорошо, когда человек красив, как хорошо!
левые, даже собственные его единомышленники». «Как мало людей понимало Толстого! Одни называли его революционером, другие — консерватором, аристократом, упрекали его за «роскошь», кстати сказать, весьма относительную. С кем же в конце концов Толстой? — Он не с правительством, не с революционерами, методы которых он осуждал. Его отрицательного отношения к революционерам не понимали, хотя он совершенно ясно высказывался в своих статьях. Достаточно прочитать мысль, записанную им в дневнике от 21 сентября 1902 года, чтобы понять раз навсегда его отношение к социализму: «Социалисты видят в трестах, синдикатах осуществление или движение к осуществлению социалистического идеала, т. е. что люди работают сообща, а не врозь. Но работают они сообща только под давлением насилия. Какие доказательства на то, что они так же будут работать, когда будут свободны, и какие доказательства того, что тресты и синдикаты перейдут к рабочим. Гораздо вероятнее, что тресты произведут рабство, от которого освобождаясь, рабы будут разрушать эти не ими установленные тресты».
«Толстой видел ту пропасть, в которую, как безумцы, устремилось человечество. Атеисты-революционеры все сильнее забирали умы молодежи: громкие, красивые слова — служение народу, борьба за равенство, братство людей, самый факт преследования этих борцов за свободу, конспирация — возбуждающе действовали на юношество. Путь революционный, радикальный, быстрый, требующий молниеносных жертв, храбрости, геройства — привлекал их к себе. Путь же Толстого — стремление жить по учению Христа, самосовершенствование, непротивление злу насилием — был, с точки зрения большинства — утопией».
«Он знал, что так продолжаться не может. Он предвидел возможность революции и боялся ее. Только в вере в Бога и в следовании по пути, указанному людям Христом, могло быть спасение человечества».
У нас очень любят говорить о кричащих противоречиях Льва Толстого, повторяя слова В. И. Ульянова-Ленина, сказанные в определенной политической ситуации для своих целей. Было другое — невероятная цельность, художественное видение мира, предопределяющее страстный поиск истины, который сам по себе сплошное противоречие. В этом непрекращающемся и не останавливающемся ни перед чем — даже отвергании собственных великих творений — тревожащем искании, непрерывном движении духа — один из главных уроков того уникального феномена в истории человечества, который зовется «Лев Толстой». В книге «Отец» А. Л. Толстая сумела показать это на небольшом пространстве, выбрав самое главное из необозримого количества материалов и фактов из жизни Льва Толстого.'
После смерти Толстого Александра Львовна прожила почти семьдесят лет — длинную жизнь. Первые годы, вспоминает она в книге «Дочь», были самыми тяжелыми. «При нем — у меня не было своей жизни, интересов. Все серьезное, настоящее было связано с ним. И когда он ушел — осталась зияющая пустота, заполнить которую я не умела»1. Как у одной из героинь Толстого, выход нашелся в патриотическом деле. В начале первой мировой войны Толстая в качестве сестры милосердия идет добровольцем на фронт, работает на перевязочных пунктах, в госпиталях, позже — уполномоченной Земского Союза.
1 Толстая А. Дочь. Лондон, «Заря», 1979, С. 18.
После Февральской революции она работает в Москве в Обществе изучения и распространения творений Толстого (позднее оно стало назьшаться кооперативным товариществом). Работа Обществом была проделана большая: разобраны рукописи Толстого, многие скопированы н сфотографированы. После того, как Общество объединилось с группой В. Г. Черткова, начавшего подготовку 90-томного собрания и все перешло в руки Госиздата, Александра Львовна отошла от издания, целиком сосредоточившись на делах Ясной Поляны. Декретом Луначарского она была назначена полномочным комиссаром (потом — хранителем) Ясной Поляны. Это не спасло ее от знакомства с Лубянской тюрьмой, допросов А. С. Агранова и пятерых арестов.
Ее жизнь до 1929 года — постоянная борьба за сохранение Ясной Поляны как культурного центра, заповедника, музея. Она хлопотала, писала, ездила, обращаясь к М. И. Калинину, народному комиссару по продовольствию А. Б. Халатову, П. Г. Смидовичу, А. Енукидзе, В. Р. Менжинскому, И. В. Сталину. Работала в яснополянской сельскохозяйственной артели, в 1922 г. организовала школу (потом получившую название Опытно-показательной станции).
В Москве она принимала участие в организации Толстовского музея и одно время была его директором.
Все эти годы Толстая не оставляла попыток создать в Ясной Поляне островок, не затронутый официальной идеологией. К 1929 году стало очевидно, что это уже не удастся. Осенью этого года она выехала с лекциями в Японию; в 1931 году заявила о своем отказе вернуться в СССР. В сентябре 1931 года она поселилась в США. Занималась сельскохозяйственным трудом на фермах. Выступала с лекциями о Толстом, о положении в России, писала статьи-протесты против массовых репрессий на родине. Публиковала статьи и книги о Толстом. Идеями Толстого поверялись все ее рассуждения о современности. «Но почему же народ избрал коммунистическую власть? Думаю, что ответ один и Толстой также на него ответил — отсутствие веры. Перестала гореть ярким огнем вера в русском народе и угасла духовная сила, которая одна могла бы противоборствовать грубой, жестокой и беспринципной силе 3-го Интернационала»1. «Какой смысл во всех этих конференциях, бесконечных рассуждениях о мире, если не принять учения Христа и заповеди «не убий» как основной закон. Или необходимо добиваться полного разоружения всех стран или продолжать то, что сейчас происходит: допущение орудий разрушения для защиты. Но где граница? У одной страны 50000 войска, другая мобилизует армию в 100000 для защиты страны, и так до бесконечности. И пока люди не поймут греха убийства одним другого — войны будут продолжаться. А результаты войны? Падение нравов, революции»2.
15 апреля 1939 года был образован Толстовский фонд, в котором Александра Львовна и работала последующие сорок лет3. Чувство правды и справедливости одушевляло всю жизнь дочери Льва Толстого.
А. П. ЧУДАКОВ
1 Там же. С. 65.
2 Там же. С. 62.
3 Об отрицательном отношении к А. Л. Толстой советских властей в послевоенные годы см.: Опульский А. Вокруг имени Льва Толстого. Сан-Франциско, 1984, С. 30 — 34, 126 — 136.
Цитаты из сочинений, дневников и писем сверены с Юбилейным изданием Полного собрания сочинений Л.Н.Толстого в 90 томах {М., 1928 — 1958 гг.) научным сотрудником музея Л. Н. Толстого В. С. Бастрыкиной.
Переводы отдельных фраз и выражений; встречающихся в тексте, но не переведенных в книге А. Л. Толстой, даны в примечаниях редакцией.
С. 17. Перевод с французского дан по книге Н. Н. Гусева «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год». М., изд. АН СССР. 1954.
С. 642, 643.
Французский текст сверен по книге Молоствова. Т. 20.
С. 48. fierte — гордость (фр.).
С. 52. ...все другие его приключения — только эпизоды. — Цитируется сочинения
Н. Н. Толстого (брата Л. Н. Толстого) — «Охота на Кавказе» М., 1922. С. 27 — 29.
С. 60. «Не зная продолжения...» — Некрасов Н. Собр. соч. Т. 10. С. 176.
С. 61. «Я дал ее (рукопись) в набор...» — Некрасов. Там же. С. 177.
«Детство» произвело на него сильное впечатление... Здесь неточность. В письме Ф. М. Достоевского к Е. И. Якушкину речь идет об «Отрочестве». С. 84. ...de toute beaute, haute volee — высший сорт, высший свет (фр.). С. 89. maison garnie — пансион (фр.).
menages — семьи (фр.)
С. 92. Un tapage infernal — адский шум (фр.).
С. 95. Messieurs et mesdames, si vous croyez que je gagne quelque chose... — Милостивые государи и государыни, ежели вы думаете, что я что-нибудь зарабатываю... (фр.).
Messiers et mesdames, je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit — Милостивые государи и государыни, благодарю вас и желаю вам спокойной ночи.
(фр.).
С. 127. et vice versa — и обратно (лат.).
С. 147. «le Comte» — Граф (фр.).
С. 159. Однако прошло с тех пор более 24 лет... — Издание Полного собрания
сочинений Л. Н. Толстого (Юбилейного) в 90 т. было закончено в 1958 году.
С. 174. so nice — так мило (англ.).
country — местность (англ.).
very happy — очень счастлива (англ.) С. 189. «Les Miserables» — «Отверженные» (фр.). С. 232. a la lettre — буквально (фр.).
С. 235. «Фамбр де шамбр! Аппорте мушуар де кош!» — Принесите мне носовой платок (искаж. фр.) «Тутсуит, мадам ла контесс!» — Сейчас, графиня (искаж. фр.).
С. 236. Он продолжал работать над «Исследованием и Переводом четырех
Евангелий». — Вышли под названием «Соединение и перевод четырех Евангелий» и
«Исследование догматического богословия».
С. 238. nevralgie stomacale goutteuse — желудочно-подагрическая невралгия (фр.).
С. 279. Non resistance — Общество непротивления (англ.).
С. 280. «Christian non-resistance» — христианское непротивление (англ.).
С. 314. petits jeux — игры (фр.).
С. 317. sense of humour — чувство юмора (англ.).
С. 319. ...Толстой писал свой «Катехизис». Вышел под названием «Христианское учение».
С. 341. inferiority complex — чувство собственной неполноценности (англ.).
С. 343. бель-сёр — невестка (фр.).
С. 354. amitie amoureuse — нежная дружба (фр.).
С. 381. Кармен Сильва — псевдоним румынской королевы Ямуа.
С. 410. «Правительство, революционеры и народ». Вышла под заглавием:
«Обращение к русским людям. К правительству, революционерам и народу»,
С. 424. «Man and Superman» — «Человек и сверхчеловек» (пьеса Б. Шоу).
С. 442. ...сын Алеша. — Алексей Петрович, сын П. А. Сергеенко.
С. 454. egards — знаки уважения (фр.).
1 Молоствов Н. Г., Сергеенко П. А. Лев Толстой: Жизнь и творчество, 1828-1908 гг.: Крит.-биогр. исслед. Спб., 1909. С. 15-16.
2 Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954. С. 41.
3 Толстой С. Л. Мать и дед Л. Н. Толстого. Очерки жизни. М., 1928. С. 114.
4 Там же.
5 Там же. С. 121.
6 Зап. отд. рукописей / ГБЛ. 1939. Вып. 4. С. 62.
1 По-видимому, из воспоминаний А. Л. Толстой. Похоже в воспоминаниях А. М. Хирьякова (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1955. Т. 1. С. 47).
3 Бирюков П. И. Л; Н. Толстой. Биография. Берлин, 1921. Т. 1. С. 121.
1 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т. 1. С. 31.
1 Зап. отд. рукописей / ГБЛ. 1939. Вып. 4. С. 62.
2 Загоскин Н. П. Студенческие годы Л. Н. Толстого // Ист. вестн. 1894. № 1. С. 106-107.
3 Там же. С. 102.
1 Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: с 1828 по 1855 год. С. 221.
2 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 48-49.
3 См.: Гусев Н. Н. Жизнь Льва Николаевича Толстого: Молодой Толстой (1828-1862). М., 1927. С. 138.
1 Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. 3-е изд. испр. и доп. М.; Пг., 1923. Т. 1. С. 65.
1 Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. 1. С. 97.
2 Панаева А. Я. Воспоминания. М., 1986. С. 210.
3 Тургенев И. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1961. Т. 2. С. 79.
4 Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954. С. 395.
5 Цит. по: Апостолов Н. Н. Лев Толстой и его спутники. М., 1928. С. 141.
1 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 297-298.
2 См.: Бирюков П. И. Л. Н. Толстой. Биография. Берлин, 1921. Т. 1. С. 275; Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. С. 564.
3 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1978. С. 51.
4 Неизданные письма Л. Н. Толстого, И. А. Гончарова, Н. А. Некрасова, Ф. М. Достоевского, А. Ф. Писемского и др.: из архива А. Н. Островского. М.; Л., 1932. С. 352.
1 Некрасов Н. А. Поли. собр. соч. М., 1952. Т. 10. С. 258-259.
2 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 328.
3 Фет А. А. Мои воспоминания. М., 1890. Т. 1. С. 105-106.
4 Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. Л., 1965. С. 92.
5 Панаева А. Я. Воспоминания. М., 1986. С. 252.
fi Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1961. С. 148.
7 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 337.
8 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 50.
9 Некрасов Н. А. Поли. собр. соч. Т. 10. С. 272.
10 Переписка Н. А. Некрасова. М„ 1987. Т. 1. С. 222, 227.
1 Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959. С. 191-192.
2 Литературная мысль. М., 1923. Вып. 2. С. 168.
3 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 85.
4 Там же. С. 95.
3 Там же. С. 108.
1 Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, 1857-1903. Спб., 1911. С. 4.
2 Там же. С. 85-86.
3 Там же. С. 7.
4 Там же. С. 6.
5 Там же. С. 9-10.
6 Там же. С. 10-11.
1 Фет А. А. Мои воспоминания. Т. 1. С. 237.
2 Там же. С. 218.
1 Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857 — 1903. Спб., 1911. С. 97.
2 Фет А. А. Мои воспоминания. Т. 1. М., 1890. С. 237.
491
3 Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957. С. 308.
4 Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. 2-е изд., доп. М., 1978. Т. 1. С. 246.
5 Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. С. 128.
1 Морозов В. С. Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика яснополянской школы. М., 1917. С. 21.
2 Там же. С. 22-23.
3 Там же. С. 24.
4 Морозов В. С. Из Исповеди // О Толстом. Междунар. толстое, альманах. М., 1909. С. 132.
1 Морозов П. В. Воспоминания о Толстом... С. 59-60.
2 Фет А. А. Мои воспоминания. Т. 1. С. 217.
3 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой. Биография. Берлин. 1921. Т. 1. С. 414.
4 Фет А. А. Мои воспоминания. Т. 1. С. 239-240.
5 Там же. С. 240.
6 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. Т. 4. С. 85-86.
7 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой. Биография. Т. 1. С. 389.
1 Гусев Н. Н. Жизнь Льва Николаевича Толстого: Молодой Толстой. С. 364.
2 Герцен А. И. Собр. соч. М., 1963. Т. 27. Кн. 1. С. 139.
3 Гусев Н. Н. Жизнь Льва Николаевича Толстого: Молодой Толстой. С. 378.
4 Там же. С. 378.
5 Великая реформа: Юбил. изд. М., 1911. Т. 5. Вкладыш между с. 168-169.
1 Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. Т. 1. С. 436.
2 Там же. С. 437.
3 Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. С. 158.
1 Боткин В. П., Тургенев И. С. Неизданная переписка. М.; Л., 1930. С. 152.
2 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 293.
3 Там же. С. 325.
4 Фет А. А. Мои воспоминания. Т. 1. С. 372.
5 Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 44.
6 Толстая С. А. Дневники. М., 1978. Т. 1. С. 509.
7 Фет А. А. Мои воспоминания. Т. 1. С. 370-371.
8 Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 247-248.
9 Там же. С. 248-249.
10 Там же. С. 291.
1 Рус. вестн. 1862. № 5.
1 Морозов В. С. Воспоминания о Л. Н. Толстом... С. 108.
2 Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой. С. 173.
3 Гусев Н. Н. Жизнь Льва Николаевича Толстого. Молодой Толстой. С. 413.
1 Из воспоминаний А. Л. Толстой.
2 Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне: Воспоминания. М.. 1986. С. 87.
1 Там же. С. 59.
4 Там же.
5 Толстая С. А. Дневники. М.. 1978. Т. 1. С. 474.
6 Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. С. 89.
7 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. С. 481-482.
8 Там же. С. 485.
9 Там же. С. 488.
10 Там же. С. 488-489.
111 Там же. С. 490. 12 Там же. С. 491.
1 Воспоминания А. Л. Толстой.
2 Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. С. 152.
3 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. С. 37-38.
4 Там же. С. 39-40.
5 Там же. С. 4142.
6 Там же. С. 43.
7 Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. С. 211.
8 Толстая С. А. Дневники. С. 44.
9 Там же.
10 Там же. С. 50.
11 Там же. С. 64-65.
12 Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. С. 609.
13 Русская критическая литература о произведениях Толстого. М., 1914. Ч. 2. С. 108.
14 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. М., 1963. Т. 5. С. 262.
1 Грузинский А. Е. Первый период работы над «Войной и миром» // Голос минувшего. 1923. № 1. С. 93 — 100.
2 Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. С. 249.
3 Там же. С. 250.
4 Там же. С. 250.
5 Там же. С. 264.
6 Там же. С. 172.
7 Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. М.; Пг., 1923. Т. 2. С. 16.
8 Фет А. А. Стихотворения и поэмы. Д., 1986. С. 166.
9 Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1986. С. 225.
10 Там же. С. 216.
11 Переписка Н. А. Некрасова. М., 1987. Т. 2. С. 112.
1 Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 66.
2 Там же. С. 86.
3 Там же. Т. 7. С. 122.
4 Там же. С. 121.
5 Там же. С. 64-65.
6 Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. Т. 1. С. 380.
7 Фет А. А. Мои воспоминания. М., 1890. Т. 2. С. 60.
8 Там же. С. 175.
9 Там же. С. 196.
10 Толстой и о Толстом. М., 1927. Сб. 4. С. 159.
11 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т. 1. С. 126.
12 Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. М.; Л., 1936. С. 67.
13 Там же. С. 69-70.
14 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. С. 77.
15 Там же. С. 81.
1 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. С. 497-498.
2 Берс С. А. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. Смоленск, 1893. С. 51.
3 Толстой И. Л. Мои воспоминания. М., 1987. С. 81.
4 Страхов Н. Н. Литературная критика. М., 1984. С. 324.
5 Там же. С. 327.
6 Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. С. 98.
7 Там же. С. 103.
1 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 205.
2 Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого. / собрал Зелинский. М., 1915. Ч. 6. С. 242-243.
3 Толстой И. Л. Мои воспоминания. С. 39.
4 Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. 2. С. 53. '
5 Там же.
6 Письма Толстого и к Толстому: Юбилейный сборник. М.; Л., 1928. С. 216.
7 Там же. С. 239-240.
1 Толстой И. Л. Мои воспоминания. С. 53.
2 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. С. 497.
3 Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. 2. С. 97.
4 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. С. 500.
5 Там же. С. 500.
6 Там же. С. 88.
7 Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, 1870 — 1894. Спб., 1914 С 41
8 Там же. С. 49.
9 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. С. 88.
10 Там же. С. 89.
1 Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 69.
2 Чайковский П. И. Письма к родным. М., 1950. Т. 1. С. 268.
494
3 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой: Биография. Берлин, 1921. Т. 2. С. 269.
4 Там же.
5 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 236.
6 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой: Биография. Т. 2. С. 222.
7 Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 80.
8 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Л., 1983. Т. 25. С. 200.
9 Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. М., 1978. Т. 1. С. 470.
10 Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 116.
11 Там же. С. 117.
1 Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. 2. С. 121.
2 Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 126.
3 Там же. С. 125.
4 Толстая С. А. Дневники. М., 1978. Т. 1. С. 504, 505.
5 Там же, С. 505.
6 Толстая С. А. Дневники. С. 104.
7 Там же. С. 105.
1 Переписка И. С. Тургенева. М., 1986. Т. 2.
2 Фет А. А. Мои воспоминания. С. 350.
3 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой: Биография. Т. 2. С. 296.
4 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой: Биография. С. 350.
5 Там же. С. 335.
6 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. С. 124.
7 Там же. С. 124 — 125.
8 Там же. С. 126.
9 Там же. С. 126 — 127, 129.
' Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. М. 1958. С. 274.
2 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой: Биография. Т. 2. С. 398.
3 Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой. С. 323.
4 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 30. Кн. 1. Л., 1988. С. 166.
5 Там же. С. 168.
6 Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 266.
7 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой: Биография. Т. 2. С. 379.
8 Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 268.
9 Толстой И. Л. Мои воспоминания. С. 139.
10 Толстой И. Л. Мои воспоминания. С. 140.
1 Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому, 1862 — 1910. М., 1936. С.
2 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой: Биография. Берлин, 1921. Т. 2. С.
3 Пругавин А. С. О Льве Толстом и о толстовцах. М., 1911. С. 58.
4 Толстой И. Л. Мои воспоминания. С. 163.
5 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой: Биография. Т. 2. С. 421.
6 Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. С. 172.
7 Там же. С. 174.
1 Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. С. 184. - Там же. С. 185. 1 Там же. С. 185.
4 Сухотина-Толстая Т. Л. Друзья и гости Ясной Поляны. С. 112.
5 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой: Биография. Т. 2. С. 443.
6 Там же. С. 444.
7 Сухотина-Толстая Т. Л. Друзья и гости Ясной Поляны. С. 33.
* Переписка И. С. Тургенева. М., 1986. Т. 2. С. 57. 9 Там же. С. 159.
1(1 Толстой И. Л. Мои воспоминания. С. 89.
" Там же. С. 91.
'- Там же. С. 97.
'-' Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. С. 233.
1 Бирюков П. И. Биофафия Льва Николаевича Толстого. М., Пг., 1923. Т. 2. С. 221.
2 Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976. С. 317.
3 Толстая С. А. Письма Л. Н. Толстому. М., Л., 1936. С. 246, 247.
4 Там же. С. 250.
5 Муратов М. В. Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков по их переписке. М., 1934. С. 75.
6 Толстая С. А. Письма Л. Н. Толстому. С. 256.
7 Там же. С. 261.
* Там же. С. 322.
9 Там же. С. 323.
10 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой: Биография. Т. 2. С. 551 — 552.
1 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1978. С. 351.
2 Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. Т. 2. М., Пг., 1923. С: 168.
3 Владимиров Е. И. Т. Бондарев и Толстой. Красноярск, 1938. С. 56.
4 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. М., 1978. С. 110.
5 Там же. С. 111.
1 Стахович А. Клочки воспоминаний//Толстовский ежегодник. М., 1912. С. 27.
2 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. М., 1978. С. 112.
3 Там же.
4 Стахович А. Указ. соч. С. 42.
1 Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. С. 394.
2 Там же. С. 398.
3 Там же. С. 401.
! Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка. М.; Л., 1930. С. 110.
2 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. М., 1979. С. 128.
3 Там же. С. 144.
4 Там же.
5 Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. М • Л 1936 С. 369.
6 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т. 2. С. 189.
7 Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. Спб., 1911. С. 35.
8 Там же. С. 41.
9 Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого 1828 — 1890. М., 1958. С. 671 — 672.
10 Там же. С. 684.
11 Там же. С. 686.
1 Репин И. Е. Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей. М., 1949. С. 106.
2 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. М., 1978. С. 137.
3 Толстая С. А. Письма Л. Н. Толстому. С. 413.
4 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. С. 130.
5 Толстой Л. Н. Собр. соч./Под ред. П. И. Бирюкова. М., 1913. Т. 18. С. 215, 216.
6 Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой. С. 56.
7 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой: Биография. Т. 3. Берлин, 1921. С. 187, 188.
1 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. С. 159.
2 Там же. С. 131, 132.
3 Там же. С. 132.
4 Толстой Л. Н. Письма гр. Л. Н. Толстого к жене, 1862 — 1910. М., 1913. С. 354 (коммент.).
5 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. С. 138.
6 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т. 2. С. 23, 24.
7 Там же. С. 24.
8 Толстая С. А. Письма Л. Н. Толстому. С. 447.
1 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. С. 214, 215.
2 Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976. С. 201, 202.
3 Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. 3. М., Пг., 1923. С. 164, 165.
4 Толстая С. А. Письма Л. Н. Толстому. С. 456, 457.
5 Победоносцев К. П. Письма к Александру III. M., 1926. С. 254.
6 Толстая С. А. Письма Л. Н. Толстому. С. 462.
7 Там же. С. 465.
8 Там же. С. 467.
9 Там же. С. 467, 468.
10 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой: Биография. Т. 3. С. 249, 251. » Там же. С. 273.
12 Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой. С. 59, 60.
13 Захарьин (Якунин) И. Гр. А. А. Толстая // Вестник Европы. — 1905. № 4. С. 617, 618.
14 Там же. С. 618.
15 Ламздорф В. Н. Дневники. 1891 — 1898. М., Л., 1934. С. 254.
16 Толстая С. А. Письма Л. Н. Толстому. С. 505.
17 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой. Биография. Т. 3. Берлин, 1921. С. 257.
IS Величкина В. М. Голодный год с Львом Толстым. М.; Л., 1928. С. 63, 64, 65, 66.
19 Лев Толстой и голод: Сборник. Нижний Новгород, 1912. С. 189.
20 Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976. С. 308, 309.
21 Там же. С. 307.
! Из личных воспоминаний А. Л. Толстой.
2 Попов Е. И. Жизнь и смерть Евдокима Никитича Дрожжина. Purleigh, 1898. 56, 57.
3 Там же. С. 115.
4 Там же. С. 126.
1 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой: Биография. Берлин, 1921. Т. 3. С. 372.
1 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. С. 234.
2 Там же. С. 236.
3 Там же. С. 237.
4 Там же.
5 Там же.
1 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. С. 515.
2 Там же. С. 516.
3 Танеев С. И. Дневники. М., 1981. Кн. 1. С. 120.
4 Чехов А. П. Поли. собр. соч. Т. 6. С. 85.
5 Там же. С. 87.
6 Бирюков П. И. Духоборцы. М., 1908. С. 6.
7 Там же. С. 13.
8 Там же. С. 14.
9 Там же. С. 20, 22.
10 Там же. С 39.
' Толстая С. А. Письма Л. Н. Толстому. С. 628.
2 Там же. С. 618.
3 Там же. С. 624.
4 Летописи Гос. лит. музея. М., 1948. Кн. 12. С. 129.
5 Толстая С. А. Письма Л. Н. Толстому. С. 643.
6 Летописи гос. лит. музея. Кн. 12. С. 132.
7 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. С. 267.
1 Чертков В. Г. «Где брат твой?». Purleigh, 1898. С. 32.
2 Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. Л., 1965. С. 276.
3 Репин И. Е. Далекое — близкое. Л., 1986. С. 374.
4 Толстой. Памятники творчества и жизни. М., 1923. № 4. С 190__197
5 Там же. С. 192.
6 Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. Спб., 1911. С. 71 72
7 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой: Биография. Т. 3. С. 509.
' Толстая С. А. Письма к Толстому. С. 676.
2 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. М., 1978. С. 262.
3 Там же. С. 240.
4 Там же.
5 Там же. С. 241.
6 Там же. С. 244.
7 Там же. С. 283.
8 Бирюков П. И. Л. Н. Толстой: Биография. Т. 3.
9 Толстая С. А. Дневники. Т. I. — M., 1978. С. 252.
10 Там же. С. 293.
11 Там же. С. 327.
12 Там же. С. 333.
Т. 3. С. 519.
1 Толстая С. А. Дневники. Т.1. С. 378.
2 Там же. С. 391.
3 Бирюков П. И. Духоборцы.С. 79, 80. 4 Толстая С. А. Дневники. Т.1. С. 412.
1 Толстая С. А. Дневники. Т. 1. С. 454.
1 Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича. М.; Пг., 1923. С. 4.
2 Там же.
1 Толстовский ежегодник. 1912. М., 1912. С. 158.
2 Толстой. Памятники творчества и жизни. М., 1923. № 3. С. 139.
3 Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. 4. С. 22.
4 Толстая С. А. Дневники. Т. 2. М., 1978. С. 16.
5 Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. 4. 1923. С. 22, 23.
6 Толстая С. А. Дневники. М., 1978. Т. 2. С. 17.
7 Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. 4. С. 30.
8 Там же. С. 28.
9 Там же. С. 29.
10 Там же. С. 32.
11 Там же.
12 Толстой. Памятники творчества и жизни. М., 1923. № 3. С. 111, 112.
13 Там же. С. 113.
14 Там же. С. 113, 114.
15 Там же. С. 131, 132.
1 Лазаревский Б. А. В Ясной Поляне // Л, Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т. 2. С. 309.
2 Толстая С. А. Дневники. Т. 2. С. 54.
3 Там же. С. 57.
4 Воспоминания А. Л. Толстой.
5 Толстая С. А. Дневники. Т. 2. С. 57.
1 Толстая С. А. Дневники. Т. 2. С. 80.
2 Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. 4. С. 72.
3 Там же. С. 82.
4 Толстая С. А. Дневники. Т. 2. С. 84.
5 Там же-.
1 Толстая С. А. Дневники. Т. 2. С. 101. - Там же. С. 105.
3 Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. М., 1960. Т. 2. С. 473.
4 Из личных воспоминаний А. Л. Толстой.
1 Маковицкий Д. П. Яснополянские записки. М., 1923. Вып. 2. С, 20, 21.
2 Лит. наследство. 1979. Т. 90. кн. 1. С. 162.
3 Там же. С. 158.
4 Там же. С. 131.
5 Маковицкий Д. П. Яснополянские записки. М., 1922. Вып. 1. С. 53.
6 Лит. наследство. 1939. Т. 37/38. С. 321.
1 Лит. наследство. 1979. Т. 90. Кн. 1. С. 101.
2 Лебрен В. Толстой (Воспоминания и думы). М., 1914. С. 20, 21.
' Из личных воспоминаний А. Л. Толстой.
2 Там же.
1 Толстой и о Толстом. Новые материалы. Вып. 1. М., 1924. С. 82, 83.
2 Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. 4. М.; Пг., 1923. С. 146.
3 Там же.
4 Лит. наследство. 1979. Т. 90, кн. 2. С. 348, 249.
5 Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. Т. 2. М., 1960. С. 641.
6 Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. 4. М.; Пг., 1923. С. 167.
7 Там же. С. 165.
8 Там же. С. 164.
9 Там же. С. 156.
10 Там же. С. 164. |! Там же. С. 151.
1 Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. 4. С. 174__175.
2 Там же. С. 177.
3 Там же. С. 189.
1 Воспоминания А. Л. Толстой.
1 Лит. наследство. Т. 37/38. С. 342.
2 Лит. наследство. 1979. Т. 90, кн. 4. С. 233.
' Дневник А. Л. Толстой.
2 Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. М., 1936. С. 793.
1 Из дневника А. Л. Толстой.
2 Толстая С. А. Письма Л. Н. Толстому. С. 794. 795.
3 Дневник А. Л. Толстой.
4 Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975. С. 407, 408.
5 Дневник А. Л. Толстой.
1 Толстая С. А. Письма Л. Н. Толстому. С. 795, 796.
2 Смерть Толстого. Сборник. М., 1929. С. 15. 5 Там же. С. 24.
СОДЕРЖАНИЕ
От автора ............................................................................................... 5
Том первый............................................................................................. 6
Глава I. Происхождение Толстого........................................................... 9
Глава П. Первые проблески..................................................................... 21
Глава III. Смерть отца............................................................................. 27
Глава IV. Перелом.................................................................................. 32
Глава V. Нерадивый студент.................................................................... 38
Глава VI. Помещик................................................................................. 43
Глава VII. Кавказ ................................................................................... 48
Глава VIII. Первое произведение.............................................................. 56
Глава IX. Лень, раздражительность и бесхарактерность. Дунай................... 63
Глава X. Севастополь.............................................................................. 68
Глава XI. Петербург................................................................................ 76
Глава XII. Неудачи ................................................................................. 81
Глава ХШ. Литераторы, заграница, смертная казнь ................................... 86
Глава XIV. «Бабушки»............................................................................. 89
Глава XV. Маленький музыкант............................................................... 92
Глава XVI. «Пусть плюют на алтарь» ................................;...................... %
Глава XVII. «У каждой души свой путь»................................................... 102
Глава XVIII. Община, соединенная связью любви...................................... 109
Глава XIX. Смерть любимого брата.......................................................... 115
Глава XX. «Цивилизованные европейцы» .................................................. 118
Глава XXI. Общественная деятельность.................................................... 124
Глава XXII. Ссора................................................................................... 126
Глава ХХШ. «Нас тысячи, а их миллионы»............................................... 132
Глава XXTV. Обыск................................................................................. 138
Глава XXV. «Если бы я когда-нибудь женился...»...................................... 143
Глава XXVI. «Женат н счастлив».............................................................. 152
Глава XXVH. Как родилась «Война и мир»................................................ 159
Глава XXVni. Война и мир...................................................................... 168
Глава XXIX. Семья................................................................................. 181
Глава XXX. «Зачем мы хотим дать образование народу» ............................ 188
Глава XXI. «Начинает находить эта дурь»................................................. 194
Глава ХХХП. Художник или моралист? .................................................... 201
Глава ХХХ1П. Искание............................................................................ 209
Глава XXXIV. «Хворь» ............................................................................ 215
502
Глава XXXV. Начало отхода от православия. Достоевский. Убийство
Александра II ......................................................................................... 221
Глава XXXVI. Жизнь наша пошла врозь ................................................... 227
Глава XXXVII. Что есть истина?.............................................................. 233
Том второй ............................................................................................. 244
Глава XXXVni. «В какую сторону идти»................................................... 247
Глава XXXIX. «Умственная пища» для народа........................................... 256
Глава XI. «Кайся богу, не бойся людей» ................................................... 264
Глава XLI. «Прямая линия» ..................................................................... 269
Глава XLII. Популярность Толстого росла................................................ 274
Глава ХЫП. «Не все вмещают слово сие, но кому дано»............................ 282
Глава XLIV. Отречение от собственности.................................................. 289
Глава XLV. Голод................................................................................... 295
Глава XLVI. Царство божие внутри вас .................................................... 306
Глава XLVII. Два мира............................................................................ 313
Глава XLVIII. «Зачем?»........................................................................... 320
Глава XLIX. Гонения .............................................................................. 326
Глава L. «Помоги, отец!»......................................................................... 335
Глава LI. «Награда» и дело совести.......................................................... 345
Глава ЬП. «Видно так надо»..................................................................... 352
Глава LIII. Общественная деятельность Толстого. «Воскресение» — для
духоборов............................................................................................... 360
Глава LIV. Семейные горести .................................................................. 366
Глава LV. Захотелось написать драму....................................................... 369
Глава LVI. Отлучение ............................................................................. 374
Глава LVII. «Зачал старинушка покряхтывать» ......................................... 380
Глава LVIII. «Нужно угодить только богу» ............................................... 390
Глава LIX. Японская война...................................................................... 395
Глава LX. Революция 1905 года................................................................ 401
Глава LXI. Раскрытие............................................................................. 407
Глава LXII. Толстовство и ... стражники................................................... 414
Глава LXIII. «Не могу молчать». Юбилей.................................................. 420
Глава LXIV. «Все тяжелее и тяжелее...»................................................... 430
Глава LXV. Новые испытания.................................................................. 436
Глава LXVI. Разлука............................................................................... 442
Глава LXVII. Радость совершенная .......................................................... 449
Глава LXVIII. Последний месяц в Ясной Поляне....................................... 459
Глава LXIX. «На свете много людей...» .................................................... 467
А. П. Чудаков «Написано дочерью Толстого»............................................ 480
Примечания............................................................................................ 488
Список литературы................................................................................. 490
Подготовил к обнародованию:
Ваш брат-человек Марсель из Казани,
мыслитель,
искатель Истины и Смысла Жизни.
«Сверхновый Мировой Порядок, или Истина Освободит Вас»
www.MarsExX.ru/
marsexxхnarod.ru
|
Добрые, интересные и полезные рассылки на Subscribe.ru Подписывайтесь — и к вам будут приходить добрые мысли! | |
| copyright: везде и всегда свободно используйте эти тексты по совести! © 2003 — 2999 by MarsExX (Marsel ex Xazan) www.marsexx.ru Пишите письма: marsexxхnarod.ru Всегда Ваш брат-человек в труде за мир и братство Марсель из Казани |